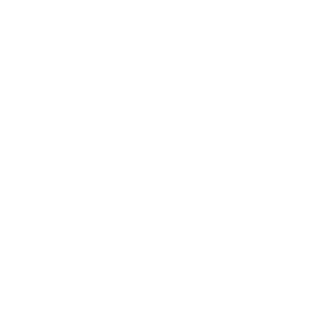Тех, кто справляется с адаптацией, ничтожно мало – всего 10 процентов, около 2 тысяч человек… «МК Черноземье» пообщался с бывшими детдомовцами, чтобы понять, в чем причина такой ужасающей статистики.
«Никто не учил нас быть женщинами»
— Только мое имя измени, пожалуйста, — говорит Алена Иванова, заправляя непослушную прядь волос за ухо. — Я сделала многое, чтобы меня не ассоциировали с детдомовской, и не говорю людям, что росла в интернате как раз из-за стереотипов. Они сильны, и с этим ничего поделать нельзя.
Алене — 28 лет, работает в крупной компании по разработке сайтов. Не замужем.
— Вопрос о браке сейчас самый главный, который мне задают девочки из детдома. Когда я говорю, что собираюсь родить лет в 35, они берутся за головы и очень сокрушаются по этому поводу. Разумеется, приводя в пример свои полусемьи, которые для меня примером не являются. Никого не хочу обидеть, но повторять ошибки своих родителей не планирую, а моя семья была именно «полу». Цельным зерном ее назвать было нельзя.
История Алены банальна. Такую же может рассказать большинство воспитанников детских домов.
— Мама страдала алкоголизмом, я воспитывалась бабушкой. Кто мой отец, не знаю. Даже чужую фамилию ношу. История моего появления на свет особой тайной не покрыта, однако я всю жизнь живу под фамилией второго мужа матери, который к моему зачатию не имел никакого отношения. В детский дом попала после смерти бабушки, которая изо всех сил пыталась дать мне начальное образование: она заставляла меня читать по слогам, хотя я это ненавидела. Я и ее ненавидела за это какое-то время, ведь на улице все гуляли, а я штудировала букварь. Сейчас мне очень стыдно за это. Читать научилась еще в детском саду. В школе читала быстрее всех. Только тогда я поняла, что делала моя бабушка, и сказала ей спасибо. На самом деле, до сих пор ей это говорю, хоть ее уже со мной давно нет.
На интернат Алена не жалуется.
— Я росла там, где воспитателям как раз было не все равно. Нас учили многому: готовить, стирать, убирать, делать ремонт. Однако в подобном образовании были серьезные минусы: никто не учил нас быть женщинами, правильно тратить деньги, никто толком не объяснил, что будет за пределами этого учреждения. После того как я окончила школу, и пришла пора покидать детский дом, я могла многое: петь, танцевать, декламировать Мандельштама, Пушкина, Блока и других великих. Но ни один из них не открыл мне тайны, как, например, верно распределить бюджет. Пришлось постигать это методом проб и ошибок. Первый и последний «женский секрет», который открыла мне мама, был таков: «Когда мужчина, которого ты любишь, придет с работы, не разговаривай с ним и не проси ни о чем. Сначала посади его за стол и накорми любимым блюдом. Потом проси, что хочешь». Тогда мне казалось это каким-то бредом. Сейчас я понимаю, что это работает.
Жизнь по ГОСТу
— Кормили отвратительно! В том смысле, что не давали жареную картошку, которую я так люблю. Тогда ненавидела салат из свеклы, сейчас готовлю. Там кормят по
ГОСТу: определенное меню, определенные порции. Может, потому что не было свободы выбора, еда казалась плохой. Не знаю. Сейчас, не поверишь, еда из «Макдоналдса» кажется мне хуже, чем там! Хотя во времена детдома думала, что ничего омерзительнее ее нет. Оказывается, есть — это гамбургер.
Эксцессов у нас почти не было: группы девочек, как правило, менее конфликтны, чем мальчуковые. Когда привозили новенькую, девочки сразу начинали показывать, где она будет спать, с кем в классе учиться, подробно рассказывали о распорядке дня. Удивительно, но мы находили язык мгновенно, без трений и напряжения. Сразу начинали меняться вещами: мы очень это любили. Сама понимаешь, мы все же девочки. В группе мальчиков все было по-другому: там долго присматривались к новичку, проверяли его, прощупывали, что ли. Там надо было сразу себя показать «альфа-самцом», иначе ты мог стать изгоем.
Знаешь, дети в детдомах делятся на два типа: тех, кто всегда сбегает, думая, что вокруг одни враги, и тех, кто из этих врагов делает себе друзей. Вот я отношусь ко второму типу. Мне легче скорректировать обстановку, чем убежать от нее. Ведь убежать от нее невозможно.
Самый сложный этап в жизни воспитанников интернатов — когда интернат покидаешь.
— Только спустя время начинаешь обзаводиться друзьями и знакомыми. Это не так легко сделать сразу. И это одна из причин, из-за которой нам тяжело ассимилироваться в общество. Поэтому многие продолжают поддерживать исключительно детдомовские связи. Не очень хорошая практика. Так гораздо сложнее сформировать новое окружение.
Алена не жалуется на недостаток поддержки от государства. Говорит, что материальной помощи было достаточно, но детям нужно было не только это.
— Думаю, многие из нас были бы гораздо успешнее, если бы могли понять свои основные проблемы и как-то решить их. В детских домах есть психологи, но они редко могут достучаться до детей. В основном мы проходим какие-то тесты, выбираем какую-то карточную ерунду из предложенных геометрических фигур. На этом все. Не знаю, кому это помогло. Мне — нет. Думаю, основная обязанность психолога в детском доме — понять, что за ребенок перед ним, «оценить ущерб» и ненавязчиво начать работу в индивидуальном порядке.
Еще нет «контрольного пакета», как я это называю. Когда ты покидаешь детдом, то получаешь листок, даже не помню с чем… Какие-то телефоны непонятные. Думаю, его сразу все выбрасывают. А должны давать не листок, а альманах с информацией о том, «кто виноват и что делать». Я не только о телефонах аварийных служб. Необходимо подробно описать выпускнику, куда он может обратиться, указать все: от номеров ближайших больниц до адресов ближайших недорогих парикмахерских. Ведь ты начинаешь жить один, тебе не больше 17 лет, а вызвать аварийку, если труба протекла, не можешь самостоятельно.
«Мы похожи на наших родителей, и в этом наша главная проблема»
— Из моего детского дома лишь человек десять легально неплохо зарабатывают. Для нас это гораздо легче, чем иметь нормальную семью. Все вместе еще не удавалось никому. Матери-одиночки, непутевые отцы… История повторяется? Да, безусловно. Мы похожи на своих родителей, и в этом наша главная проблема. Нельзя игнорировать генетическую информацию, но и делать вид, что она — основополагающий фактор в жизни, тоже нельзя. Самый оптимальный вариант — это признаться себе в том, что ты был рожден в семье, которая не готова была иметь детей. Все. Признался, поплакал, пожалел себя и пошел заводить будильник на завтра, потому что завтра новый день и его нельзя прожить как попало.
Вопрос об идеальной семье — самый сложный для меня и вообще для сирот. Это как спросить об идеале мужчины или женщины, матери или отца. Их нет, как и идеала семьи. Я планирую иметь семью, конечно. Но если не найду мужчину, который бы стал хорошим отцом и который бы видел во мне хорошую мать, оставлю эту затею. Возможно, потому что я страшно боюсь не справиться… Это немного на меня давит. Многие детдомовцы стараются побыстрее создать семью, которой толком ни у кого не было. Отсюда ранние браки, ранние разводы, страдания детей. Все по второму кругу. Я против этой цикличности.
И, увы, но я согласна со стереотипом: «Детдомовский — значит, неблагополучный». Это весьма прискорбно, но в большинстве случаев так и есть. Да, с родителями не повезло, трагедия, но жизнь на этом не заканчивается. Сейчас некоторых ребят, которых я знала близко, уже нет в живых. И погибли они по каким-то абсурдным причинам. Кого винить? Не знаю…
Мамы для них были идеальными
Надежда Асеева знала, кого винить. Судьбу, которая слишком жестоко и несправедливо обошлась с девочкой из благополучной семьи.
— У меня были замечательные родители. Причем оба руководители. И я помню, как в детстве на вопрос, кем я хочу стать, отвечала: «Начальником». В принципе, так и получилось. Сейчас, в свои 30 лет, занимаю пост топ-менеджера крупной сети магазинов в Тюменской области, куда переехала из Черноземья не так давно. К этому лежал долгий путь: два высших образования, три средне-специальных, куча курсов и дополнительных обучений. Иногда думаю, удалось бы мне это или нет, если бы родители были живы. Я не знаю ответа на этот вопрос. Скорее всего, меня бы просто «пристроили» на хорошее место и все. Слишком уж я была избалована. Представь себе девочку, которая до 13 лет не умела включить газовую плиту.
Счастливое детство для Нади закончилось, когда ей было 13.
— Родителей не стало в 97-м, и в стране был, прямо скажем, не лучший период. Мне очень повезло, что я вначале попала не в приемник-распределитель, а в приют. Там было нормальное питание, отличный присмотр. Ходила в обычную школу. Только дети в классе смотрели странно. Да и мне особенно дружить ни с кем не хотелось. Уже тогда я понимала, как жизнь меня мокнула в лужу.
Так прошло 9 месяцев. Потом был детский дом. Я навсегда запомнила первый день там. Сразу, как я зашла, в нос ударил запах горелой каши. Куча детей, одеты одинаково и бедненько. Нас сразу же повели в столовую. Порции маленькие, еда невкусная. Когда я думаю о детском доме, то вспоминаю, как постоянно хотелось есть. Помню, как вечером на ужине все набирали хлеб и ели, ели, ели. Самое классное было сходить на выходные к родственникам и принести еды. Сразу все собирались и начинали ее поглощать.
Тем летом моя жизнь изменилась. Нас отправили в пионерский лагерь, и посреди ночи я проснулась оттого, что около меня лежит парень. Я кое-как от него спряталась в комнате вожатых. А через пару дней подралась с парнем: сломанный нос, сотрясение и вечное понимание, что с мужчинами драться нельзя. Отношения с другими детдомовцами не складывались. Я была чужая, домашняя. У меня были хорошие любящие родители… Но знаешь, что странно? Эти дети, несмотря на все то, что им сделали их родители, никому не позволяли плохо сказать о маме. Мамы у них были идеальными. Одна из девочек после выхода из детского дома поставила памятник на могиле матери. Хотя мать пила, гуляла и не думала, что где-то есть дочка. Другую девочку мать выгоняла на мороз в легкой одежде. В каждой истории — боль. У кого-то родители сидели, у кого-то пили… При этом для детдомовцев они оставались самыми лучшими.
«Теперь я ничего не боюсь»
— Потом была зима, и это был кошмар. Холодно, из окон дуло, спали в теплых свитерах, штанах и носках. Сверху два тонких верблюжьих одеяла. Утром так не хотелось вставать и умываться. В школе тоже было сложно. Я училась в классе с домашними детьми. Все сытые, хорошо одетые, свободные в выборе друзей и развлечений, у всех дома — тепло и любовь, а у меня на душе только злость и обида. Почему это должно было произойти именно со мной? Чем я хуже?
При этом Надя тепло вспоминает воспитателей:
— Они просто выворачивались наизнанку, чтобы мы не чувствовали себя обделенными. Это сейчас куча спонсоров на каждый детский дом, а раньше такого не было. Год детского дома я выжила только на злости и упрямстве. Я хотела это пережить и не скатиться вниз.
Знаешь, я рада, что прожила это, мне теперь ничего не страшно. Жизнь ударила меня об стену, но я поняла, что никто мне ничем не обязан. Жаль поломанных судеб детей: одна девочка после детского дома сразу родила, несмотря на то, что осилила только 7 классов к 16 годам, парень пошел в тюрьму. Пару лет назад заходила туда — все изменилось: дети хорошо одеты, накормлены, у всех современные гаджеты. Только тоски в глазах меньше не стало…
Ко Дню заботы «Афиша Daily» вместе с фондом «Солнечный город» сделала фотопроект с наставниками и их подопечными. Поговорили с героями о том, как им удается найти общий язык, как общение взрослого и ребенка меняет жизнь обоих и что наставничество дает тем, кто решил взять на себя ответственность за будущее воспитанника детского дома.
Виктория и Наташа
Виктория, 42 года
Наставница
О фонде «Солнечный город» я узнала в 2009 году из объявления в местном детском центре. Им нужны были игрушки и одежда, и я стала периодически отвозить их на гуманитарный склад. Захотелось стать волонтером, но возможности для этого появились только год назад. После заполнения анкеты меня пригласили на собрание, где я подробно узнала о проекте «Наставничество». Решилась поучаствовать не сразу: волновалась, было страшно зайти в детский дом, страшно взять ответственность за подростка, были сомнения — получится ли у меня? Но после прохождения тренинга что‑то внутри екнуло, что это мое.
Знакомства с Наташей я ждала долгих четыре месяца. Когда куратор проекта позвонила и пригласила в детдом для встречи с подопечной, я разволновалась. Что говорить? Что надеть? В назначенный день встречались сразу несколько пар: подростки заходили в комнату, и я гадала, кто же из них ко мне. И вот врывается высоченная красотка, хватает меня в охапку и произносит: «Я ждала тебя два года!» И все мои сомнения в этот момент лопнули — я там, где и должна быть!
Общение у нас сложилось сразу. Когда Наташа должна была приехать к нам в гости, у меня был план: вместе приготовить ужин и провести время с нашей семьей. Но она просто вырубилась — легла на диван и проспала несколько часов.
В детдоме всегда кипеж, нельзя закрывать двери, а у нас она впервые оказалась в безопасной и тихой обстановке. Когда я отвозила Наташу домой, мы разговорились: она вспоминала детство, родителей. Думаю, с этого момента она окончательно доверилась мне как взрослому другу.
Трудностей у нас было мало — только из‑за «провинностей» Наташи в детском доме, которые могли наказываться лишением встреч с наставниками. У девушки вспыльчивый характер, она не терпит несправедливости, как и многие подростки, и всегда бурно реагировала, когда что‑то казалось ей неправильным, могла даже поссориться с воспитателями. Но что бы ни происходило, у нас всегда оставалась связь по телефону. В такие моменты я поддерживала ее, подсказывала, нужно ли извиняться. Мне удалось научить Наташу признавать ошибки и просить за них прощения. Она поняла, что это не страшно и может давать положительный эффект. А ее поведение в детдоме улучшилось настолько, что однажды эти перемены в ее характере похвалил даже директор.
Наставничество помогает понять, что воспитанники детдома — не плохие люди. Например, у моей дочери был урок в школе, где обсуждалось материнство. Полина сказала, что, если у нее не получится родить, она возьмет ребенка из детдома, а ей ответили, что все дети там — «больные» и «трудные». Дочка рассказала им о Наташе и о важности нормального человеческого отношения к воспитанникам детдомов — надеюсь, получилось утереть нос «педагогу».
Неожиданно для себя я многое приобрела за время общения с Наташей. Она научила меня радоваться мелочам — молочному коктейлю («Что такое милкшейк?» — спросила Наташа, когда впервые оказалась в кафе), прогулкам по берегу Обского залива («А в ракушках есть жемчуг?»). Как‑то мы просто пили чай в кафе с блинчиками и смотрели на закат: Наташа положила голову мне на плечо, так и сидели. Она часто вспоминает это и просит снова туда съездить.
Наташа, 17 лет
Воспитанница детского дома
Воспитанницей детского дома я стала в 14 лет. Папа погиб из‑за наркотиков, когда мне исполнилось 12. А еще через год мама умерла от пневмонии. Родители всегда ругались и даже дрались — хороших моментов не было. Когда я осталась одна, родственники не взяли меня к себе: у всех уже были свои дети, и я была не нужна.
В детском доме не было страшно: он находился в нашем селе, я знала всех ребят оттуда, мы вместе учились в школе. Там я нашла много возможностей развиваться: занялась танцами и полюбила спорт. После уроков мы делали домашнее задание, а потом бежали играть в баскетбол и волейбол. По вечерам мы собирались в домашнем кинотеатре, а летом ездили в лагерь и на Обское море.
«Солнечный город» давно сотрудничает с нашим детским домом, поэтому я знала, что у ребят могут быть наставники. Я сразу заметила Вику: такая красивая, милая и добрая. Очень хотелось, чтобы именно она стала моей наставницей. После знакомства мы пошли гулять, но еще немного стеснялись. Вторая встреча пришлась на мой матч по волейболу. Вика приехала к нам в Криводановку (село в Новосибирской области. — Прим. ред.) и болела за меня — было приятно, ведь впервые кто‑то из близких присутствовал на моих соревнованиях.
За время наставничества Вика стала очень важным для меня человеком. Порой даже хочется, чтобы она была моей мамой, настолько тепло она относится ко мне. Вика поддерживает меня в любых начинаниях, поднимает настроение. Когда мы долго не видимся, то общаемся в мессенджерах, а в разлуке даже иногда плачу, настолько она мне дорога. Раньше мне было грустно, так как меня никто не навещает из близких, из родственников я ни с кем не общаюсь. Вика стала первой, кто приезжал ко мне каждые выходные, звала с собой в кино, магазин или кафе. Вдвоем нам всегда весело и тепло. У нас даже появился свой ритуал: вот уже вторую зиму мы ездим на Бердскую косу делать красивые фотографии.
Пока я не решила, кем вижу себя в будущем, но точно хотела бы стать наставником у ребенка из детского дома. По себе знаю, как дети радуются таким смелым и добрым людям. Возможно, когда у меня будет свое жилье и стабильный доход, я даже смогу усыновить ребенка.
Яна и Соня
Моим первым участием в деятельности фонда «Солнечный город» была помощь в закупке средств гигиены для маленьких детей. Я захотела узнать больше о работе организации, в том числе и о волонтерстве. Мне рассказали про «Наставничество», когда взрослые общаются с ребенком и становятся ему другом, — так мы с Соней нашли друг друга. С первой встречи было чувство, что мы знакомы уже много лет. Мои родные очень хорошо восприняли участие в Сониной жизни. Она стала членом нашей семьи: приходит в гости ко мне и моим родителям, летом вместе ездим на дачу. Соня может общаться с моей мамой, а праздники отмечаем в кругу нашей семьи.
Наши встречи были разнообразными — мы много общались, и я всегда старалась окружить ее заботой. Конечно, иногда приходилось проводить с ней серьезные беседы — о житейских делах или школе, на которую часто делался акцент. Подростковый возраст — это время, когда не очень хочется учиться. Мотивировать Соню удалось личным примером: я рассказывала, как занималась в ее возрасте и с чем сталкивалась.
Самый сложный момент — это выпуск из детдома. Из мира, где ребенок находится под полным контролем взрослого, он попадает в другой, где предоставлен сам себе. Даже в колледже то, как и чем они живут, никого не волнует , главное — приходить в общежитие. Детям выдают деньги, но они не умеют ими пользоваться. Я объясняла, как нужно распределять средства, чтобы хватало на еду и одежду. Сейчас Соня живет самостоятельно, а я помогаю только в вопросах здоровья: договариваюсь с врачами и записываю ее на прием.
Очень вдохновляет видеть, насколько благотворно твое участие влияет на ребенка, как он тянется к тебе, как ему важны твои забота и тепло. Это то, что дает мне силы. Наставничество учит меня быть терпимее и внимательнее к окружающим. Мы много фокусируемся на себе, а когда замечаем, что происходит у людей, это помогает понять, что жизнь — это еще и то, что ты можешь дать другим.
Соня, 20 лет
Бывшая воспитанница детского дома
В центр «Созвездие» я попала в 2017 году и прожила там два года. Оказалась я там после многочисленных и неудачных попыток инспекторов по делам несовершеннолетних изменить моих родителей и помочь им справиться с алкогольной зависимостью. С Яной я познакомилась в 2018 году в детдоме. Воспитатели предупредили, что ко мне придет наставник. Я переживала, что он мне не понравится, но вышло наоборот. Мы долго разговаривали, оказалось, что у нас много общего. Даже ее дача и дом, где я жила до «Созвездия», находились в одном поселке. Общий язык мы нашли почти сразу, потому что Яна была старше и опытнее меня. Ей всегда удавалось найти подход ко мне, дать совет, что‑то объяснить, даже поругать меня — но только чтобы я стала лучше.
Появление наставника — одно из лучших событий в моей жизни. Я считаю, что каждому ребенку из детдома нужен взрослый, который станет для него семьей. Тот, кто будет во всем поддерживать, консультировать. После выпуска из детдома не все воспитанники знают о своих правах, не всегда могут получить помощь — и в таких ситуациях спасает наставник, который знает ответы на вопросы. Яна помогает мне во всем, от лекарств, если я заболела, до мелочей — с учебой или поездкой на дачу. Она заменяет мне маму, настолько это родной человек.
Вместе с ее появлением в моей жизни стало больше ярких моментов. Мне запали в душу воспоминания, как мы праздновали Новый год: собрались всей семьей за столом, разговаривали, ходили смотреть салют. Еще нравится вместе ездить на дачу в машине, а по дороге смеяться над шутками, петь и по приезде помогать маме Яны. Этим летом я даже сама жарила шашлык, и всем понравилось!
Нас с Яной сближает любовь друг к другу, любовь матери и дочери, любовь двух друзей. Я могу доверить ей все, а в будущем хочу быть такой же. Успешным человеком, Соней, которая всего добьется, сможет построить счастливую семью и помогать другим. Хотела бы в будущем открыть собственное дело и иметь возможность поддерживать детей из детдомов.
Аня и Вероника
Семь лет назад я стала преподавательницей йоги — это был мой способ сделать что‑то хорошее для окружающих, помочь им улучшить здоровье и прийти к внутренней гармонии. Тогда же я и заинтересовалась темой волонтерства: людей из этой сферы часто встречались мне на занятиях. Одно время я вместе с другими добровольцами ездила в детские дома, но наставничество подошло мне больше. Проще концентрировать внимание на одном ребенке и быть ему другом, а не приезжать к детям толпой с волонтерами и делать развлекательные мероприятия.
Стать наставницей окончательно решилась спустя полгода после того, как прошла тренинг в фонде. Эти шесть месяцев понадобились, чтобы понять, что я готова взять на себя такую ответственность. Первая встреча с Вероникой прошла онлайн, в разгар пандемии. Поначалу было волнительно, но вскоре мы нашли общий язык: стали регулярно созваниваться, а потом и встречаться. Из‑за правил детдома видеться с Вероникой получалось не так часто: ее не всегда отпускали, и мне казалось, что никому не нужно мое наставничество и помощь. Справиться с сомнениями помогла психолог — от нее я узнала, что Вероника очень рада нашему общению и нуждается в нем.
Свободное время мы всегда проводим по-разному, занятие выбирает Вероника. Например, печем блины у меня дома, ходим в кино или кафе, гуляем по набережным. Вместе мы ездили в дельфинарий и катались на сноуборде. Еще много говорим о ее будущем, поступлении в колледж, планах в профессии. Все это помогает ей больше думать о взрослой жизни и обрести веру в себя, а не вариться в текущих проблемах внутри детдома.
Наставничество дает возможность делать добро. Мне важно, что я могу стать опорой человеку, у которого этого не было в семье, помочь ему поверить в себя.
Аким и Костя
Два года назад по работе я переехал из Иркутска в Новосибирск. В интернете часто встречал посты, где люди рассказывали, как они помогают воспитанникам детдомов, ездят к ним, организовывают мероприятия. Мне тоже захотелось поработать с ребятами, так как казалось, что мне есть, чем с ними поделиться. Я отправил в детский дом сообщение с предложением помощи. Ответ пришел где‑то спустя месяц: сказали, что это должно проходить через благотворительные фонды. Так я решил участвовать в «Наставничестве». Семинары и тренинги лишь укрепили желание быть полезным для детей и понимание, что мне это нужно.
Обычно к наставникам прикрепляют воспитанников, но в моем случае им стал выпускник — Костя. Пока парень находился в детском доме, все шло хорошо: он был спокойным, неконфликтным. Но после выпуска, когда Костя почувствовал беззаботную, взрослую жизни, «расслабился»: появились сомнительные гулянки и алкоголь, пропуски по учебе, проблемы в общении.
За Костю, я думаю, переживали больше, чем за других выпускников. Воспитатели верили в него, а с возрастом он стал не совсем таким, каким его хотели видеть. Костя подросток поколения Z, от которого ждали слишком многого, а он просто хочет жить, кайфовать без мыслей о будущем или перспективах. Наше с ним наставничество оказалось не сложнее, чем у других: изначально он сторонился меня, как и любого взрослого, но со временем увидел во мне старшего друга, которому можно доверять и рассказывать то, что другим знать не нужно.
Найти общий язык было нетрудно. На первой же встрече я убедил его, что не буду контролировать каждый шаг, что я всего лишь взрослый товарищ, который понимает его мироощущение. Мы общаемся около шести месяцев: Костя работает в гостинице для домашних питомцев и живет самостоятельно. Иногда мы встречаемся, ходим в бильярд, боулинг, кино или играем в настолки.
У нас не очень много общих взглядов, кроме любви к большой и вкусной шаурме, но это и не критично. Главное для меня — помочь Косте влиться в общество так, чтобы его приняли.
Мне важно видеть, как он социализируется, строит планы. Постоянно напоминаю Косте, что если он не знает, как повести себя, то всегда может обратиться за советом. Не стараюсь завлечь парня своими занятиями или поменять круг общения, могу только показать, чем увлекаюсь, и познакомить со своими друзьями. И это касается всего остального: отдыха, работы, эмоций, поведения. Тем самым я, возможно, расширю его мировоззрение и предоставлю возможность выбора в более широком диапазоне.
Окружение по-разному относится к моему наставничеству. Кто‑то говорит, что это хорошее дело, кто‑то удивляется, спрашивает: «Зачем тебе это надо?» Есть и те, кто относится нейтрально. Но абсолютно все уважают этот выбор, потому что он мой. Меня знают человеком, который необдуманно ничего не делает. «Наставничество» — хороший проект, который учит доброте и человечности.
Юрий и Артем
О фонде и проекте я узнал случайно — увидел баннер на улице, изучил его вдоль и поперек, записал контакты, позвонил и подал заявку. Сложно сказать, почему решился на это. Было желание принести пользу кому‑нибудь. Мне не подходил вариант помогать деньгами, хотелось выстраивать человеческие отношения.
Я верю, что к любому человеку можно найти подход, главное — соблюдать обоюдные интересы. Общение с Артемом я выстраивал, основываясь на этом принципе: учитывал и свои, и его границы, сразу говорил, если что‑то идет не так. Так бывало, например, с долгом: иногда он забывался и не возвращал его вовремя, но путем обсуждения [личных границ] мы стабилизировали финансовые отношения. В детском доме он часто ссорился с воспитателями, спорил, но мы старались слушать друг друга и избегать обид или претензий.
Сложностью в наставничестве для меня стало умение сдерживать себя. Иногда взгляды человека кажутся глупыми, и в ответ хочется сказать что‑то неприятное. Опыт с Артемом научил меня, что люди делают резкие и далекие от реальности выводы не от глупости, а от нехватки опыта и знаний. Нужно не обижаться или критиковать собеседника, а наоборот, привести его логически к тому, чего не хватает для полноты картины. Не убивать желание размышлять на сложные темы, а добавить мотивации к изучению мира.
С Артемом мы общаемся уже пять лет: в первые годы он беспокоился, не был уверен, что мы будем долго поддерживать связь. Но со временем, сами не осознаем как, для нас стало естественным присутствие в жизни друг друга.
Большая часть моей помощи в жизни Артема состояла в том, чтобы научить его самостоятельности и уверенности в себе. Я старался не акцентировать внимание на своих поступках. Хотелось, чтобы он понял: «Будешь действовать — будет результат». Особенно сложно с этим было после выпуска из детдома: Артем был уверен, что все плохо, все мешает, ничего не получится. Перестройка этого мышления путем разговоров заняла год. Затем я научил его концентрироваться на хорошем, что важно уметь радоваться и воспринимать позитивно то, что есть, и при этом не останавливаться на достигнутом. Я активно участвовал в его поступлении в колледж, делился идеями, где можно заработать деньги и куда сходить на образовательные курсы, постарался подсказать книги.
Не так давно я решил стать наставником для второго ребенка. У меня остается потребность делиться опытом, быть полезным. Я точно знаю, что такой взрослый был бы очень важен для меня. Обратная связь и понимание того, что ты делаешь, дает огромный ресурс и силы: это отвлекает, позволяет отключиться от ежедневных задач и проблем и перенастраивает мышление.
Мировоззрение подростков освежает наше собственное и позволяет по-другому смотреть на многие вещи. Когда ты можешь создать самый запоминающийся день для человека — это много стоит. В итоге у тебя появляются положительные эмоции от общения и возможность по-другому взглянуть на мир.
Жизнь в детском доме – тема щекотливая, но все же обсуждаемая. А вот что происходит с людьми после него? Узнали у бывших детдомовцев, каково было начать жить после выпуска.
Юрий
«ДНЕМ МЫ БЫЛИ ПРОСТО ОЗОРНИКАМИ – НОЧЬЮ НАЧИНАЛАСЬ ДЕДОВЩИНА»
– В детский дом я попал, когда мне было почти 10 лет. До этого я жил с мамой и слепой бабушкой, за которой присматривал, а в остальное время шатался по улицам. Мать не находила времени, и однажды меня у нее просто забрали.
Сначала я попал детский приемник-распределитель, а оттуда – в интернат. Первое воспоминание из интерната – нас учат гладить школьную форму.
Так вышло, что в наш детский дом забрасывали группками детей из разных мест. Скоро эти группки начали проявлять свой характер – и начались первые драки. У меня до сих пор остался шрам от лучшего друга – получил по глазу шваброй.
Для воспитателей такое наше поведение было нормой. Днем мы были просто маленькими, шустренькими озорниками, а ночью начиналась настоящая дедовщина.
Скажем, в школе случайно задел плечом старшеклассника – все, ты наказан: все знали, что вечером за тобой придут. И пока не дашь старшим отпор, от тебя не отстанут.
Я занимался футболом, и спорт как-то помогал мне за себя постоять. К пятому классу я заслужил определенное уважение старших, и трогать меня перестали.
Но дети – вообще неуправляемая сила. Однажды ночью мы устроили бунт и снесли кабинет директора, о чем тут говорить. Ходили драться и с местными из ближайших пятиэтажек. Скажет тебе твой ровесник через забор что-то обидное – вечером, легко перебравшись через полтора метра высоты, мы шли «стенка на стенку».
В общем, с синяками ходили постоянно. А некоторые городские потом подходили и просились к нам, когда хотели сгоряча уйти от мамы с папой.
«У ВАС ЕСТЬ СВОИ МАМЫ, И МЕНЯ ТАК НЕ НАЗЫВАТЬ»
С воспитателями отношения складывались по-разному. Помню, поначалу некоторые дети пытались называть их мамами, но однажды воспитательница собрала нас всех и объявила: «У вас есть свои мамы, и вы это знаете. Меня так не называть». Это уже сейчас, много лет спустя, созваниваешься и с ходу: «Привет, мам, как дела?»
К взрослой жизни нас готовили с самого начала. С первого дня мы знали, что рано или поздно уйдем: учились стирать, убирать и ухаживать за собой. Конечно, как и все дети, мы были этим недовольны, но так нас научили независимости. Если что-то было нужно – никто не ходил хвостиком за старшими, а шел и делал сам.
Это настолько вошло в привычку, что осталось до сих пор: я и сейчас сам готовлю и убираю – даже жена удивляется.
Но, что важно, помимо бытовых вещей нас учили отношению к людям. Если ты добр к одним, то вторые и третьи будут добры к тебе – эту философию мы усвоили с детства.
«ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ, НО КТО-ТО ВЕРНУЛСЯ В ИНТЕРНАТ»
Время перед окончанием жизни в интернате было немного волнительным. Выпускной, кстати, организовывал я. Помимо школы у меня были и друзья «за забором», и одна компания играла свою музыку по клубам и барам.
– У меня выпускной, пацаны, выступите? – спросил я.
– Да не вопрос! – так за «спасибо» у нас была организована музыкальная часть вечера.
Выпускной – это всегда весело. Поначалу. А когда стали прощаться, то, конечно, начались слезы и сопли. Но на самом деле все мы знали, что рано или поздно это произойдет.
Все закончилось, мы получили на руки документы и какие-то деньги, сказали школе «до свидания» и отправились на вольные хлеба. Но первого сентября кто-то вернулся в интернат. Некоторые там около месяца в медпункте ночевали.
Наверное, в реальной жизни было тяжело: не справились, потянуло обратно в знакомое место.
Просто у многих не было стержня. Помню растерянные лица этих ребят, которые безоговорочно шли, куда их потянут. Многих затянуло совсем не туда – и они до сих пор из этой трясины не вылезают.
Детдом помогал с образованием, и по разным учебным заведениям нас отправляли целыми кучками. Не помню, чтобы я чувствовал перед новым этапом жизни какой-то страх. Скорее, предвкушение.
Я не слишком прикипел к интернату, и все-таки осталось там что-то родное, материнское. Мне повезло: в одном заведении со мной училось несколько выпускников нашего интерната. Если становилось грустно или скучно, я просто мог пойти в другую комнату общаги, где жили люди, которых я знал восемь лет, это не давало унывать.
Неприязни из-за того, что я вырос в детдоме, тоже не было. Наверное, я изначально правильно поставил себя в новом месте: многие вообще не знали, что у меня нет родителей. Разве что в первый же день учебного года один из моих одногруппников заикнулся о том, что я сирота и взяли сюда меня по блату.
Тогда подняли все документы и показали ему, человеку с аттестатом «четыре балла», мой «семь баллов». После этого вопросов больше не возникало.
Преподаватели относились ко мне как к остальным ребятам. Разве что женщина, которая преподавала физику, могла попросить «поставить парничок», а потом говорила, какой я бедненький и хорошенький. Подкармливала яблоками.
«Я ЗНАЛ, ЧТО СПРАВЛЮСЬ И ВЫРВУСЬ ИЗ ВСЕГО ЭТОГО»
После училища было сложнее. Я пошел отрабатывать на завод, переехал в общежитие. И там столкнулся с такими моральными уродами, что не сорваться в яму было тяжело.
В психологическом плане временами было очень сложно, поэтому в общежитии я вообще не задерживался: приходил с работы, быстро делал свои дела и уходил в город. Просто чтобы справиться с эмоциями и убежать от всего навалившегося.
Потом жизнь складывалась по-всякому: поменял несколько работ, пообщался с разными людьми. Часто они, узнав, что я рос без родителей, относились лояльнее, смотрели как-то по-другому.
Иногда было тяжело. Иногда очень не хватало поддержки. Где я ее искал? В себе самом. Я знал, что справлюсь, стану лучше и вырвусь из всего этого. Так и получилось.
Сейчас у меня семья, трое детей, так что живем весело. Они еще пешком под стол ходят, но я уже учу их самостоятельности и порядку – в жизни пригодится.
Самый важный урок, который я вынес из ситуаций, случавшихся в жизни, – будь добрее и принимай то, что есть. Нельзя, обозлившись на жизнь, стараться отомстить всем и вся.
Унижать других, даже если когда-то унижали тебя, – значит сеять негатив, который в конечном итоге все равно вернется к тебе. Поэтому просто быть добрее и оставаться человеком, пожалуй, стоит каждому из нас.
Андрей
«Я НЕ СКУЧАЛ ПО СЕМЬЕ И ДОМУ – Я ПРОСТО НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ»
– Моих маму и папу лишили родительских прав, когда мне было три года. Так я попал в детский дом. Мне всегда казалось, что я родился в школе-интернате, потому что, сколько себя помню, всегда был там. Поэтому я не скучал по семье и дому – просто не знал, что это такое.
Позже я познакомился со сводным братом и его отцом: я родился от другого мужчины, но мать меня «нагуляла», поэтому моим папой тоже пришлось записать его.
Отец иногда навещал нас, брал в гости на выходные. А потом просто исчез. А маму я первый раз увидел в 15 лет. Чувствовал, что подошел к постороннему человеку. Она обещала бросить пить, но так и не завязала. Я понял, что я ей ни к чему, а значит, и она мне. В конце концов, я ее совсем не знал.
С лет восьми я стал жить в детском доме семейного типа. По сути, это была обычная пятикомнатная квартира: холодильник, две стиральные машины, телевизор, комнаты для двоих, все новое и комфортное.
Поначалу все казалось непривычным, и было немного не по себе: стеснительность, первые знакомства, как обычно это бывает в новом месте. Но скоро привык и влился.
Воспитатели никогда не были для нас родителями, но сделали все, чтобы вырастить из нас адекватных людей.
Нас изначально учили самостоятельности, давали понять, что по жизни носиться с каждым никто не будет. Мы убирали в комнатах, мыли стены, стирали. За каждым была закреплена территория и на улице – убирали снег, подметали.
Дети, конечно, были разные: те, кто попадали в детский дом лет в 14 после жизни с родителями, постоянно сбегали, уходили на свои тусовки, прогуливали школу. Я же не помнил другой жизни, к тому же был спокойным ребенком. Бывало, конечно, и двойку мог принести, но это максимальные мои «косяки».
За это наказывали: например, не выпускали из комнаты, пока не выучу таблицу умножения. Но это нормально. Если бы я с мамой остался, у меня бы вообще никакого образования не было.
«В ШКОЛЕ дети считали, что со мной что-то не так и я отброс»
Я ходил в городскую школу и учился хорошо, не прогуливал. Вариантов не было: либо иди на уроки, либо по улицам шляйся, дома не отсидишься.
В начальных классах дети считали, что со мной что-то не так и я отброс. Обзывались, подставляли. В старших классах я попал в физмат. Тут уже ребята были поадекватнее, да и повзрослее – с ними мы общались хорошо.
Учителя относились так, как и ко всем: никогда из жалости не рисовали мне оценки, да и я просил, чтобы такого не было.
Выпуск из школы и дальнейшие изменения меня не слишком беспокоили. Я привык жить моментом и не задумывался о будущем. Да, планы были, но грузить голову лишними мыслями и загадывать наперед я не хотел. Думал: будь что будет.
На выпускном нас собрали всех вместе, заставили надеть костюмы, показали концерт, а воспитатели сказали что-то «на дорожку». Расставаться было грустно. Так ведь всегда, когда привыкаешь и привязываешься. Но это был не конец: я и после выпуска в гости заезжал, рассказывал, что да как.
Мы уезжали из детского дома, как только поступали в университет или училище. Найти, где учиться, тоже помогали: проводили тесты по профнаправленности, предлагали варианты.
Я пошел учиться на монтажника-высотника, и мне это нравилось – я с детства любил высоту. Да и отношения в группе складывались хорошие: никаких косых взглядов не было. Наоборот, ребята из регионов часто подходили к нам, минчанам, и спрашивали, как помоднее в столице одеваться, куда ходить.
Меня поселили в общежитии, которое было в аварийном состоянии. Было так холодно, что зимой спал в зимней куртке и все равно замерзал.
К тому же постоянный шум, пьяные компании – в общем, долго я там не прожил, тайком переехал в общагу к девушке, с которой тогда встречался. А временами, когда идти больше было некуда, я приезжал в детский дом.
«ЧУВСТВО СВОБОДЫ ПЕРЕПОЛНЯЛО, И СОБЛАЗН СОРВАТЬСЯ БЫЛ ОЧЕНЬ ВЕЛИК»
Уходить из детского дома – странное чувство. За тобой никто не смотрит, тебя никто не контролирует, ты знаешь, что можешь делать, что хочешь, и тебе ничего за это не будет.
Первое время ощущение свободы просто переполняло. Представьте: в детском доме нужно возвращаться к восьми, а тут гуляешь ночами напролет, прыгаешь в воду на Немиге, пьешь джин-тоник, который купил на первую стипендию, стаскиваешь флаги с Дворца спорта – в общем, делаешь, что хочешь. Такими были наши первые дни самостоятельной жизни.
Все обходилось без последствий, я даже в опорном пункте был только один раз, и то по своей воле. Как-то гуляли ночью, и милиция попросила документы у моего друга, которых у него с собой не было. Другу уже было 18, но для выяснения обстоятельств все же предложили проехать в отделение. Я тогда подхожу и говорю: «А можно с вами, пожалуйста? Я никогда не видел, как в опорке все устроено». Они посмеялись, но на «экскурсию» свозили.
Соблазн сорваться был очень велик, и сдерживать себя было сложно. Сидишь на парах и думаешь: я же сейчас могу просто встать, уйти, и никто мне не скажет ни слова. Но все-таки на учебу ходил исправно, терпел и понимал, что образование в любом случае пригодится.
А большинство срывалось. Сначала отчислили одного детдомовца, потом – моего лучшего друга. Позже он спился. Мне, к счастью, удалось этого избежать: алкоголем я перестал баловаться сразу, как почувствовал привыкание. Друзья, как бы я их ни отговаривал, пошли другой дорогой.
«ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ И НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ»
После колледжа я устроился в частную фирму. Мне нравится работать, нравится подниматься на высоту, работать с металлическими конструкциями, копаться в технике. Я понимаю, что не смогу работать в офисе, мне нужна доля адреналина.
О собственной семье я пока не думаю, но скажу одно: если выйдет так, что девушка окажется не готова к ребенку и отдаст его мне, – я, не задумываясь, воспитаю один.
Наверное, любое поколение должно ставить перед собой цель сделать жизнь своих детей лучше. Мне недоставало материнской любви и ласки. Я видел домашних детей и знал, что у них все по-другому. При этом понимал, что моя судьба сложилась вот так и ничего не изменишь. Нужно просто жить дальше, не повторяя ошибок своих родителей.
Мне всегда хотелось показать, что, несмотря на обстоятельства, я вырос хорошим человеком. И я всегда буду стараться относиться к людям с уважением – по сути, мы выросли на их налоги. И буду жить так, чтобы не опозорить тех, кто меня воспитал.
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
В России полмиллиона сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если верить Диккенсу и Голливуду, у сироты все обязательно сложится хорошо. В реальности проблемы с социализацией могут быть неразрешимы. Бывшие детдомовцы рассказали «Снобу» о голодном детстве, трудной юности и обидах, которые остаются на всю жизнь
«Все детство я смотрел на вечно пьяных санитарочек»
Евгений, 35 лет, Красноярск:
Мать оставила меня в роддоме: я инвалид с рождения, у меня ДЦП. До пяти лет я воспитывался в доме малютки. Потом перевели в специализированный дом-интернат для детей с психическими отклонениями, хотя я психически здоров. В 90-е было тяжело всем, не только детдомовцам. Государство почти не обеспечивало. Санитаркам, которые должны были следить за нами, было все равно, ведь им не платили зарплату. Они ходили на работу бухать. Все свое детство и юность я смотрел на вечно пьяных санитарочек. За малышами следили старшие дети — «старшаки» или «академики», как их называли санитарки. Им надо было подчиняться беспрекословно. Старшие были нашими богами.
Мой детдом находился в центре жилого комплекса. Городские дети лазили к нам через забор, чтобы поглумиться. Мы иногда давали отпор, стрелки забивали: тайком убегали из детдома к озеру и там решали проблемы. Среди городских были и дети, с которыми мы дружили, с некоторыми общаемся по сей день.
Я иногда бываю в детдомах, привожу подарки. По сравнению с тем, что было раньше, — небо и земля. Сейчас ребенку подзатыльник дадут — сразу шумиха поднимается. А меня в детстве не просто били. Мне санитарка сломала ногу в двух местах, когда я случайно уронил стол с одеялами. Никакой ответственности за это она не понесла и еще долго работала в детдоме. Но жизнь ее потом все равно наказала: она пьяная сгорела в собственном доме.
Иногда к нам попадали дети, которые до десяти лет жили с родителями. Для них это становилось серьезной психологической травмой. Я слышал, как они плакали по ночам. Если бы я знал другую жизнь, может быть, у меня и была бы обида на мир, но детдом был моим единственным домом.
Фото из личного архива
Как и любому ребенку, мне хотелось, чтобы у меня была мама, братья, сестры. К другим детям иногда приходили родители, приносили гостинцы. Я завидовал, потому что ко мне никто не приходил. Я искал маму несколько лет, но тщетно. Мне помогал наш врач, хороший мужик. Однажды по телевизору я увидел рекламу справочной службы: «Мы найдем любой номер телефона». Я решил попробовать. Позвонил туда, назвал полностью Ф. И. О. родителей. Оператор нашла только номер отца. Я позвонил ему и соврал, что я одноклассник его жены и ищу ее, чтобы пригласить на встречу выпускников. Не знаю, почему не признался, побоялся, наверное. Отец дал мне телефон. Мамы не было дома, трубку взяла моя старшая сестра. Попросил передать маме, что ее ищет Евгений.
Вскоре мне позвонил директор детдома: «Пришла женщина, говорит, что она твоя мама». Так в 22 года я с ней и познакомился. Мама узнала меня сразу: я очень похож на своего отца. По ее словам, она от меня не отказывалась, в роддоме ей сказали, что я умер при рождении. Но мне кажется, ей просто было стыдно, что у нее родился ребенок-инвалид. Она тогда занимала руководящую должность и была не последним человеком в городе.
Мы стали общаться. Я ждал направления в психоневрологический интернат или дом престарелых (в то время туда отправляли и молодых) — куда «путевка» придет, но мама забрала меня домой. Мы прожили вместе год. Младшая сестра меня сразу не приняла, старшая — более-менее. Я тогда наивный был: думал, у меня теперь семья, люди, которые обо мне позаботятся и о которых буду заботиться я. А они, видимо, привыкли жить каждый сам для себя. Начались ссоры. Мы так и не поняли друг друга, наши пути разошлись. Своего жилья у меня не было, родные не помогли, поэтому обратился в соцзащиту, и меня отправили в дом престарелых, где я живу вот уже десять лет.
Первый год у меня была жуткая депрессия, но люди, с которыми я тут познакомился, сказали, что так нельзя и надо жить дальше. Они помогли мне выбраться из этой ямы. Вскоре я узнал, что по документам я недееспособен. Вот так мне детдом подгадил. Я три года через суд доказывал свою дееспособность.
С родными не общаюсь, а всем детдомовцам, которые пытаются найти родственников, говорю, что не стоит. Будет только одно разочарование
Пришлось полежать в психушке месяц на освидетельствовании. Я воспринимаю это как приключение. Охранник, который вел меня в палату, сказал, что соседи у меня уголовники: двое насильников, убийца и наркоман со стажем. Захожу в палату, а там здоровый мужик сидит: «Ты кто по жизни?» Я не растерялся, вспомнил, что в одном фильме герой на этот вопрос ответил «мужик». И я так ответил. «Раз мужик, иди с нами в карты играть».
Здоровяка этого за убийство судили. Он дачи охранял и грабителей поймал, завязалась драка, ну и вот… Наркоману было лет сорок, он с гордостью рассказывал о своих 30 годах стажа, анекдоты травил. А вот насильники были действительно психопатами. Меня здоровяк под охрану взял, но по ночам все равно было страшно. После психушки я некоторое время с ним общался. Хороший мужик. Как-то позвонил и сказал, что уезжает и что ему приятно было со мной познакомиться. Я так понял, его оправдали.
В свое время я не учился, но в доме престарелых окончил вечернюю школу, а потом колледж по специальности «социальный работник». Сейчас получаю высшее образование, защита диплома в следующем году. Работаю в этом же доме престарелых, занимаюсь разными социальными проектами. В этом году отвозили в детдом игрушки, носки и кофточки, которые связали обитатели нашего дома.
С родными не общаюсь, а всем детдомовцам, которые пытаются найти родственников, говорю, что не стоит. Будет только одно разочарование.
«Люблю ворон, мы с ними прошли много помоек»
Юнира, 53 года, Салават:
Когда умерла моя мама, мне было полтора года. Отец сразу бросил нас, а 13-летний брат не мог меня воспитывать. Так я попала в детдом. 14 лет я ждала, когда обо мне вспомнят и заберут. Стоя у решетчатых ворот детдома, я в каждом прохожем видела маму, бабушку, но все проходили мимо.
Я выживала как могла. Было жестко: голод, холод, побои и безразличие воспитателей. Всегда думала: вот вырасту, куплю много-много сахара. Иногда на улице находила огрызок яблока или черствую корку хлеба — ничего вкуснее не было. До сих пор помню этот вкус и даже сейчас ночью ем хлеб и прячу его под подушку. Я любила и люблю всякую живность, особенно ворон, с ними я прошла через много помоек. Сбегала из детдома несколько раз с одной мыслью — найти маму. Через несколько лет меня разыскал старший брат, который на тот момент служил в армии. Он сделал запрос и приехал в детдом, привез вкусностей, которых мы почти не видели.
В 14 лет — это был конец 70-х — мне дали девять рублей — и вперед, во взрослую жизнь! Еле поступила в училище на швею: характеристику в детдоме не ахти какую написали, зато дали комнату в общежитии. Детдомовские привычки остались: чувство голода, страх, недоверие к миру. Я старалась никому не говорить о прошлом. В 19 лет родила дочь, одна, без мужа. Страшное дело. Годы в детдоме казались раем по сравнению с тем, через что пришлось пройти потом. Председатель профкома отправляла меня на аборт, но я отказалась. Когда я пришла из роддома в общежитие с ребенком на руках, заведующая меня не пускала. После родов я весила 38 кг, молоко пропало. Добрые люди помогали едой и одеждой.
Воспитывала дочь с сожителем, но замуж так и не вышла: слишком много боли причиняют мужчины, а, может, это моя судьба — так жить
Свою дочь я хотела растить в нормальных условиях, сытой в первую очередь. Я хотела, чтобы у нее было все, чего не было у меня. Когда дочери исполнилось полтора месяца, я вышла на работу: мыла полы в общежитии. Руки опускались, когда не хватало еды, денег, но я заставляла себя бороться. Стыдно признаться, я несколько раз воровала у семейных — то картошку, то еще что-нибудь. Я стояла в очереди на квартиру, меня постоянно отодвигали назад, тогда, по совету одной женщины, я написала письмо в Москву, Терешковой. Все наладилось: через месяц мне дали квартиру. Через несколько лет я устроилась на свою самую любимую работу, в кинологию: 13 лет была вожатой служебных собак. Родила вторую дочь. Воспитывала ее с сожителем, но замуж так и не вышла: слишком много боли причиняют мужчины, а, может, это моя судьба — так жить.
Брат тоже хлебнул горя. Рано начал пить. Живет в деревне, где я родилась. Недавно ездила к нему, ходили на могилу к матери, ревели в голос вдвоем.
Жизнь меня закалила. Все говорят: ты что так материшься, такая взрывная, тебе больше всех надо? Я такая, по-другому не могу. Скоро мне исполнится 54 года, у меня двое внуков. Работаю дворником — опять собаки, опять вороны.
«Мы живем в бараке: на одной половине — я, двое детей и муж, на другой — брат и дядя, которые спиваются»
Надежда, 33 года, Екатеринбург:
Я росла без отца: мама забеременела от женатого мужчины. Жизнь с мамой помню смутно.
Когда мне было два года, мама родила брата. Рожала дома, пьяная, роды принимала соседка. Это была середина 80-х. Мама торговала вином, ну, и сама много пила.
Когда мне было пять лет, нас с братом забрали в детский дом. Что бы кто ни говорил, но нас там кормили, одевали, обували. И я не помню, чтобы нас били. Через полтора года нас с братом отправили в разные интернаты учиться. Раз в месяц приезжала воспитательница из детского дома и привозила вареную сгущенку. Каждое лето нас отправляли в загородные пионерлагеря. В старших классах ездили в Ейск на все лето. Во всех группах воспитывали по-разному: кого-то и били, и едой наказывали. Но мне везло. Единственный раз воспитательница меня не ударила, но швырнула, когда застукала с сигаретой.
Маму я видела, когда училась в первом классе, потом ее посадили за убийство. Класса с пятого я стала ездить к брату и бабушке. Выпустилась в 2000 году, отправили учиться в Березовский, общежитие предоставили, стипендию платили целых 120 рублей и кормили бесплатно, а все остальное — как хотите. Я не доучилась, бросила: жить в общежитии было невозможно — алкаши, наркоманы, полный беспредел.
Я стараюсь все делать сама, чтобы ни от кого не зависеть и никому не быть обязанной
Я вернулась в свою комнату в 20 квадратных метров в двухэтажном бараке. Бабушка лежала парализованная от пьянства. Через три дня она умерла. Я осталась абсолютно одна, без денег, без документов, без зимних вещей. Еще учась в интернате, мы бегали на рынок подхалтурить, поэтому я пошла торговать.
В 17 лет я забеременела. От отца ребенка никакой помощи не было, и мы расстались. К родам из тюрьмы освободилась моя мама. Первый год она не пила, держалась, а потом начала снова. Я очень боялась, что из-за нее у меня могут забрать ребенка, и выгнала ее из дома. Через полгода мама умерла.
К 29 годам я заведовала магазином детских товаров. К нам на склад пришел работать мой будущий муж. В тот день шеф попил мне крови, да еще сын что-то натворил, и я предложила новому коллеге выпить после работы бутылку подаренного коньяка. Через неделю мы подали заявление в ЗАГС.
Сейчас старшему сыну почти 15 лет, младшему — 10 месяцев. Мы до сих пор живем в той же комнате, но разделили ее на две половины: в одной — я, двое детей и муж, в другой — брат и дядя, которые спиваются. Они не буянят, побаиваются, что я могу вызывать полицию.
От государства я ничего не жду. Что я детдомовская, не скрываю, но и не кричу об этом на каждом шагу. У большинства стереотипы, что детдомовские очень агрессивные и всегда чего-то требуют. Я стараюсь все делать сама, чтобы ни от кого не зависеть и никому не быть обязанной.
«Мать присылала нам письма без обратного адреса»
Василий, 30 лет, Санкт-Петербург:
До девяти лет я с матерью, старшей сестрой и младшим братом жил в Иркутской области. Мать воспитывала нас одна. Однажды она привезла меня с сестрой к бабушке в Мордовию и уехала, пообещав, что разберется с делами и вернется с братом. И пропала. Сестра старше меня на два года, больше помнила маму и была на нее сильнее обижена, чем я. А я всегда мыслил рационально и не помню, чтобы испытывал к матери какие-то сильные негативные эмоции.
Бабушка жила в глухой деревне, до ближайшей школы — несколько десятков километров. Органы опеки забрали нас в реабилитационный центр, а через год отправили в детдом. Вполне нормальное место, никакого треша. Бабушка нас навещала, а мы ездили к ней на каникулы. Раз в два-три года бабушке приходило письмо от мамы в духе «как дела, что нового». На конверте не было обратного адреса. Я как-то написал письмо в «Жди меня», и мама узнала, что я ее ищу. Тогда она прислала в детдом письмо с извинениями. Она писала, что ей было тяжело в те годы, поэтому пришлось нас оставить, что ей стыдно за это и она сожалеет. Я написал ответное письмо, но больше ничего от нее я не получал.
По просьбе сестры я нашел нашего младшего брата и организовал встречу с ним и матерью в Москве. Мы погуляли, пообщались — и, собственно, все
В девятом классе я по экспериментальной программе попал в патронатную семью. Общаемся до сих пор. Мой мир перевернулся: живя в детдоме, я приходил из школы, делал уроки, смотрел телевизор и ложился спать, а тут появилось больше свободы. В десятом классе у меня появились новые одноклассники из городских. Я начал общаться, ходил вечером гулять. Это помогло мне немного адаптироваться к внешнему миру.
После школы уехал в Саранск поступать в университет, потом переехал в Петербург, где и живу до сих пор. Работаю программистом. По просьбе сестры я нашел нашего младшего брата и организовал встречу с ним и матерью в Москве. Мы погуляли, пообщались — и, собственно, все. Сестра прямо сказала, что это чужие люди, и больше с ними не общается. Раз в месяц я перекидываюсь с матерью парой слов в сети и присылаю фотографии. Вот и все общение.
«В детдоме мне было лучше, чем дома»
Ирина, 30 лет, Москва:
Мама отказалась от меня в роддоме. Не знаю почему. Отец отдал меня на воспитание бабушке с дедушкой: он работал дальнобойщиком, ему некогда было со мной возиться.
Я прожила у них много лет. Потом бабушка погибла в аварии, и дедушка отдал меня отцу, потому что был уже слишком старый. Некоторое время я жила с отцом, мачехой и сводным братом. Отец много пил, пьяный мог меня избить или начинал приставать. Я очень боялась его. Меня почти не кормили, я часто ночевала у соседей. Однажды пожаловалась директору школы, что больше не могу так жить. Так в 12 лет я попала в детдом.
Детский дом — государство в государстве. Воспитатели не были нам родителями, просто следили, чтобы мы соблюдали распорядок дня и учили уроки. Дети были разные, многие дрались и матерились, но я человек миролюбивый и старалась не нарываться. Кормили хорошо, но денег на одежду и какие-то мелкие расходы у нас не было. Мы часто ездили на экскурсии, а как-то спонсоры выдали нам путевку в Геленджик — это был единственный раз, когда я увидела море. На лето меня забирала к себе наш бухгалтер, но не под опеку — у нее и так было трое приемных детей.
Домашним родители помогают с получением образования, а нас не спрашивают, интересна эта профессия или нет — просто посылают учиться туда, где есть свободные места
Мы учились в обычной общеобразовательной школе. Домашние дети не принимали нас в свою компанию, просто потому что мы жили в детдоме. С нами мало общались, мы держались обособленно.
После окончания 11-го класса меня отправили в педагогический колледж. Домашним родители помогают с получением образования, а нас не спрашивают, интересна эта профессия или нет — просто посылают учиться туда, где есть свободные места и дают койку в общежитии. Образование я так и не получила. Я не смогла работать с детьми, мне хотелось стать дизайнером. Меня отчислили. Тогда я взяла у знакомых взаймы немного денег и выучилась на парикмахера. В Ульяновске зарплаты низкие — 6000 рублей, поэтому я приехала на заработки в Москву. Первое время работала на кондитерской фабрике по 16 часов, потому что там давали бесплатное место в общежитии. Но там обманывали с деньгами. Мне удалось накопить на инструменты, и сейчас я работаю парикмахером. Снимаю койко-место в общежитии. Мечтаю получить высшее образование и сдать на права, но пока не могу себе это позволить. Конечно, мне хочется семью и ребенка, чтобы компенсировать то, чего у меня не было в детстве, но пока как-то не складывается.
Без родительской поддержки тяжело. Матери уже нет в живых, отец порезал кого-то в пьяной драке и сел в тюрьму. После выпуска из детдома меня не поставили в очередь на жилье. Я пытаюсь урегулировать этот вопрос через суд. Мне не на кого надеяться, кроме себя. Мне не хватает уверенности, я стараюсь скрывать свое прошлое, потому что к детдомовцам относятся по-разному, не всегда хорошо.
Содержание
- История Марины, которая стала второй мамой для своего братишки
- История о том, как творчество спасло маленькую девочку от душевных переживаний
- История Кирилла, который обрел семью мечты
Психолог, работающий с детьми, которые росли без семейного тепла, делится непростыми историями ребят, а также комментирует, как сложный жизненные обстоятельства повлияли на их характер и образ жизни.
Воспитанники детских домов должны обладать сильным характером, ведь им приходится выживать в сложных условиях, без родительской поддержки, рассчитывая исключительно на себя. Они вынуждены приспосабливаться, общаться, улыбаться, когда им совсем не весело, закрываться в себе, манипулировать, добиваться своего места под солнцем. Кому-то все дается легко, ведь на помощь всегда придут любящие родители. Тем, кто лишен этой любви, нужно двигаться вперед без поддержки. Некоторые ломаются, но многие, наоборот, становятся более целеустремленными, сильными, смелыми.
История Марины, которая стала второй мамой для своего братишки
Марине было 9 лет, ее младшему братику Владу – 4 года. Как-то они гуляли возле дома, мама сказала, что ей нужно ненадолго отлучиться. К детям подошли люди в полицейской форме и еще несколько женщин, похожих на педагогов: в строгих костюмах, очках, с папками в руках. Влада взяли за ручку и куда-то повели. Марина начала кричать, чтобы брата отпустили. К девочке подошла одна «учительница», присела и доверительным тоном сообщила, что их везут в детский санаторий. Детей посадили в машину и повезли в сопровождении полиции.
Марина пыталась взять за руку Влада, потому что тот начал плакать и звать маму.
Машина остановилась у здания, которое напоминало школу. «Наверное, это и есть санаторий. Мама просто не успела сказать, что нас сюда привезут» – подумала Марина. Девочку отвели в кабинет врача, который долго заполнял какие-то бумаги. Когда девочка пыталась выяснить, где ее брат, ей ответили, что мальчика поместили в младшую группу.
Марина устроила истерику. Она кричала, что без Влада никуда не пойдет. Работники пытались вразумить девочку, объясняли, что маленький детей помещают в отдельную группу. Но Марина не слушала, что ей говорят. Она заявила: «Если я сейчас же не увижу брата, то сбегу отсюда». Она сдержала свое обещание и в ту же ночь убежала. Нашли девочку на детской площадке, возле своего дома. Марина надеялась, что мама придет за ней и решит все вопросы. Марину вернули в детский дом. На прогулке она иногда видела Влада. Тот, как правило, стоял на одном месте и ковырял носком ботинка землю.

Марина каждый день просила воспитателей, чтобы они вернули ей брата. «Мы никогда не расставались, всегда вместе» – объясняла девочка. Наконец, начальница детского дома сдалась и поместила детей в одну группу. Педагог из «семейной» группы много раз говорила, как Марина любит своего брата. Она заботилась о нем, как настоящая мама: кормила, переодевала, гуляла на улице, играла. Когда сестра уходила на школьные уроки, она подробно объясняла воспитательнице, как смотреть за Владом.
Марину и Влада забрали в приемную семью через 3,5 года. Новые родители оказались добрыми и чуткими людьми. Они изо всех сил старались, чтобы у детей было счастливое детство. Но Марина вела себя странно: она не разрешала приемной маме даже приближаться к Владу, ревновала, не отходила ни на шаг от брата. К сожалению, общего языка с приемными родителями девочка не нашла, и они снова оказались в интернате.
Психолог комментирует историю Марины:
«К сожалению, дети, которые попадают в детские дома, рано становятся взрослыми. Раннее взросление часто встречается у девочек, которым приходилось ухаживать за младшими братьями и сестрами. Ребенок быстро вживается в роль взрослых, и выходить из нее уже не хочет. Это помогает развить сильные стороны характера: стрессоустойчивость, ответственность, лидерские качества. Но ребенок лишен детства, и это, несомненно, сказывается на психике».
История о том, как творчество спасло маленькую девочку от душевных переживаний
Жизненная история Светы трагичная, и не каждый взрослый смог бы такое выдержать, но девочку каждый раз спасало творчество. Мама Светы нигде не работала и пила. Когда она умерла, девочку забрала родная тетя. Она тоже любила выпить, и в пьяном угаре могла даже избить Свету. Девочка боялась тетку, и часто пряталась от нее в комнате. Как-то тетя исчезла на несколько дней, а Света осталась дома одна. На плите стояла кастрюля с супом.
Света решила подогреть суп, потому что проголодалась и хотела есть. Спичками девочка пользоваться не умела, и когда загорелось пламя, она испугалась и бросила горящую спичку на пол. Когда загорелся стул, Света завороженно смотрела на огонь и представляла, что в пламени находится чудесная страна. Там живет мама, много игрушек, Свету любят, ходят с ней в парк и кормят вкусными блюдами.
Запах гари услышали соседи и вызвали пожарных. Пламя потушили, а потом в квартиру нагрянула служба опеки, когда выяснилось, что ребенок несколько дней находился один, без присмотра взрослых. Свету определили сначала в приют, а потом перевезли в детский дом. От серых будней в казенных стенах девочку спасали мечты о прекрасной стране, которую она постоянно изображала на листах бумаги.
Через год Свету взяли в приемную семью, где уже жило несколько детей из интерната. Света могла рисовать часами, и это было ее любимым занятием. Другие дети постоянно обижали девочку, всячески насмехались над ее творчеством, а приемные родители не обращали на это внимания. Света вспоминает, как к ним домой приходили гости, и ее заставляли вставать на стул и декламировать стихи. Света не хотела этого делать, и потом ее били ремнем.
Потом от Светы снова отказались, и она опять попала в детский дом. Девочке приходилось выпрашивать у педагогов альбомы с красками и карандашами, но часто ей отказывали. Света окончательно замкнулась в себе, ни с кем не общалась, была поглощена собственными мыслями. Поскольку она считалась «странной» среди детей, брать такого ребенка в семью никто не хотел.

Света хорошо училась, но абсолютно не шла на контакт с детьми и педагогами. Она все время рисовала и проводила много времени в собственных мечтах. Когда Свете исполнилось 13 лет, ее все-таки взяли в приемную семью. Наладить контакт с новыми родителями было непросто, но они заметили творческие способности девочки и всячески способствовали их развитию. Оказалось, что Света не только хорошо рисует, но и прекрасно поет, обладает актерским мастерством, красиво читает стихи. Светлана принимала участие в творческих конкурсах, победила в конкурсе юных художников. Света благодарна приемным родителям, ведь благодаря им она смогла заниматься любимым делом. Сейчас девушка готовится к вступительным экзаменам в Академию искусств.
Комментирует психолог, который впоследствии работал со Светланой:
«Когда ребенок переживает серьезный стресс, часто это выплескивается в творчество. Это спасает от эмоционального истощения, ведь не зря психологи советуют использовать арт-терапию в некоторых случаях. Через рисунок ребенок переживает свои эмоции, принимает и переживает негативный опыт. Вместе со Светой мы проанализировали ее рисунки, которые помогли выявить сильные стороны ее характера».
История Кирилла, который обрел семью мечты
От Кирилла мама отказалась еще в роддоме. Он с рождения до 14 лет прожил в детском доме. Многие дети со временем перестают ждать маму, а Кирилл продолжал верить, что родители обязательно его заберут домой. Кириллу хотелось добиться успеха, стать известным, и тогда мама обязательно прочитает о нем, увидит фотографии и приедет за ним. Мальчик хорошо учился, много читал, мечтал стать знаменитым актером. Кирилл попал в театральный кружок, где почти сразу получил главную роль в представлении, потому что действительно был очень талантливым.
Кирилла любили педагоги и воспитанники детского дома. Он был симпатичным, вежливым и творческим молодым человеком. Когда Кириллу исполнилось 14 лет, его взяли в приемную семью. Сбылась мечта парня, ведь у него появились заботливые родители, младшая сестренка и даже бабушки с дедушками. Кирилл потом вспоминал, что самое яркое впечатление у него – это первый новогодний праздник, который он отмечал в новой семье.
Комментарий психолога:
«Дети, которые лишены родительской ласки и домашнего тепла, конечно же, мечтают о том, что их найдут и заберут родители. Это счастье, когда ребенок попадает в приемную семью и обретает взрослых, которые заботятся и любят. Воспитанники детских домов часто создают крепкие, дружные семьи во взрослом возрасте. Им хочется окунуться в ту атмосферу уюта, тепла, семейного спокойствия, которой они были лишены в детстве».
Оставить комментарий
«Родителей я так и не простил»: рассказы воспитанников детдомов
Второй понедельник ноября – Всемирный день сирот. По статистике, на планете сейчас более 150 миллионов детей-сирот. Сегодня мы даем слово тем, кто не понаслышке знает обо всех тяготах жизни в детском доме.
Лев, 20 лет, приемный ребенок: «Воспитывали нас «экзотично»»
Отца у меня не было с рождения. Мама была недееспособна, ей просто не дали меня, забрали в дом ребенка, потом – в детский дом. Понимание слова «мама» во мне не сформировалось, и когда она умерла, я не почувствовал утраты.

Я плохо помню свое детство. Но отдельные фрагменты врезались в память.
Воспитывали нас «экзотично». За провинности малышей зимой выводили в трусах на улицу и пихали в снег.
А летом таким наказанием была крапива. Еще помню, как запихивали мою голову в стиральную машину, и это было очень страшно.
Если ребенок писался по ночам, его наказывали. Не давали пить вечером и всю ночь, клали на голую клеёнку (а на нее – крапиву). Или просто лупили, если проснулся мокрый.
Помню, как бегал по коридору и уронил цветок. Зная, что примерно меня за это ждет, я разрыдался и испачкал штаны. Воспиталка в ярости потащила меня в ванную, по дороге отвешивая подзатыльники, и там продолжала меня отмывать, обзывать и бить одновременно.
После 5 лет меня отправили в другой детский дом. Там процветала дедовщина.
С провинившимися разбирались старшаки – им нас приводили специально на «воспитательную беседу», и нас били так, чтобы следов не оставалось.
В ход шла и карательная психиатрия: всех, кто плохо себя вел, клали в психушку на месяц, иногда – на два. Списки озвучивали на общей школьной линейке, перед всеми, видимо, чтоб другим неповадно было.
Некоторые ребята говорят, что в детском доме – свобода. Нет, мы были несвободны. Из интерната – до метро, от метро – в музей, все остальное время ты за забором.
О свободе я как раз мечтал. Очень ждал 18-летия. Мечтал, что стану ветеринаром, потому что любил животных.
Что такое семья, я представлял из фильмов и книг, считал, что там все просто.
В 15 лет я попал в семью. Мои представления частично оправдались, но не все. Например, я понял, что родители – это не друганы, с ними надо соблюдать субординацию. А еще – что надо учиться.
Благодаря семье я изменил свои мечты о будущем. Я понял, например, суть работы ветеринаром, увлекся физикой, сначала готовился в Бауманку, а в 11 классе заинтересовался финансами. Сейчас я учусь на первом курсе Финансового университета при Правительстве РФ.
Я долго не мог выстроить взаимоотношения с домашними детьми: не умел знакомиться, заводить разговор и сильно мучился по этому поводу. Все изменилось в студенчестве, только там получилось открытое общение.
Александра, 15 лет, живет в детском доме: «Детей возвращают, таких историй много»
Моя мама выросла в детдоме, все ее близкие погибли. Отец бросил ее беременной, у нас не было постоянного места жительства, и нас забрали – меня и моего брата. Так я в 4 года попала в детский дом.
Я еще не понимала, что происходит. Через 2 года меня забрали в приемную семью, где я прожила 6 лет. У них был свой кровный сын, но уже взрослый, а они хотели девочку.
Я хорошо училась, мама помогала, делала со мной уроки. Они много со мной разговаривали, хотели вырастить из меня человека. Надеюсь, у них это получилось.
В подростковом возрасте начались проблемы, я капризничала, стала их обманывать, хотя мама принципиально не выносила вранья. Я врала, потому что боялась наказания. У нас часто были конфликты, которые заканчивались слезами, – моими или ее. И однажды мама сказала: хватит.
Они сделали все тайно, даже не поговорили со мной. Сначала отдали меня в летний лагерь, оттуда – в реабилитационный центр, потом – в другой, а уже там психолог очень мягко сообщила, что от меня отказались.

Для меня это все равно было ударом, я заплакала. Во мне было опустошение, обида. Сейчас я понимаю: у нас не получилось наладить взаимоотношения. Детей возвращают, таких историй много…
У меня не было телефона, я не могла с ними связаться. Позже ко мне приехал папа – в гости. Но мне не хватило духу обсуждать с ним эту ситуацию.
Он и сейчас иногда приезжает. Папа хотел бы меня забрать, но приемная семья не может взять ребенка дважды – считается, что они не справились.
В детском доме не хватало свободы, которая была в семье. Не хватало родительской ласки, семейной атмосферы.
Когда я попала сюда во второй раз, у меня был шок, моя успеваемость упала, мне ничего не хотелось, было на все плевать.
Сейчас я перевелась по собственному желанию в другой детский дом. Здесь воспитатели ищут для детей репетиторов, волонтеров, разные фонды для помощи, организуют конкурсы, поездки.
В 2016 году моя кровная мама нашла меня в соцсетях. Сначала я не хотела общаться с ней, но потом мы встретились. Мне говорили, что она ведет асоциальный образ жизни, выпивает, но это оказалось не так. Она много работает, забрала брата из приемной семьи, он сейчас живет с ней. Она хотела забрать и меня, но я отказалась. Решила, что спокойнее остаться в детском доме, а после выпуска пойти своей дорогой.
Сейчас я занимаюсь в программе «Шанс» фонда «Арифметика добра», у меня есть наставник из фонда «Солнечный город», с ним мне надежно, он меня поддерживает. Я подтянула успеваемость, хочу поступать на факультет рекламы и связей с общественностью в ВШЭ.
Пойду ли я снова в приемную семью? Это сложный вопрос, сейчас у меня нет никакого доверия к людям. Я знаю, что мама у меня есть, мне этого достаточно.
Евгений, 30 лет, выпускник детдома: «Все, что можно, у меня уже отобрали»
В детский дом я попал года в два. Мама пила. На свободе осталась только моя старшая сестра – ей было уже 16. А нас, братьев, распределили по разным детдомам.
Мне как раз удалили один глаз, была онкология. В детском доме меня стали звать Циклопом, но потом я проявил свой задиристый характер, и получил прозвище Джек-Воробей, а потом просто – Воробей.

В детских домах процветала дедовщина. Каждый сам за себя, есть характер – выстоишь. «Хороших» не любили, я учился хорошо – меня били.
Мне надоело терпеть, я стал отвечать – за это меня отправили в психушку.
Отправление в больницу было издевательством – будили по ночам, задавали сонному вопросы, как будто пытали. Подсаживали детей на уколы и таблетки. Но потом мы даже радовались поездке в больницу – хоть отдохнешь от детского дома и от наказаний и битья.
Наказания были самые разные. У меня в 7 лет нашли пачку сигарет, я подрался с девчонкой из старшаков, которая сдала меня, – за это меня посадили на ночь в овощехранилище. Там крысы по картошке бегали. Я не мог спать, боялся, что они меня загрызут, так и ходил туда-сюда всю ночь, чтобы не уснуть.
Когда мне было лет 7, ко мне приехали знакомиться приемные родители. Но я отказался идти в семью.
Сначала старшаки надавали по шее: почему это я иду в семью. Жили же в детдоме по понятиям, в семью якобы забирали «лохов, которые постоянно ныли». Рассказать, что в семью не пускают старшаки, тоже нельзя – это было бы стукачество.
Воспиталки тоже говорили: «Ну вот, мы так хорошо к нему относились, а он нас бросает». Теперь я думаю, может, если бы ушел тогда, жизнь была бы лучше.
Я хотел стать каменщиком, но детский дом отправил меня учиться на овощевода. Выбирать нам не позволяли.
О смерти мамы я узнал в 14 лет, причем случайно – залез в кабинет почитать свое личное дело.
Меня это шокировало, так всю ночь и просидел над бумажкой о ее смерти. Я ведь мечтал выйти из детского дома и разобраться с ней: за что она так с нами поступила? А теперь и отомстить было некому.
Родителей я так и не простил. Простить можно того, кто сам этого хочет. Но раз мать при жизни этого не хотела, значит, ей не надо.
Жилья при выходе из детдома мне не дали – я даже не знал, что мне это положено. Сейчас идет судебный процесс.
Как только я вышел из интерната, с меня сняли инвалидность по зрению. Теперь мне отказывают в группе инвалидности, я несколько раз пытался встать на учет. Работаю грузчиком в ночные смены.
Если я ослепну, жить не хочу. В одиночку с проблемами не справиться. Человек одинок после детского дома, и это трудно.
Мне терять уже нечего. Может, поэтому мне так легко и живется. Все, что можно, у меня уже отобрали.
***
Ко Всемирному дню сирот фонд «Арифметика добра» запустил в соцсетях флешмоб «У детей должна быть семья». Если вы тоже хотите привлечь внимание к этой проблеме, поддержите его: поставьте на свою аватарку рамку (можно загрузить тут) и сделайте пост о своем отношении к сиротству с хештегами #арифметикадобра и #деньсирот
Читайте также:

- Кем хотят стать ребята из детдомов: от пекаря до парикмахера
- «Я не герой»: Дарья Могучая о том, почему усыновить ребенка — не сложно
- Связующая нить: как избежать возврата детей в детские дома
- 8 российских звезд, которые растят приемных детей
- «Они не расспрашивают — просто всегда рядом»: кто такие наставники для детей-сирот
Все материалы
Дети, которые живут в Домике
Проект: Маргарита Ивлева
В детдоме в группе Архипа на 20 детей с инвалидностью приходились один воспитатель и две санитарки. Мальчик не мог сам есть и ничего не понимал. Сегодня он ходит в школу и любит танцевать. Оля провела в интернате 16 лет, лежа на кровати. Сейчас она занимается керамикой и верховой ездой. Эти ребята — воспитанники Свято-Софийского социального дома. Все они живут в Домике.
500
психоневрологических интернатов работает в России
Светлана Бабинцева
директор Домика
Свято-Софийский социальный дом люди, которые в нем живут и работают, называют просто Домиком. Этот дом — для тех, кто имеет тяжелые множественные нарушения развития. В нем живут и дети-сироты, и взрослые, у которых нет семьи.
Свято-Софийский социальный дом был изначально детским домом. В нем жили сироты без нарушений развития или с легкой умственной отсталостью. Но в здании начали делать капитальный ремонт, ребят на это время расселили. А когда ремонт закончили, в 2013 году, в него вернулось только четыре воспитанника.
Дело в том, что пока в будущем Домике ремонтировали полы и стены, устанавливали, как положено по нормам и ГОСТам, пандус и лифт, правительство Москвы стало активно поддерживать приемные семьи. На детей стали чаще оформлять опекунство и «достаточно резко сократилось количество нормотипичных сирот в Москве», рассказывает директор Домика Светлана Бабинцева.
Сама Светлана к этому времени уже четыре года как была волонтером проекта помощи детям в государственных детдомах-интернатах, а также сестрой милосердия.
— Я регулярно занималась с ребятами [с множественными нарушениями развития] и понимала, что есть ряд внутрисистемных ограничений, которые сестрам милосердия никак не преодолеть: ни увеличением количества сестер, ни заключением какого-нибудь договора с интернатом на оказание услуг и дополнительной помощи. Есть ряд ограничений, которые невозможно обойти, чтобы у ребят была какая-то адекватная человеческая жизнь внутри системы.

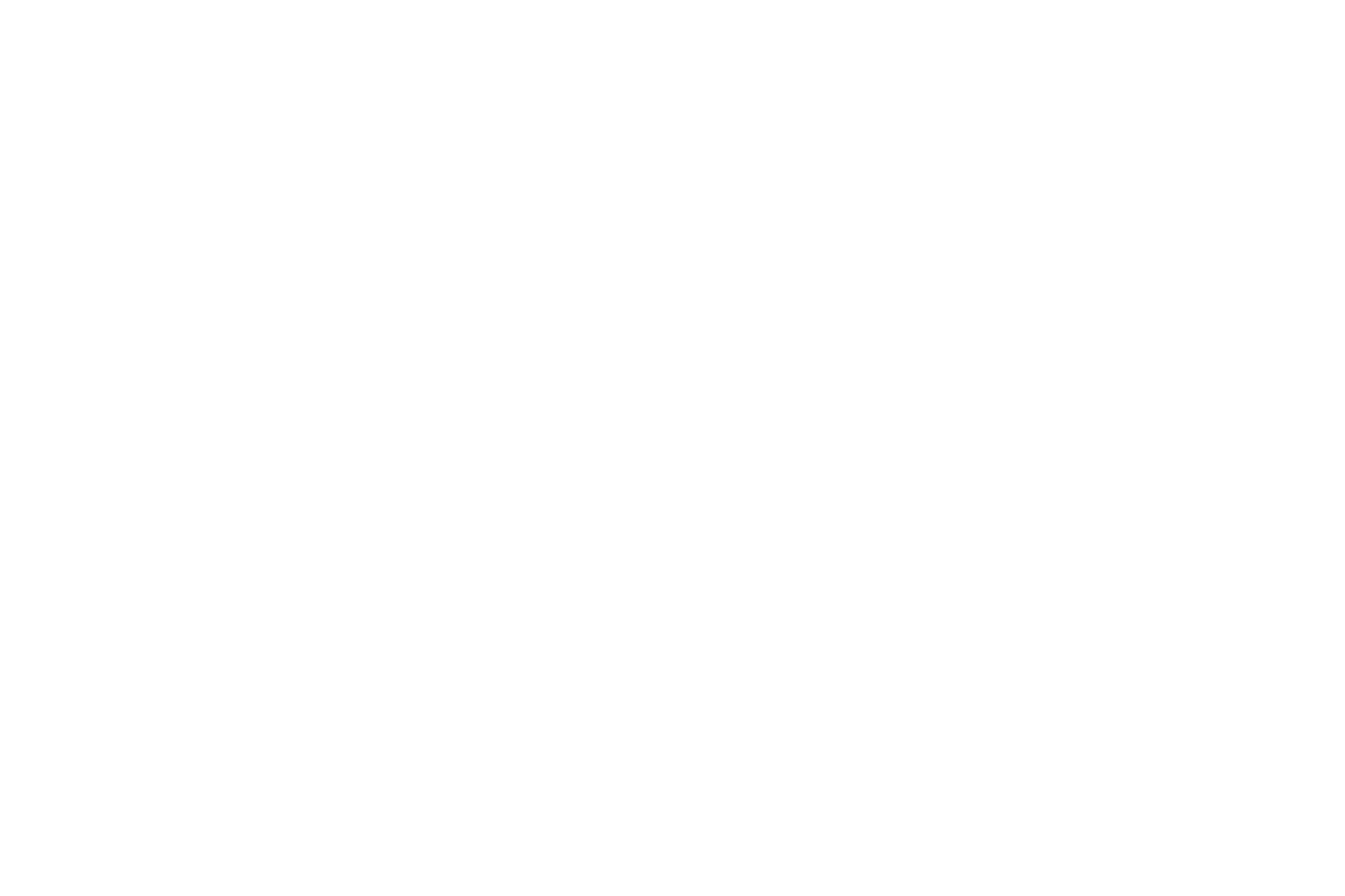
Одной из девушек, к которым приходили сестры, была 17-летняя Оля. Одна из самых сложных в группе.
— У нее была сильная аутоагрессия и практически отсутствовала динамика: любой минимальный контакт вызывал напряжение и агрессию. И в конце 2013-го удалось пробиться через стену, ее окружавшую, удалось добиться внимания девушки. У нее наконец появилась положительная динамика в плане эмоционального состояния, коммуникации, освоения социально-бытовых навыков.
Приближался Новый год — и выяснилось, что в это время Оля планово ложится в психиатрическую клинику. Лечение там она проходит регулярно, дважды в год, в больнице проводит по три месяца.
— Эта история про полжизни в психиатрической клинике была оправдана тем, что Оле пытались подобрать необходимую терапию, чтобы у нее стабилизировалось состояние.
Понятное дело, что ничего общего со стабилизацией состояния пребывание в психиатрической клинике не имеет, и Оля на практике это доказала: за 17 лет путешествий в больницу она так и не стабилизировалась.
Сестры пытались сделать что-то, чтобы Олю не госпитализировали. Убеждали руководство интерната, что у девушки есть положительная динамика и помещать Олю в психиатрическую больницу значит губить девушку.
Но Олю увезли.
— Это было для меня осознание того, что сама по себе система устроена так, что человек, личность не являются ценностью. И неважно, в каком человек состоянии, в хорошей он динамике или нет — система едет по привычным рельсам и ломает, крушит на своем пути судьбы и попытки эти судьбы как-то изменить.
Светлана Бабинцева о переезде детей из интерната в Домик:
«…вдруг такая зашкаливающая свобода: переезд 2 марта — это солнце, это собственная территория, это чай на траве собственного дома, когда ты знаешь, что в интернате ты не мог себе этого позволить, потому что чай можно пить только в комнате и только за столом».
В Домике обычной жизнью живут необычные дети и взрослые. У них есть собственные уютные комнаты с красивыми занавесками на окнах, личные вещи. Они катаются с горки, ходят в магазины, в кино, в музеи. Но, самое главное, здесь их слышат, понимают и любят.
Те, кто не может разговаривать, успешно осваивают язык жестов и карточки.
В Домике есть свой домовый храм, и воспитанники регулярно посещают богослужения
Епископ Пантелеймон служит Божественную Литургию
Сестры пошли к владыке Пантелеимону, в чье ведомство входил Свято-Софийский тогда еще детский дом. И владыка «не без опасений» благословил перевезти детей из интерната — из той группы, с которой занимались сестры.
Много сил было потрачено на то, чтобы департамент согласился передать детей Свято-Софийскому социальному дому. Но в конце концов 15 детей из детского дома-интерната были переведены в Домик. И в их числе — Оля.
Сейчас Оле 23 года — она самая старшая из ребят Домика. В доме-интернате она провела 16 лет, лежа на кровати.
Но в 20 лет она научилась ходить и плавать. Сегодня Оля занимается керамикой, столярным ремеслом и даже верховой ездой.
30 %
попали в ПНИ из детдомов-интернатов без психиатрического переосвидетельствования

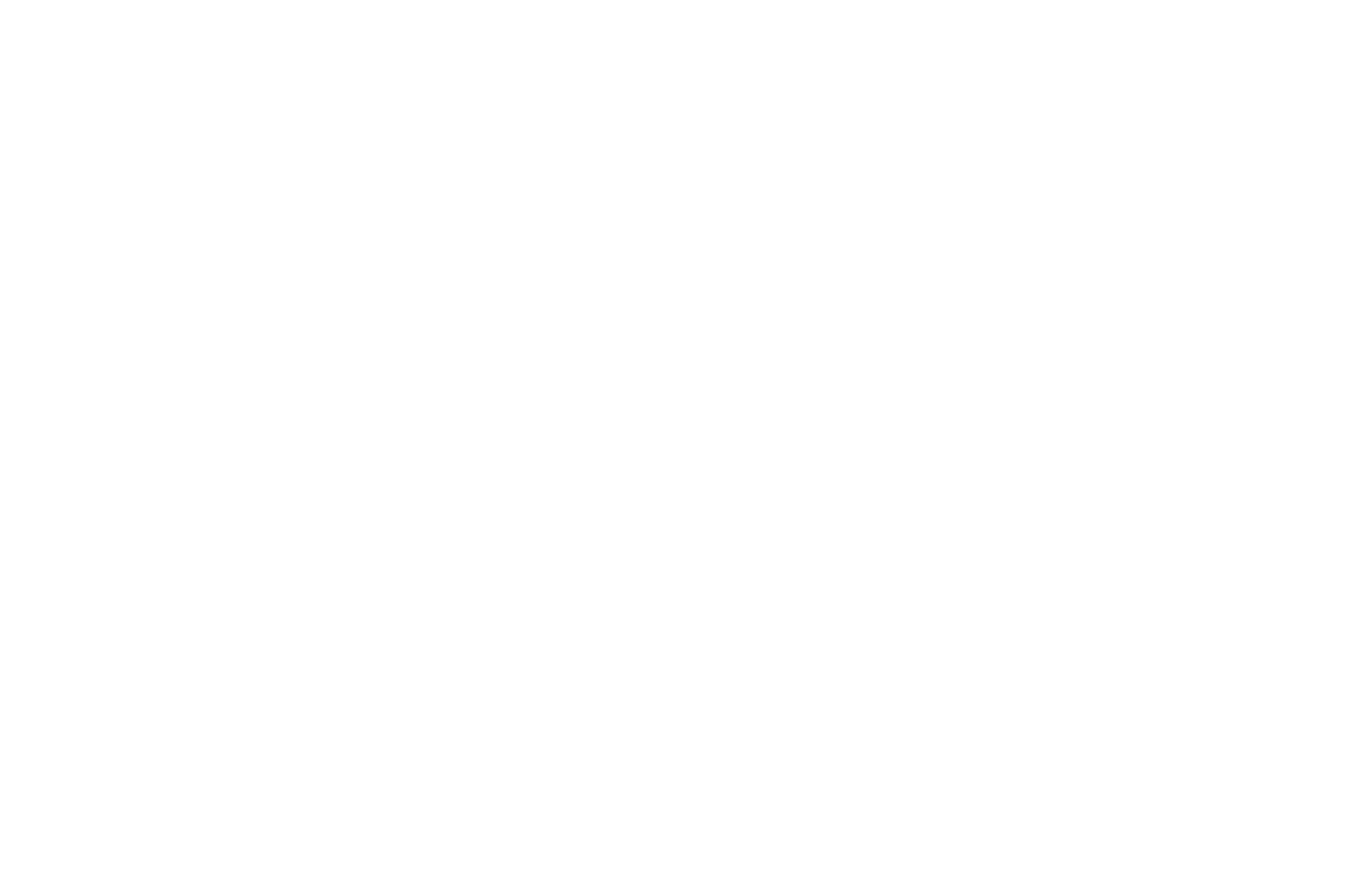
Ферузе 15 лет. У нее ДЦП и другие нарушения развития. В детском доме она жила в отделении для самых тяжелых детей и считалась необучаемой.
В девять лет Фира переехала в Домик. Тогда она не знала ни одной буквы и цифры, не имела представления об окружающем мире. И даже не понимала, зачем все это нужно.
Теперь Феруза учится в школе, умеет читать, считать, пользоваться таблицей умножения и печатать на клавиатуре. А когда вырастет, мечтает стать директором Домика. В свободное от школьных уроков время Фира посещает дополнительные занятия в Центре лечебной педагогики: керамику, музыку, кулинарию и индивидуальные занятия с дефектологом, а в Домике — уроки танцев и физкультуру, с удовольствием ездит в бассейн. А еще она очень любит гулять и общаться с друзьями.
Феруза очень любит керамику и с удовольствием показывает свои поделки
Во время карантина Феруза и другие дети перешли на онлайн-обучение
Феруза в сопровождении воспитателя садится в такси, чтобы ехать к бабушке. «Я очень люблю сосиски, поэтому бабушка называет меня «Сосисочница», — смеется она

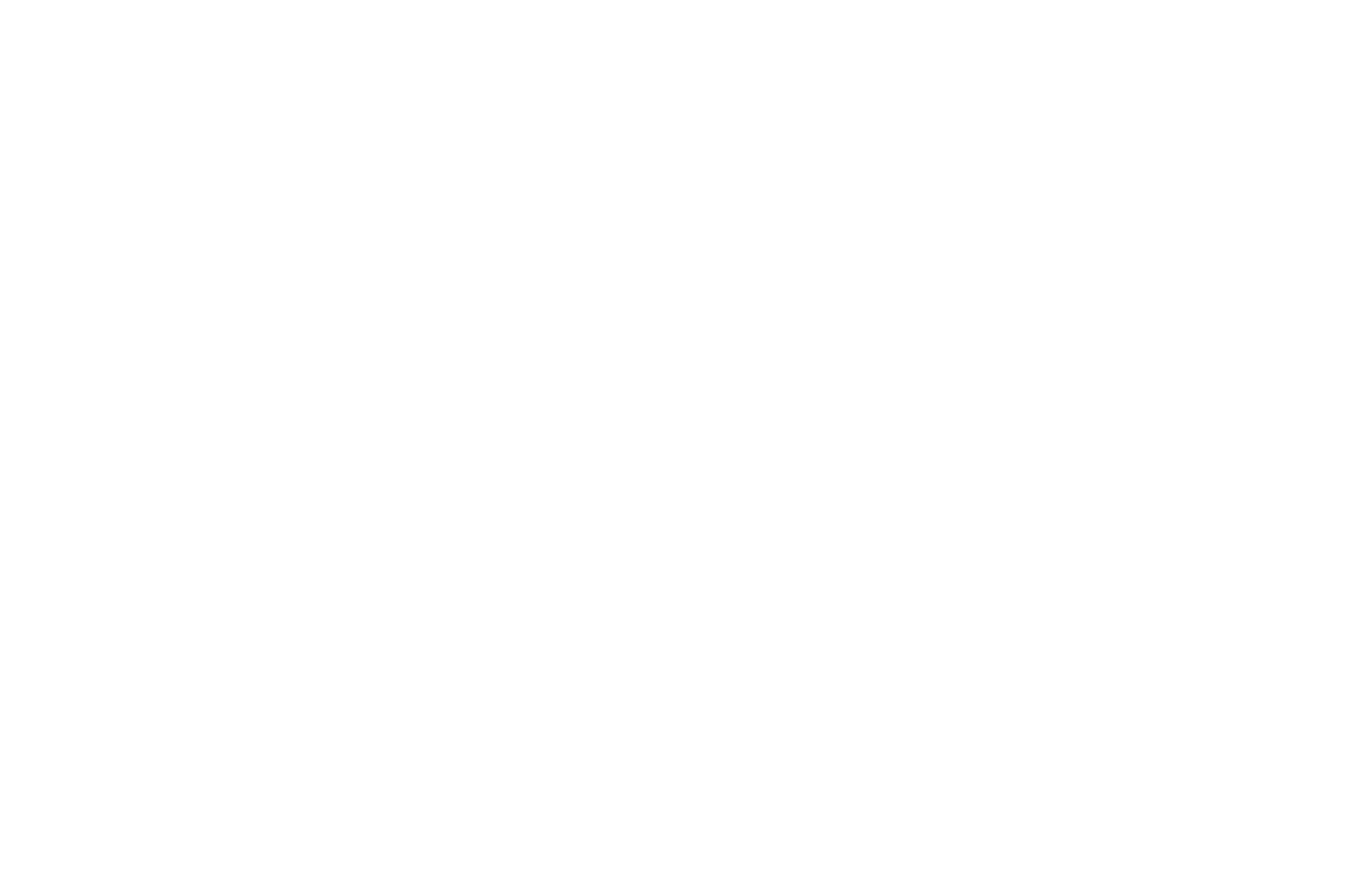
Кате 17 лет. Еще совсем недавно Катюша была домашним ребенком.
Мама Кати работала учительницей и настояла, чтобы девочка пошла в обычную школу. А еще она учила ее всему, что умела сама: готовить, заниматься домашними делами, рукодельничать. Благодаря маме Катюша полюбила читать и слушать классическую музыку.
Когда Кате было 14 лет, ее мамы не стало. Она долго и трудно боролась с онкологическим заболеванием и очень переживала о том, что будет с Катюшей без нее.
И, конечно, ее беспокойство не было напрасным: по закону Катя всю жизнь должна была провести в психоневрологическом интернате. Но благодаря чудесному стечению обстоятельств девочка попала в Домик.
Сегодня Катя ведет активный образ жизни и получает необходимую медицинскую поддержку. Она закончила школу и готовится к поступлению в колледж. В свободное время занимается творчеством, учится играть на пианино и ведет собственный видеоблог.

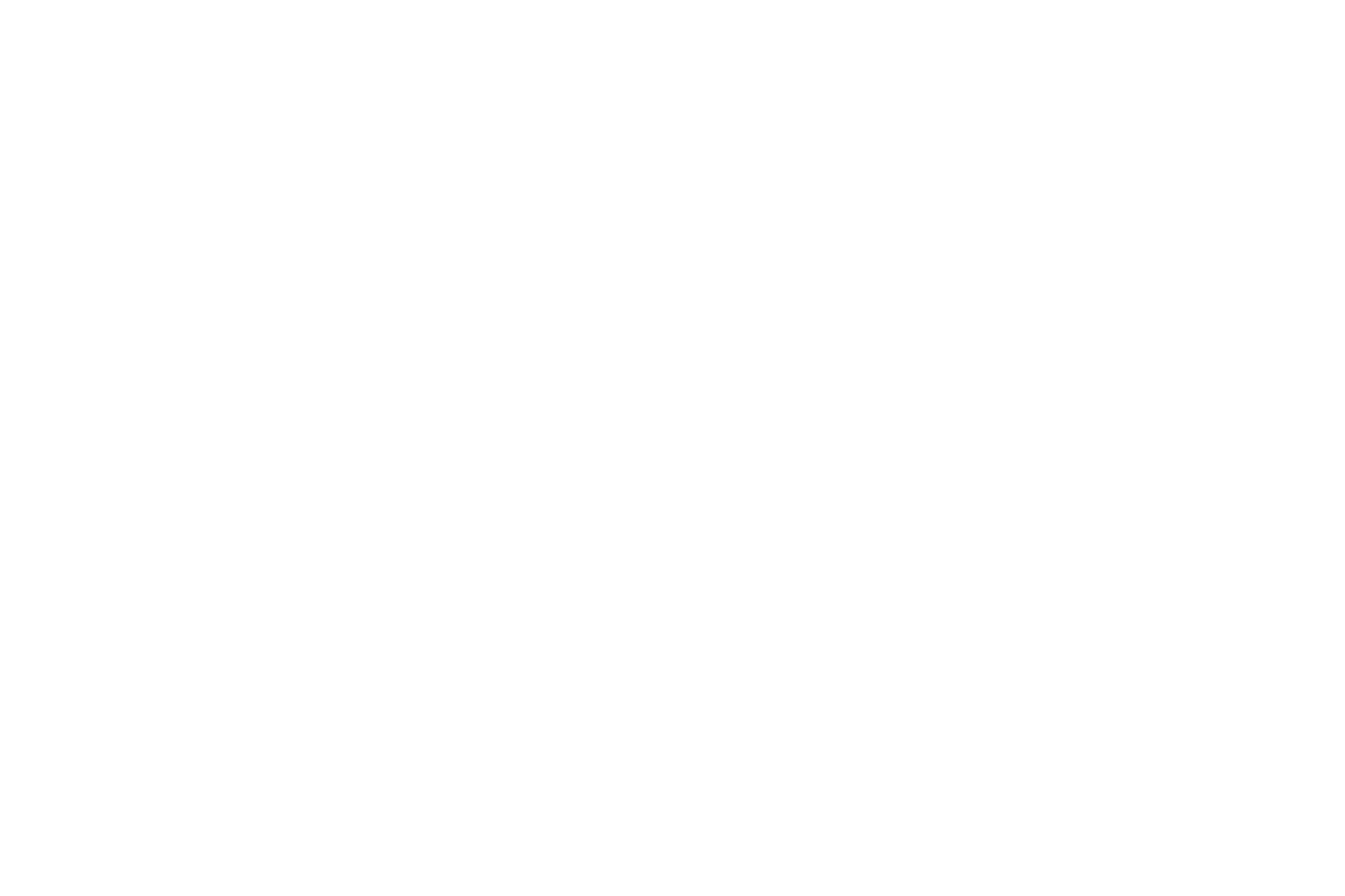
Семен — самый младший из воспитанников Домика, а точнее бывших воспитанников, так как в 2021 году для Семена нашлась приемная семья! Семену сейчас восемь лет. Мальчик появился на свет с врожденным пороком спинного мозга. Родители сразу от него отказались.
У Семена диагноз spina bifida. Он не может ходить. В Европе дети с таким заболеванием живут полноценной жизнью, учатся в обычных школах, осваивают доступные профессии. А в наших реалиях Семен должен был отправиться в детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
Наверное, поэтому никто не считал нужным учить мальчика даже самым простым вещам: самостоятельно есть, ходить, разговаривать.
По счастливому стечению обстоятельств вместо интерната Сема попал в Домик.
Тогда, в четыре года, мальчик выглядел намного младше своих лет и не умел почти ничего. Однако, почувствовав неподдельный интерес со стороны взрослых, Семен смог быстро научиться всему, что обычно умеют дети в его возрасте. Сейчас мальчишка без умолку болтает, засыпает взрослых неожиданными вопросами, решает логические задачки.
Семен укладывает спать кукол и рассказывает: «А мама спать не будет, она будет за всеми следить». Семена забрали в приемную семью в 2021 году
Вике 12 лет. При рождении она перенесла тяжелую гипоксию, в результате которой пострадал головной мозг. Вика оказалась в государственном детском доме-интернате, среди лежачих и неговорящих детей, где прожила до восьми лет.
А потом Виктория переехала в Домик. Тогда она не умела разговаривать, а только громко и страшно кричала, кусала себе руки и категорически отказывалась оставаться одна в приготовленной для нее комнате.
Со временем Вика стала доверять окружающим, избавилась от множества страхов, научилась говорить и заразительно смеяться, стала намного спокойнее и увереннее в себе.
Сегодня девочка много и с удовольствием разговаривает и активно пополняет свой словарный запас. Она с интересом учится в школе, увлекается флористикой, посещает керамическую и столярную мастерские, катается на самокате и двухколесном велосипеде. Вика всегда с радостью участвует в домашних делах, выполняя многие задачи абсолютно самостоятельно.
70 %
жителей ПНИ лишены дееспособности

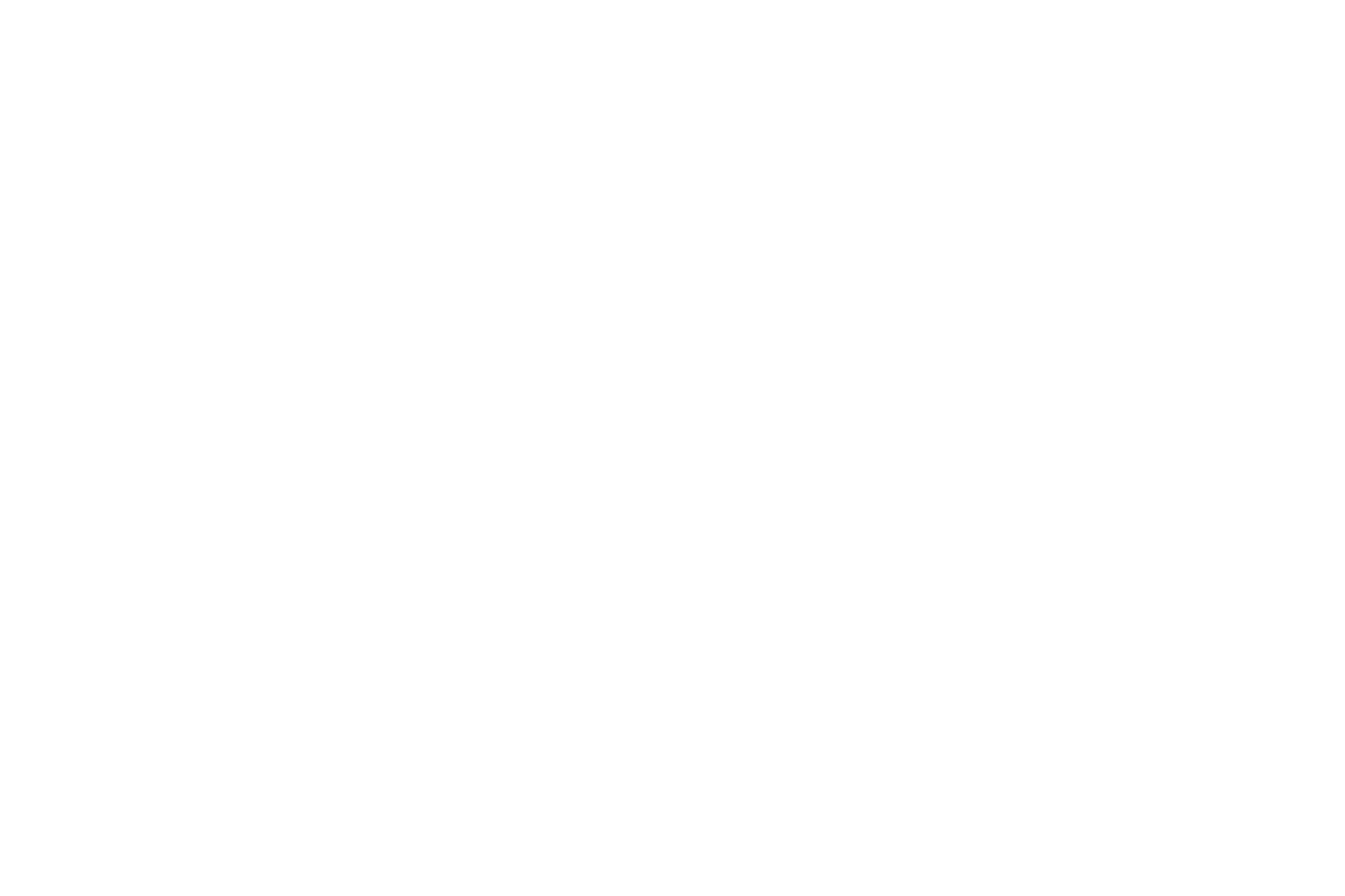
Архипу 11 лет. У мальчика много врожденных проблем со здоровьем. До переезда в Домик Архип жил в интернате для детей-инвалидов. На группу из 20 воспитанников там приходились всего один воспитатель и две санитарки, постоянно занятые хозяйственными вопросами, а не развитием подопечных. Поэтому когда Архип приехал в Домик, он не ориентировался в пространстве и времени, не понимал обращенную речь и совсем ничего не умел, даже есть самостоятельно. Мальчик был очень замкнутым и отказывался идти на контакт со взрослыми.
Несколько лет потребовалось воспитателям и специалистам, чтобы научить Архипа доверять людям. Сегодня Архип — очень веселый и добродушный молодой человек. Он с удовольствием ходит в школу и на дополнительные занятия, любит танцы и ритмику, точно повторяя за педагогом все движения, с радостью принимает участие в кулинарных мастер-классах и лепит из глины.

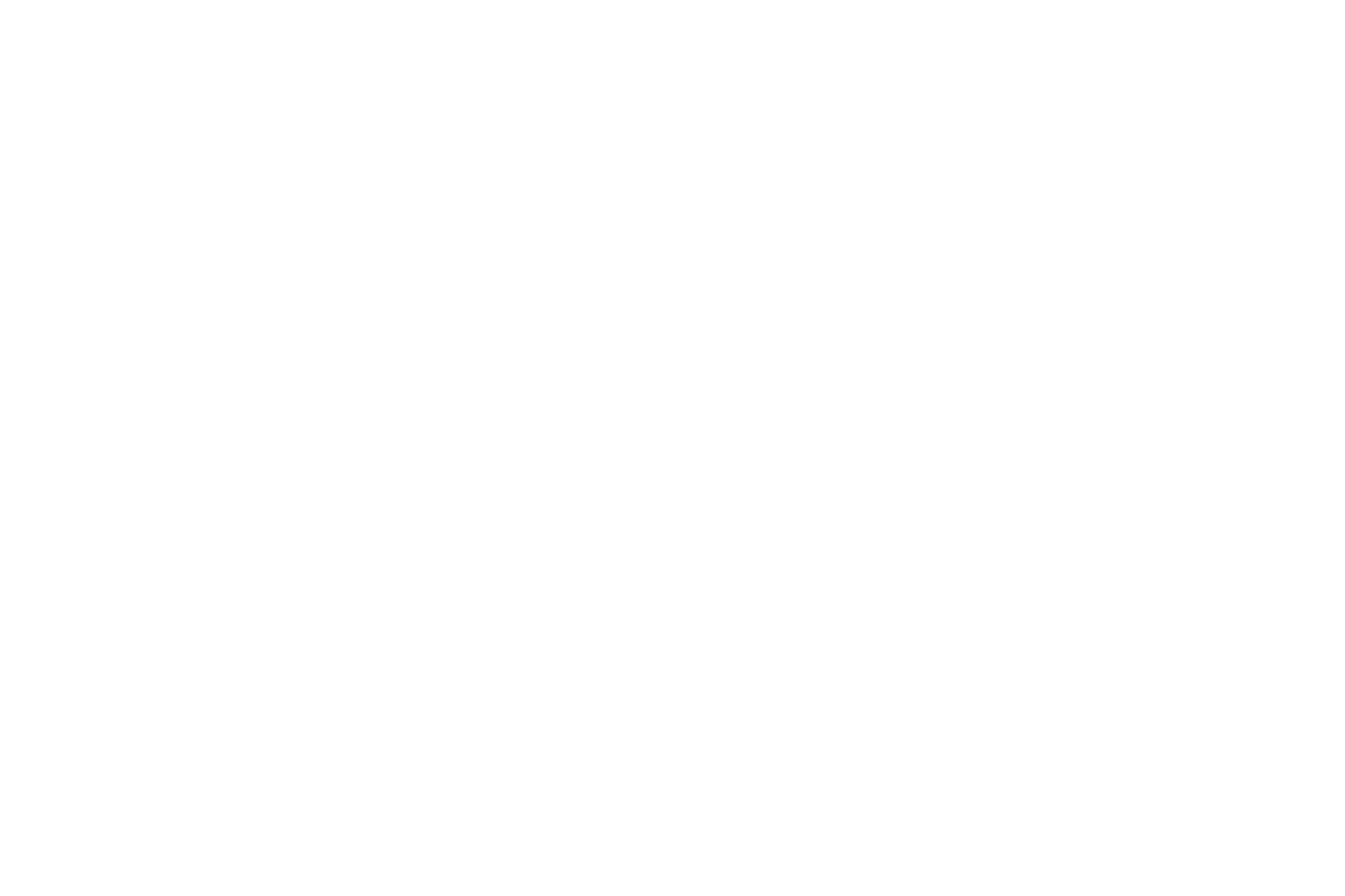
Анастасии 21 год. Ее детство и юность прошли в доме ребенка и в государственном доме-интернате для детей-инвалидов. Из-за тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата Настя совсем не могла передвигаться самостоятельно и все время лежала в кровати. А еще у нее была небная расщелина, которая мешала девочке научиться говорить и выражать свои желания и эмоции.
Когда в 2015 году Настя переехала в Домик, она была очень маленькой и слабой. Здесь ей сразу заказали корсет и подобрали специальный комплекс упражнений. Постепенно девушка набрала вес, окрепла физически и к своему совершеннолетию, вопреки всем прогнозам врачей, научилась ходить!
После переезда Насте сделали операцию — зашили небную расщелину. И теперь Настена не только осваивает альтернативную коммуникацию, но и старательно занимается с логопедом и уже повторяет некоторые слова.
54 %
жителей ПНИ — люди трудоспособного возраста

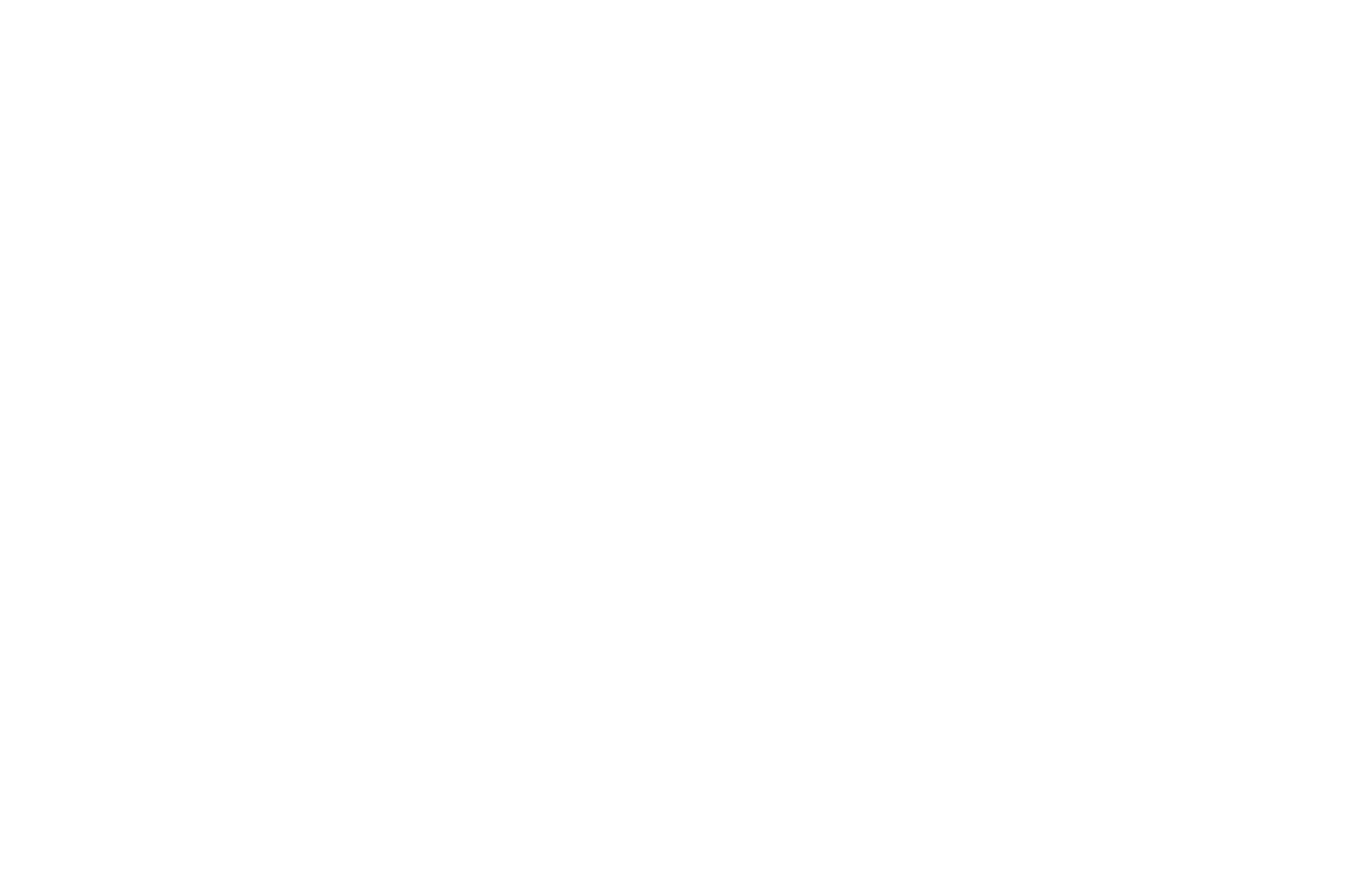
Коле 14 лет. Он родился в крайне тяжелом состоянии, в первые дни жизни перенес сложную операцию. Родная мать отказалась от него еще в роддоме, поэтому его детство не было радостным и счастливым. В детском доме-интернате, где мальчик оказался, его считали неперспективным и ничему не учили.
В девять лет Коля переехал в Домик, постепенно освоился, начал понемногу приобретать необходимые для нормальной жизни навыки.
Вскоре он неожиданно обнаружил, что по утрам можно самому вставать с кровати, и стал с интересом исследовать окружающее пространство, заглядывать в соседние спальни и перебирать игрушки в игровой.
Благодаря своей активности и любознательности Коля смог очень многому научиться. Сегодня он самостоятельно одевается (если захочет, конечно), ходит с небольшой поддержкой взрослого, помогает воспитателям по хозяйству. У Коли не очень большой словарный запас, но говорит он постоянно: спрашивает, комментирует, уточняет…
А еще Коля очень любит разную технику. Он готов часами изучать ее устройство, разбирать и снова собирать детали. Как настоящий водитель, Николай лихо управляет веломобилем — одновременно рулит и крутит педали.

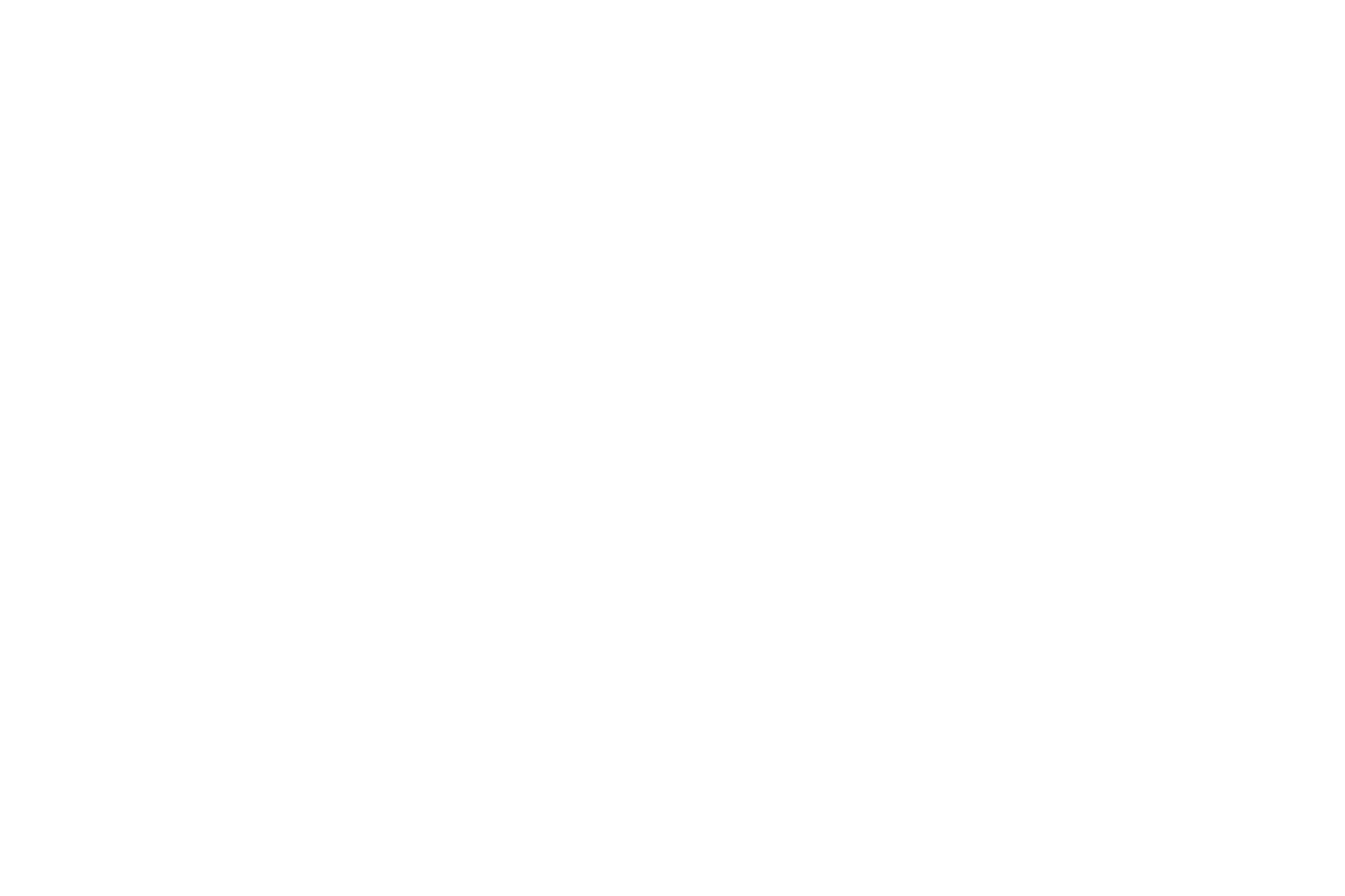
Наташе 11 лет. Она родилась раньше положенного срока и весила всего 950 грамм. Сразу после рождения крошечная Наташа осталась одна в большом мире — родная мама от нее отказалась. Начались скитания девочки: больница, дом ребенка, детский дом-интернат для детей-инвалидов.
В пять лет Наташа переехала в Домик. Тогда она совсем ничего не умела, только громко кричала и никак не могла объяснить, почему же ей так плохо и пусто.
Сегодня Наташа самостоятельно ест и одевается, уверенно ходит, занимается плаванием и танцами, осваивает беговел и ролики. А еще она с огромным интересом учится в школе и помогает воспитателям в домашних делах. Ната очень хозяйственная: и стиральную машину загрузит, и посуду помоет, и пол подметет. И все это с искренней радостью и удовольствием!
В октябре 2021 года свершилось долгожданное событие: Катя, Вика, Феруза и Леон переехали в квартиру сопровождаемого проживания. Ребята готовились к переезду с весны: учились готовить еду, мыть посуду, стирать. Теперь они живут самостоятельно, хоть и с воспитателями.
— Любой человек должен жить в социуме, и нет таких людей, кому показана жизнь за забором, — говорит Светлана Бабинцева.
То, что тебе грустно, сложно, плохо, никого не волнует. Плохо там всем. Жалеть никто никого не будет
Истории из детского дома. Часть 2. Внутри детского дома
Читать все Истории из детского дома
В детдоме я встретил пацана, которого бил в школе. Общая беда нас примирила. Мы рассказали друг другу свои истории и после этого общались на равных.
Через пару дней после моего заезда приехал выпускник. Позвал меня в комнату. Показал две ложки, соду и таблетки анальгина. Все это я привез с собой в рюкзаке. Сказал, что, если еще раз увидит — даст ….ы.
То, что можно убиться анальгином с содой, мне показали в СРЦ. В распределителе можно было узнать больше, чем за время пребывания на улице. В туалете употребляли, воспитателей били. Хотя дисциплина там была дикая — на окнах решетки, а при заезде заставляли снимать все, включая трусы. Но это не помогало.
Убиться, нюхая анальгин с содой, на самом деле, было нельзя, рецепт был паленый. Сам я не пробовал, давал нюхать другим и смотрел на результат. Кто-то говорил – фигня, а кто-то, что вставило. Я не спорил.
Как-то попросил у старшего сигу. Он дал. Сказал, если узнают – … Скурил ее в туалете, по запаху меня запалил воспитатель, спрашивал, где взял. Я не ответил.
Тогда всю группу построили в шеренгу и сказали мне сделать шаг вперед. За то, что я не признавался, хотели наказать всех. В итоге сделал шаг вперед сам старший. Не знаю, проверка это была или нет, но после этого пацаны стали относиться ко мне нормально.
Главное — не показывать свою слабость и быть сильным духом. Раз прогнешься — будешь «отбросом» на побегушках.
То, что тебе грустно, сложно, плохо, никого не волнует. Плохо там всем. Жалеть никто никого не будет.
В нашем детдоме было около 30 пацанов. 10 мелких, 13 отбросов и 7 нормальных. До 14 лет воспитатели справлялись сами, а с подростками, когда те начинали проявлять характер и вести себя агрессивно, в конфликты не вступали, поручали разборки старшим.
Было дело — подошел старший, выбил у меня из руки сигу. Я позвонил пацану, с которым жил в одном дворе, он недавно вернулся с малолетки, мы знали друг друга с детства. Сказал ему, что меня напрягают, передал трубку. С тех пор старший держался от меня на расстоянии.
Однажды я расстался с девушкой, мне было плохо, я плакал и бил кулаками по стенам. Он зашел и спросил: «Это из-за меня?» Я послал его. Больше конфликтов у меня с ним не было.
9-й класс я доучивался в своей школе, но после занятий возвращался не домой, а в детский дом. В школе был мой привычный круг общения, все, кого знал с района.
После экзамена по алгебре мне предложили накуриться, я не отказался. Потом меня рвало. Помню, что ко мне наклонился какой-то мужик, спрашивал, плохо ли мне, потом отвез в больницу.
Там просили что-то подписывать, показывали документ, говорили: «И тут, и тут, и тут, и тут, и тут, и еще вот тут». Но ручка весила тонну, я не мог ее держать. Потом не мог идти и меня посадили в инвалидную коляску. Проснулся в коридоре, когда уже отпустило, чувствовал себя хорошо.
Пришла медсестра, поставила капельницу. Я говорил, что лежать так не буду. Снимать она отказалась, и тогда я выдернул ее сам. Брызнула кровь из руки. Из иглы полился раствор. Я не знал, как все это перекрыть, залило всю постель.
Пока никого не было, вышел из здания, спокойно прошел через охрану и по-тихому уехал в детский дом. Алгебру я сдал. Экзамен на доверие провалил. С тех пор ходил в школу с сопровождающим.
Наркотики обычно брали на ж/д станции. Когда ездили в лагерь, провозили их в аудиоколонке.
В лагере в Крыму было 10 отрядов. Семь отрядов из детдомовцев и три из домашних. Ни с кем из них мы не дружили, нам хватало своих.
Один парень все время сидел с ноутбуком на вайфае. Я подошел, начал его доводить, пшикать в него из водного пистолета. Он сказал, что еще раз и изобьет меня. Я ответил: «Жду».
Мы зарубились. Я разбил ему нос, он мне бровь. Хотел ударить с вертухи, но растяжки не хватило, я закинул ногу ему на плечо, и мы оба упали. Когда баторские узнали про мою бровь, всыпать ему захотел каждый. Была задета баторская честь, да и нам нужен был любой повод чтобы подраться.
С ним ходило по несколько охранников, но в итоге все равно его подкараулили и избили. Руководство лагеря понимая, что это не закончится, отправило парня его в Москву.
Однажды я спалил, что наш воспитатель убитый. Спросил, чем. Он сказал зайти вечером. Так я вместе с другом первый раз попробовал «лирику». Помню, что вернулся в комнату, лег на кровать, но мне казалось, что сейчас упаду и сорвусь в пропасть.
Среди детдомовских было много шалав. По крайней мере, так говорили. Пацаны показывали: вот эту, вот ту можно. Но я не хотел ни одной, мне это было не интересно, я верил в любовь и хотел, чтоб все по любви.
Выпускники знали, когда кому исполнится 18. С этого момента можно было снимать деньги со сберкнижки, накопленные за время в интернате.
За несколько недель до они начинали писать и звонить тем, кого хотели развести. Для детдомовских это было прикольно, добавляло авторитета: «О, выпускник звонит, хочет общаться!» Многие велись. Когда так позвонили мне, я сразу послал.
В нашем интернате не воровали, но пацаны из других – да. Заходили в Адидас, Найк, Пуму, Спортмастер, находили слепую зону, где не было камер. Считали количество персонала. Трое, например занимали продавцов, четверо заходили в примерочную.
Пока охранник наблюдал за ними, пятый воровал куртки и кроссовки. Чтоб не пищала пластмассовая защита, которую кассир снимает с вещей на кассе, обматывали ее фольгой.
Если подытожить — мы просто хотели жить как нам по кайфу и делать то, что хотим. В основном это получалось, хотя иногда были столкновения с администрацией.
Детский дом считаю хорошим опытом, мне дали образование, у меня появились друзья. Есть взрослые, к которым до сих пор могу приехать за советом, которых уважаю.
Воспитатель, который мне запомнился больше остальных, был справедливым и человечным. Если ребенок нарушал правила, он не ругал его, а объяснял, как надо было поступить в открытую: сказать, попросить, обратиться. Все пользовались его добротой, я тоже. Но сейчас понимаю, что все, что он, делал было правильно. Его отношение оставило во мне положительный след.
Я имею опыт работы с психологом и в отличие от моих знакомых не считаю эту профессию бессмысленной. Вспоминается только хорошее. И отношения нормальное внутри и по фану все было.
Фонд благодарит за иллюстрации к блогу Дарью Булгакову, студия Boyko.Pictures
-
Подписаться
Портал changeonelife.ru — крупнейший ресурс по теме семейного устройства, который каждый день помогает
тысячам людей получить важную информацию о приемном родительстве.
Родители читают экспертные материалы, узнают об опыте других семей и делятся своими знаниями, находят детей в базе видеоанкет.
Волонтеры распространяют информацию о детях, нуждающихся в семье.
Если вы считаете работу портала важной, пожалуйста, поддержите его!
Поддержать портал
В 2021 году в детских домах России находилось около 37 тысяч детей — об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Как попадают в учреждения, как выглядит жизнь воспитанников и что ждёт подростков, которым исполняется 18 лет? Обо всём этом «Горящей избе» рассказала Екатерина Куракина. Она попала в детский дом в возрасте пяти лет, а после воспитывалась в приёмной семье. Сейчас девушка живёт и работает в Москве вместе со своим мужем, тоже выпускником детского дома.
«Выяснилось страшное»
Когда я была маленькой, мы с мамой и папой жили в селе Новостройка Пензенской области. У моей мамы четверо детей: старшая сестра, рождённая от другого отца, брат, средняя сестра и я, самая младшая. Я практически не помню раннее детство, но, по рассказам брата, наша жизнь была совершенно обычной.
Всё изменилось в феврале 1997 года, когда мне было пять лет. Незадолго до этого выяснилось страшное: наш папа насиловал старшую сестру. Маму это известие сломило, и она стала много пить, хотя раньше не увлекалась алкоголем. В доме начались бесконечные скандалы: мама пыталась уйти от отца, но при каждой попытке он сильно её избивал, и в итоге она оставалась с ним. Спустя несколько дней после очередного такого случая мама умерла. В заключении о смерти написали, что причиной стала острая форма ишемической болезни сердца.
На похороны приехала мамина сестра из Якутии. Она же написала на папу заявление в милицию, обвинив в насилии над моей сестрой. Его почти сразу взяли под стражу, а чуть позже признали виновным и отправили в тюрьму. Он вышел оттуда только в 2006 году. Тётя пыталась добиться, что его также признали причастным и к смерти мамы. Для этого даже проводилась эксгумация тела, но доказательств оказалось недостаточно.
Старшая сестра к тому моменту уже была совершеннолетней, и после всех этих событий уехала в районный центр Кузнецк, где училась в техникуме. А нас троих отправили в больницу, где мы жили какое-то время. Оказалось, это обычная практика, когда дети лишаются родителей и их дальнейшая судьба ещё не ясна. Тётя не могла забрать нас к себе: у неё самой было двое детей и ещё троих они с мужем просто не потянули бы. Впереди маячила перспектива детского дома.
«Осталось только чувство, что всё вокруг непривычное, и воспоминание о своей дурацкой причёске»
Главный вопрос состоял в том, что делать со мной: я была младше брата и сестры и не могла попасть с ними в одну группу. Тётя хотела, чтобы обо мне было кому позаботиться. Она приняла решение, что я пойду в школу в пять лет вместе с сестрой. В таком случае мы попадали в одну группу в детском доме и могли жить вместе. Это в итоге отразилось на моей успеваемости: в школе было очень тяжело, я плохо училась и слабо усваивала материал.
Детдом, куда мы попали, находился в посёлке Ясная Поляна, совсем недалеко от нашего родного села. Это было государственное учреждение, где воспитывались дети от трёх до восемнадцати лет. Можно было уйти оттуда и раньше, если закончишь девять классов и поступишь учиться в техникум или училище. Мы жили в трёхэтажном кирпичном здании, которое могло вместить в себя около трёхсот человек вместе с персоналом. Рядом находилась общеобразовательная школа, которая соединялась с детдомом отдельным переходом, — он же выполнял функцию актового зала.
Табличка на входе в учреждение. Сейчас Яснополянский детский дом закрыт, а здание, в котором он находился, заброшено. Фото: Сергей Куракин
Первый этаж был отдан под административные и хозяйственные кабинеты. У нас даже была столярная мастерская, где проводили кружки. Два верхних этажа были жилыми. Второй — для мальчиков, третий — для девочек. Каждый делился на два крыла: в одном жили младшеклассники, в другом старшие воспитанники. Комнаты были рассчитаны на двух — пятерых человек. Нам с сестрой досталась комната на троих. Мы делили её с соседкой, с которой общаемся до сих пор.
В нашей спальне не было ничего особенного: две кровати, одна из которых двухуровневая, три тумбочки, письменный стол и шкаф для одежды, служивший для нас дополнительным развлечением. Мы часто забирались на него и прыгали вниз на пружинную кровать. Кроме спален, в каждом крыле были игровые комнаты. Там стояли телевизоры и дополнительные столы, чтобы учить уроки, здесь же были сложены игрушки. В этих комнатах отмечались все праздники и раз в месяц проводились чаепития с тортом в честь именинников. Также в каждом крыле было по одной умывальной комнате, ванной, где мы обычно стирали, и туалету. Везде было довольно чисто и даже по-своему уютно.
Наш детский дом окружал яблоневый сад, тут же находился обширный огород. Раньше дети даже на нём работали, но нам уже не пришлось. А ещё на территории была баня, куда раз в неделю водили мыться всех детей.
Детские фото Кати. На левом верхнем снимке Катя — в зелёной кофте. Снимок сделан, когда девочка только попала в учреждение. Фото: архив Кати Куракиной
В 1997 году в Яснополянском детском доме жили около восьмидесяти детей. Я плохо помню свои ощущения от первых дней там. Осталось только чувство, что всё вокруг непривычное, и воспоминание о своей дурацкой причёске. Когда мы заселялись, нас всех постригли «под горшок». Видимо, опасались вшей. Мне казалось, что это слишком коротко. Ещё помню, что часто падала с кровати по ночам: я спала на верхнем ярусе.
«Мы часто ходили в одинаковой одежде и обуви, потому что вещи закупали оптом»
В детдоме жизнь течёт по расписанию: подъём, умывание, завтрак, школа. После занятий — уроки. Иногда нас привлекали и к хозяйственным делам — например, мы помогали в столовой, чистили картошку. Чаще всего этим занимались девочки. В свободное время играли или занимались творческой самодеятельностью. Нам давали немного карманных денег, и мы могли сходить в магазин и купить себе сладостей.
Одежду выдавали раз в месяц. Воспитатели составляли список того, что нужно каждому ребёнку, эти вещи покупали и раздавали нам. Существовали квоты: например, осенняя куртка выдавалась на год и её заменяли только в случае, если старая совсем порвётся. Нижнее бельё выдавали почти каждый месяц. Мы часто ходили в одинаковой одежде и обуви, потому что вещи закупали оптом.
Один из рисунков на стене детского дома. Фото: Сергей Куракин
Самой большой проблемой была коммуникация с другими детьми. В детдоме старшие воспитанники частенько обижали младших: в основном дразнили, хотя случались и драки. К счастью, у нас с сестрой был старший брат, который всегда вставал на защиту.
Все, кто жил в детдоме, делились на группы, и у каждой был свой воспитатель. У нас — Людмила Борисовна, я до сих пор с ней общаюсь. Она занималась с нами, организовывала досуг, решала детские проблемы. Помню, что когда мне нужно было решать задачи по математике, которая особенно плохо давалась, я просила воспитательницу разобрать примеры на конфетах. Она делала это, и мне гораздо легче. Кроме помощи с уроками, Людмила Борисовна научила меня вязать и вышивать. Я очень ей благодарна. Ещё я много общалась с нашими уборщицами. У них был маленький кабинетик, и я постоянно у них гостила. Они подкармливали меня и поили чаем, а я помогала им убираться и заодно училась всяким хозяйственным премудростям.
Я считаю, что нам повезло с сотрудниками детдома: все работавшие там люди были внимательными и действительно любящими детей. Но допускаю, особенно тёплое отношение могла чувствовать только я: дело в том, что на третьем году жизни в детдоме я подцепила туберкулёз и год пролежала с ним в диспансере. Когда я вернулась, окружающие жалели меня и берегли: директор даже приносил домашнее варенье, чтобы я окрепла.
«Мы почти не говорили о своих отношениях с семьями»
Некоторые дети сильно скучали по родителям, но были и те, кто, наоборот, наконец-то мог спокойно дышать, не опасаясь пьяных выходок родных отца и матери. Мы почти не говорили о своих отношениях с семьями: дети есть дети, их легко отвлечь от неприятных мыслей.
Почти всем хотелось, чтобы их забрали приёмные родители. Или чтобы хотя бы кто-то иногда приезжал в гости. Но это не выглядело как в кино, когда показывают, что малыши вечно сидят у окна с заплаканными лицами.
Я, например, иногда думала, что было бы приятно иметь свой дом и полноценную семью. Но мне всё же было чуть-чуть легче, чем многим: в детдом регулярно приезжала тётя с двоюродными братом и сестрой.
Тётя переживала из-за того, что не смогла забрать нас сразу, и не оставляла надежды однажды это сделать. Даже начала собирать необходимые документы. Но кругом преследовали неудачи: у неё сильно затопило квартиру и пришлось потратить много времени, чтобы привести её в порядок. А когда это наконец произошло, у тёти случился внезапный тяжёлый приступ астмы, и она умерла. Для нас это была большая потеря, мы переживали и плакали.
До нашего появления в детском доме туда иногда приезжали съёмочные группы, которые снимали ролики про детей для потенциальных усыновителей из США. Но из нашего учреждения, насколько я знаю, туда так никто и не уехал.
Зато как-то под Новый год к нам в детдом в рамках благотворительной программы одного из международных фондов привезли подарки из Америки. Это было знаменательное событие, которое запомнилось на всю жизнь. Нам раздали игрушки, сладости, одежду. Мне досталась ночнушка, которая мерцала, если её потереть рукой. Это казалось настоящим волшебством!
«Приёмным родителям предложили взять меня, но почему-то ничего не сказали о моих родственниках»
Так мы прожили пять лет, до 2002 года. К тому моменту мой брат уже покинул детдом. Он окончил девять классов, поступил в местный техникум и сначала жил со старшей сестрой, а потом переехал к своему учителю физики, который стал его другом и наставником.
А к нам в детдом однажды приехала супружеская пара. Они рассказали директору, что хотят забрать какую-нибудь девочку на воспитание. Им предложили меня, но почему-то ничего не сказали о моих родственниках. В итоге меня забрали, но я не чувствовала радости и переживала за сестру, которая осталась одна. Я буквально сразу вывалила на приёмных родителей все свои тревоги. И тогда они решили забрать и мою сестру.
Мой приёмный отец — бывший военный на пенсии. Мама занималась хозяйством и нашим воспитанием. Они жили в большом частном доме в селе Комаровка, недалеко от нашего детдома. Пара вырастила двоих родных сыновей, которые к моменту нашего появления уже жили отдельно, и воспитывала троих приёмных детей: двух мальчиков и девочку. Честно говоря, я никогда не спрашивала, почему они решились на это.
Первые полтора года нашего проживания в Комаровке мы считались просто приёмной семьёй. Формально нас не усыновляли, мы были под опекой. А потом родители зарегистрировали детский дом семейного типа — один из первых в нашем регионе. Это, по сути, та же семья, которая может взять себе на воспитание от 5 до 10 детей. Только родители становятся воспитателями и получают такую же зарплату, как и обычные педагоги в детских домах, у них есть официальный отпуск и все положенные таким работникам льготы. При этом они должны регулярно отчитываться, как были потрачены деньги, которые им выделяет государство на содержание детей.
Когда мы с сестрой окончили школу и уехали из Комаровки, родители взяли ещё двух мальчиков и девочку, но пацаны почему-то не ужились, и через пару лет их передали в другую семью. Девочка была постарше: она довольно быстро закончила учёбу и уехала в город. Больше приёмные мама и папа никого на воспитание не брали.
С приёмными родителями было непросто. Трудностей в наших отношениях было много, и спорили мы часто. Они установили жёсткую дисциплину: все должны были вносить свой вклад в домашние дела. Был расписан график работы по дому, мы по очереди готовили для всех завтраки и ужины. Летом приходилось подолгу торчать на огороде. Сейчас я понимаю, что этот участок существенно помогал нам прокормиться, но в детстве эти долгие огородные работы казались каторгой. Хуже была только чистка курятника.
Но несмотря на строгость нашего режима, родители действительно заботились о нас, мы всегда чувствовали их поддержку и знали, что можем с ними обо всём поговорить.
Мы с девочками втроём делили одну комнату, мальчики — другую. Места хватало всем. Наша жизнь в приёмной семье мало отличалась от жизни тех детей, у которых были биологические родители. Мы так же ходили в школу, учили уроки, в свободное время играли на улице, почти каждое лето ездили в детские лагеря или санатории. К нам с сестрой часто приезжал брат. Однажды, когда я была уже в старших классах, он привёз с собой друга Сергея. Раньше он воспитывался в одном детдоме с нами, и с братом они не ладили, но потом вновь встретились и подружились. Где-то через год мы с Сергеем начали встречаться, а спустя семь лет поженились.
Сейчас я продолжаю общаться с приёмными родителями, братьями и сёстрами, а вот моя сестра от этого отказалась. Она попала к ним в подростковом возрасте, который наложился на её сложный характер, поэтому отношения с семьёй у неё не такие тёплые, как у меня. При этом мы обе всё равно зовём приёмных родителей «мама» и «папа», они тоже называют нас дочерьми.
В 2006 году наш родной отец вышел из тюрьмы. В тот момент мне тоже не хотелось с ним общаться, потому что я его совсем не знала и не хотела узнавать после того, что он сделал. Брат тоже был страшно на него зол. Отец при этом тоже не сильно старался исправить ситуацию. После выхода из тюрьмы какое-то время он жил в Кузнецке с одной из наших бывших соседок, потом переехал в Подмосковье. Когда я училась в университете, он вновь появился на горизонте и хотел общаться, но на это пошла только моя сестра. Чуть позже отец умер.
«Мы пошли в детективное агентство „Лунный свет“»
Дети из детдома, не знакомые со своими биологическими родителями, обычно не хотят их искать. Они чувствуют глубокую обиду за то, что их бросили. Так было и у моего мужа, который не знал своих мамы и папы. Но позже он поменял мнение и захотел изучить свои корни. Они с младшей сестрой знали только имя и фамилию матери, а также место её рождения.
Однажды у нас с мужем случился отпуск, во время которого мы никуда не поехали. Делать нам было нечего, и мы решили, что займёмся поисками его родственников. Сначала пошли в детективное агентство с фантастическим названием «Лунный свет», прямо как в сериале. Но там заломили настолько же фантастическую цену за решение каждого нашего вопроса. И мы решили, что попробуем сами.
Я порылась в интернете и нашла деревню, из которой была родом мама мужа. Выяснилось, что её переименовали и на сегодня там осталось всего лишь пара жилых домов. Мы поехали туда и начали просто стучаться в двери и задавать вопросы. Один дедушка вспомнил нужную нам семью. Он же сообщил, что в соседнем селе до сих пор живёт дядя мужа. Мы поехали туда. В сёлах все друг друга знают, и нам быстро указали, куда идти. А потом дядя дал Серёже номер телефона его биологической матери.
Оказалось, что она живёт в Челябинской области, поэтому после первого созвона они какое-то время общались по телефону. Потом решили встретиться и выбрали для этого городок Димитровград в Ульяновской области: там, как оказалось, жила Серёжина тётя.
Выяснилось, что отец Сергея тоже был из Димитровграда, но уже умер. Зато живыми оказались мать и брат отца. Благодаря последнему муж смог сделать ДНК-тест и удостовериться, что это действительно его кровные родственники. Так он обрёл бабушку и дядю.
Мать рассказала Серёже, почему они с сестрой оказались в детском доме. По её словам, она была слишком молодой, когда с разницей в год родила двоих детей. Вместе с малышами она одна жила в общежитии в Пензе, и денег вечно не хватало. Она стала употреблять много алкоголя, поэтому детей забрали социальные работники.
Позже Серёжа нашёл общагу, в которой они жили, и поговорил с соседями. Одна женщина вспомнила его семью и рассказала, что органы опеки вызвали жильцы дома, потому что испугались за детей. Малыши часто оставались одни, а однажды Серёжу, которому тогда было полтора года, увидели ходившим по краю балкона. Он просто чудом не упал вниз.
Больше детей у Серёжиной матери не было. Через пару лет после встречи с сыном она умерла. Муж говорит, что не держит на неё обиды.
«Брат затянул с подачей заявления и не получил жильё от государства»
О будущем я никогда не беспокоилась, потому что знала, что у меня будет поддержка от государства. До 23 лет я получала пособие по потере кормильца, тогда оно составляло около 8 тысяч рублей. В университете мне платили сиротскую стипендию, на которую, в отличие от обычной, тогда действительно можно было прожить месяц: около 12 тысяч рублей.
Государство обязано предоставить сиротам квартиру — да, для этого надо пройти много инстанций и некоторое время прождать своей очереди, но всё реально. После пяти лет жизни квартиру можно приватизировать. Я узнала об этом от приёмной матери и очень благодарна, что она всё мне разъяснила.
В детдомах воспитанникам почему-то не говорят о такой возможности, и многие дети не знают о своих правах. А ведь если ты до 23 лет не встаёшь в очередь на получение жилья, то эта возможность сгорает! И больше тебе никто ничего не должен.
В такую ситуацию попал мой брат: он затянул с подачей заявления и не получил жильё. Можно было, конечно, побороться в суде, но в итоге брат счёл, что квартиру проще купить, и в итоге у него это получилось.
Чтобы мы с сестрой получили квартиры, наша приёмная мама инициировала процесс по лишению отца родительских прав. Если бы не её активность, мы бы не получили жильё, потому что не считались бы сиротами.
После окончания школы я решила поступить в университет и стать юристом. Здесь тоже существуют льготы: чтобы попасть на бюджет, воспитаннику детского дома нужно сдать все экзамены хотя бы на минимальные баллы. Но, как ни странно, даже в таких лёгких условиях я завалила обществознание. Поэтому я пошла в колледж, и только после него поступила на юридический факультет в университет. После его окончания я получила студию в новостройке, которую сначала сдавала в аренду, а спустя пять лет продала. Всё это время мы с мужем жили в его квартире.
«Моё детство — не проблема и не табу»
Иногда мне кажется, что детей из детдомов слишком много жалеют, они подсаживаются на ощущение, что им все всё должны. Многие из тех, кто выпускается из детского дома, не готовы к взрослой жизни. Не умеют планировать бюджет и распоряжаться им — ведь раньше это было не нужно. Люди словно считают, что кто-то должен всё решить за них, как в детдоме: что поесть, какую одежду купить, сколько раз в неделю мыться. А когда им предоставляют выбор, теряются.
К тому же после выпуска в голову бьёт свобода: теперь можно делать всё что угодно и никто не сделает замечание. Начинается бесконечный кутёж, кто-то сразу пускается во все тяжкие. Такие люди в итоге просто проедают или пропивают свои пособия, сидя в выданной им квартире, а потом ищут лёгких денег.
При этом в моём окружении много исключений. У нас с мужем куча друзей, которые провели детство в социальном учреждении, но сейчас у них есть семьи и карьеры и в жизни всё хорошо.
Катя вместе с мужем. Фото: архив Кати Куракиной
У человека, воспитанного в детдоме, нет никакой яркой отличительной черты, по которой его можно распознать на улице или в компании. Как правило, люди становятся заложниками стереотипов о самих себе. Если какая-то часть общества считает их пропащими, они начинают думать так же, и это становится преградой к нормальной жизни.
Сейчас я спокойно говорю о своём прошлом и не испытываю по этому поводу никаких горьких чувств. Муж тоже считает, что у него было обычное детство.
Проблем с построением собственной семьи у нас нет. Мы взрослые люди, ответственные за свои действия. Есть даже плюсы: у всех вокруг проблемы с семьями второй половинки, а у нас этого нет. Никто не вмешивается в нашу жизнь, не подсказывает и не даёт непрошеных советов, мы живём как хотим.
Моё детство научило меня надеяться только на себя, быть самостоятельной и независимой. Такие же черты я вижу в своём муже: он никогда не ищет и не просит помощи, всё делает сам. Часто, когда люди узнают, что у меня не было родителей в привычном понимании, то сильно удивляются. Иногда чувствую, что меня начинают жалеть, внимательнее относиться. Хотя я не нуждаюсь в особенном отношении. Для меня моё детство — не больная тема, не проблема и не табу. Это просто моя жизнь, которая сложилась так, как сложилась, не лучше и не хуже, чем у других.