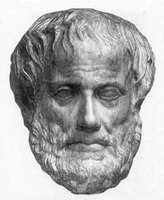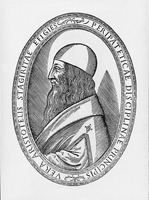Величайшим
из непосредственных учеников Платона
был Аристотель.
В отличие от Платона, который был коренным
афинянином,
Аристотель пришел в Афины с севера. Он
родился в 384 г. до
189
н.
э. в городе Стагире — во Фракии, неподалеку
от Македонии, в частности от македонской
столицы Пеллы. Как чужеземец, он никогда
не был гражданином Афин, а всего лишь
«метэком». Отец Аристотеля
Никомах был по профессии врач и, наверное,
видный, так
как он числился медиком македонского
царя Аминты. Таким образом,
Аристотель жил в семье, где он мог с
юношеских лет приобрести
интерес к изучению физической природы
человека, а также
завязать некоторые связи в македонских
придворных кругах. В
367 г. до н. э. Аристотель уехал в Афины
для завершения образования
и вступил в Академию — школу Платона;
в ней он пробыл
в течение двадцати лет до смерти Платона
(347). В кругу учеников
и друзей Платона Аристотель резко
выделялся громадной начитанностью
и выдающимися умственными дарованиями.
Сохранились,
по-видимому, преувеличенные сведения
о враждебных отношениях,
сложившихся впоследствии между
Аристотелем и Платоном.
В
347 г. до н. э. главой платоновской Академии
стал Спевсипп, а ученики Платона —
Аристотель и Ксенократ — вышли из
Академии
и покинули Афины, переселившись в
Атарней. С правителем Атарнея
и Асса — Гермием — оба они были знакомы
и даже завязали
дружбу еще в то время, когда Гермий,
находясь в Афинах, слушал
там Шатона. Через три года Гермий был
изменнически предан
и умер. Аристотель, возможно еще до этого
события, переехал
из Атарнея в Митилену.
Но
уже в 343 или 342 г. до н. э. Аристотель принял
приглашение македонского
двора стать воспитателем Александра —
сына македонского
царя Филиппа. Александру в это время
было всего тринадцать
лет. Возможно, что это приглашение было
сделано, еще когда
Аристотель находился в Митилене. Не
сохранилось почти никаких
сведений ни о характере обучения, ни о
тенденциях воспитания,
на которых остановился выбор Аристотеля;
во всяком случае влияние на Александра
этого обучения и воспитания было немалым.
Руководство
воспитанием Александра продолжалось
всего три года, так как в 335 г. до н. э.
Филипп умер и Александру пришлось отныне
уделять почти все время и внимание
политическим делам по
управлению государством. С началом
большого персидского похода
для Аристотеля уже не оставалось поводов
для его дальнейшего
прерывания в Македонии, и он после
двенадцатилетнего отсутствия
на пятидесятом году жизни возвращается
в Афины. Есть основание
полагать, что к этому времени Аристотелем
была уже проделана огромная научная
работа — собраны естественнонаучные
материалы, исторические источники;
однако главные из его собственных
научных работ были закончены лишь в
последние годы его
жизни. Аристотель явился в Афины как
человек известный и уважаемый,
связанный дружескими отношениями с
могущественным
македонским двором, в прошлом воспитатель
молодого маке-
190
X
донского
царя. Сохранилось, впрочем, далеко не
достоверное, сообщение
об огромной денежной поддержке, которая
будто бы была
оказана Аристотелю для ведения и
организации обширных научных исследований.
При
таких обстоятельствах Аристотель решил
открыть в Афинах собственную
школу. Местом для нее был избран в одном
из предместий
города гимнасий, примыкавший к храму
Аполлона Ликейского.
По прозвищу этого храма — Ликейский —
школа Аристотеля
получила название Ликея,
подобно
тому как школа Платона
— название Академии. Чтение лекций
Аристотель проводил
в аллеях сада, окружавшего гимнасий,
прогуливаясь взад и вперед,
— откуда впоследствии учеников его
стали называть «перипатетиками»
(«прогуливающимися»). По сообщению
Геллия, обучение
в Ликее имело двоякую
форму:
«эксотерическую», или преподавание
риторики,
доступное
для всех, и «акроатическую», или
«эсотерическую», для одних лишь
подготовленных. В программу
«эсотерического» обучения входила
метафизика, физика и диалектика.
«Эсотерики» слушали в утренние часы,
«эксотерики» — в вечерние.
Как и платоновская Академия, Ликей
Аристотеля был не только
школой, но также и кругом лиц, связанных
между собой тесными
узами дружбы.
Необходимость
вспомогательных материалов и источников,
многосторонность
исследований, предполагавших усвоение
огромного
множества фактов, вызвали потребность
в коллекционировании рукописей и
составлении специальной научной
библиотеки;
имеются
сведения, что Ликей действительно
располагал значительной
библиотекой.
После
смерти Александра (323) положение Аристотеля
в Афинах ,
стало
опасным. В Афинах поднимается сильное
движение против ,
македонского
владычества над Грецией, в том числе
прежде всего
над
Афинами. «‘
В
глазах деятелей этого движения Аристотель
казался сильно
скомпрометированным
своими давнишними, всем хорошо извест
ными
связями с македонским двором. Для афинян
происшедшие
изменения
в отношениях Александра к Аристотелю
были незаме-
ченными.
Во мнении афинян Аристотель продолжал
оставаться j
приближенным
македонского царя, сторонником его
политической
системы. Последовавшие
в Афинах события —преследование лю- j
дей
и деятелей промакедонской ориентации
— привели к тому, что
и
против Аристотеля был возбужден процесс.
Как это было с I
Анаксагором
и Сократом, мотивировка обвинения была
не непо-
средственно
политическая, а религиозная. Аристотель
был обвинен >
в
нечестии — в обожествлении своего
атарнейского покровителя и j
друга
Гермия. Опасаясь подвергнуться той же
участи, которую в
свое
время испытал Сократ, Аристотель
воспользовался существо
вавшим
правом и покинул Афины еще до суда над
ним поздним
летом
323 г. до н. э. Он поселился в Халкиде на
острове Эвбея, |
191
лежащем
у восточных берегов Аттики, но уже в
следующем, 322 г. до
н. э. там же умер. Уезжая в Халкиду, он,
по-видимому, имел мало времени
для сборов, так что ему пришлось оставить
в Афинах на попечение
своего виднейшего ученика Теофраста
свою библиотеку. После
смерти Аристотеля сохранилось известное
и нам его завещание,
в котором он проявил заботу не только
о своих близких, но и о
своих рабах. Руководство Ликеем, а также
управление библиотекой
он завещал Теофрасту.
Сведения
о личности и характере Аристотеля крайне
скудны и, что
гораздо хуже, в значительной своей части
не заслуживают доверия.
Таковы сообщения о его отношении к
Платону, к Гермию, к
обеим его женам или о затруднительных
политических обстоятельствах
последнего периода его жизни. Утверждение
о принадлежности
Аристотеля к промакедонской партии
Целлер считает только результатом
применения к Аристотелю ложной и чуждой
ему
мерки: «…so
heisst das, einen falschen und fremdartigen Mapstab an
ihn anlegen» [78.
С 45].
И
по рождению, и по воспитанию Аристотель
был и остался настоящим греком. Но в
эпоху Аристотеля греческие государства
не
были уже в силах ни отстоять свою
политическую независимость, ни
улучшить свое внутреннее состояние. Во
время ламийской войны,
тяжелой, впрочем, для обеих сторон,
Фокион, один из слушателей
Платона и противник афинского патриота
Демосфена, заявил,
что впредь до изменения нравственного
состояния греческой
отчизны от вооруженного восстания
против Македонии ничего ждать
не приходится. Аристотелю, не бывшему
в числе афинских граждан, уроженцу
маленького северного Стагира, разрушенного
Филиппом
Македонским и восстановленного уже в
качестве не греческого,
а македонского города, такой образ
мыслей был гораздо ближе,
чем взгляды какого-нибудь афинского
государственного человека
или публициста вроде известного Демосфена
[см. там же. С. 45—46].
Сочинения
Аристотеля
Литературная
— научная и философская — продуктивность
Аристотеля была чрезвычайно велика.
По существу в его сочинениях охвачены
все отрасли современного
философского и научного знания.
Удивительна, кроме того,
обстоятельность трактовки рассматриваемых
вопросов и обширность
познаний, касающихся развития науки.
Основную
часть дошедших до нас сочинений Аристотеля
составляет
свод его трактатов и ряда отрывков.
Часть из них — подлинные произведения
самого Аристотеля, часть подложны.
Приблизительно столетием позже один
из ученых библиотекарей Александрии,
крупнейшего в то время центра учености,
составил список
из 146 названий работ Аристотеля. В этом
александрийском списке
мы не находим названий некоторых
важнейших трактатов Аристотеля, вошедших
в указанный выше их свод. Из отсутствия
их
в александрийском списке логично
заключить, что александрий-
192
скому библиотекарю
трактаты эти остались неизвестны. Как
это могло случиться и где в то время эти
трактаты были?
Долгое
время считалось, что на вопросы эти
можно найти ответ в
рассказе древнего ученого Страбона —
рассказе, который, однако, позднейшая
критика квалифицировала как романический
вымысел. Сообщение
Страбона (и Плутарха) состоит в следующем.
Через тридцать пять лет после смерти
Теофраста, преемника Аристотеля в
Ликее, его библиотека, в том числе и
архив Аристотеля, перешла во владение
его ученика Нелея. Уроженец Азии
(Скепсиса), Нел ей вывез
этот архив из Афин на свою родину. В
период, когда пергамские
цари, составляя для себя библиотеку,
производили конфискацию
ценных частных библиотек, наследники
Нелея спрятали
рукописи Аристотеля в подвале, где они
оставались в течение полутораста лет,
подвергаясь при этом порче. Найденные
в уже поврежденном состоянии, рукописи
эти были приобретены последователем
школы Аристотеля Апелликоном, который
перевез их в Афины.
В 80 г. до н. э. римский полководец и
диктатор Сулла, находясь в Афинах,
захватил библиотеку Апелликона и
распорядился
переправить ее в Рим. С рукописями
Аристотеля познакомились сначала
друг Цицерона Тираннион, а затем ученый
Андроник из
Родоса. Андроник занялся исправлением
рукописей и организацией
их переписки.
Существуют
данные в пользу мнения, что сохранившийся
свод трудов
Аристотеля восходит к изданию Андроника
Родосского. Если рассказ
Страбона и Плутарха о судьбе рукописей,
попавших в конце концов
в руки Андроника, соответствует фактам,
то это делает понятным,
почему в александрийском перечне не
оказалось ряда капитальных сочинений
Аристотеля: в то время как составлялся
этот
перечень, рукописи Аристотеля, содержавшие
эти сочинения, еще
лежали в подвале, куда их запрятали
наследники Нелея.
Характер
компоновки и изложения в дошедших до
нас произведениях
свода сочинений Аристотеля отличается
своеобразными недостатками:
совсем не похоже, что эти сочинения —
отделанные, предназначенные
для чтения, гармонично скомпонованные
книги. Скорее,
это записи, заготовки, вспомогательные
наброски. Часть этих
отрывочных материалов, возможно, не
принадлежала самому Аристотелю.
Впоследствии, по-видимому, были сделаны
попытки подогнать
отрывки друг к другу, сделать между ними
спайки, устранить
неувязки, внести в неоформленный материал
литературную
обработку. При этом, однако, должны были
возникнуть и новые несообразности
и неувязки. Со всеми этими особенностями
— пробелами, противоречиями —это то,
чем мы в настоящее время владеем
из наследия Аристотеля.
Естественное
введение в свод философских и научных
работ Аристотеля составляет сборник
его логических трактатов, названный
«Органоном» (opY<xvov
—
«орудие»). Название это, возникшее после
смерти Аристотеля, указывает, что логика,
как ее понимал Аристотель,
есть учение об орудии
научного
исследования и в этом
7—3403 193
смысле
есть как бы введение в философию, в
частности и в особенности
—в философию науки. В «Органон» входят:
1) «Категории»
— сочинение, не совсем достоверно
приписываемое Аристотелю, 2) «Об
истолковании» (трактат о суждении); 3)
«Аналитики»
— первая и вторая, каждая в двух книгах.
Это основной логический
труд Аристотеля. В нем излагаются: учение
об умозаключении
(силлогизме) — в первой «Аналитике» и
учение о доказательстве
— во второй; 4) «Топика» —обширный
трактат о вероятных
доказательствах и о «диалектике» — в
аристотелевском понимании
этого термина; 5) «Опровержение
софистических доказательств».
Так
как, согласно Аристотелю, логические
связи
— отражение связей
бытия,
то
«Органон» в известном смысле — не только
система
логики
Аристотеля,
но также и частично введение в его учение
о бытии.
Этому
учению специально посвящено одно из
знаменитейших
сочинений Аристотеля — «Метафизика».
В современном
своем составе и тексте «Метафизика» —
свод нескольких трактатов,
с заметными кое-где неувязками, с
буквальными повторениями
довольно значительных кусков, с некоторыми
невыполненными
обещаниями и т. п.
Название
«Метафизика» (Та цеха, та сриспка — «то,
что после физики»)
позднейшего происхождения. «Метафизикой»
была названа
группа трактатов Аристотеля, помещенная
в издании Андроника
Родосского после
(цеха)
«Физики». В этих трактатах излагалось
учение
о началах бытия, постигаемых посредством
умозрения. Впоследствии, на целых два
тысячелетия, среди философов установился
обычай называть «метафизикой» всякое
философское учение,
содержащее умозрительное исследование
бытия. Таким образом,
то, что в издании Андроника Родосского
просто следовало
по
порядку издания за физикой, стали
рассматривать как возвышающееся
над физикой
по существу предмета: в то время как
физика изучает
«посюсторонние» явления природы,
постигаемые с помощью
опыта, «метафизика» исследует сущность
бытия с помощью не
опыта, а умозрения.
Начиная
с Гегеля, в этой характеристике предмета
и способа исследования «метафизики»
стали особо подчеркивать
их метод.
Так,
Гегель, говоря о «старой метафизике»,
понимает
прежде всего «рассудочный» антидиалектический
способ
мышления
и познания. Но, отрицая антидиалектический
метод
«старой
метафизики», Гегель вовсе не отрицал
ее предмета
—
исследования сверхчувственных основ
бытия. Основатели марксизма
оставили за термином «метафизика»
значение только названия антидиалектического
метода.
Так
как «Метафизика» Аристотеля заключает
в своем составе не один, а несколько
трактатов (впрочем, близких по теме), то
возникают
важные вопросы, относящиеся к истории
происхождения
и сложения известного нам в настоящее
время состава этого выдающегося
произведения. Много ценного по этому
вопросу
194 },
имеется
в специальных исследованиях немецкого
ученого Вернера Иегера
[см. 58].
Огромное
значение в истории науки — античной и
феодального общества
— получили естественнонаучные
сочинения
Аристотеля. Сюда
относится «Физика» и ряд примыкающих
к ней работ: «О небе»,
«Чтения по физике», «О частях животных»
и т. д.
Очень
важен для понимания психологического
и биологического
учения Аристотеля, а также некоторых
вопросов его теории познания
трактат «О душе».
Видное
место в литературном наследии Аристотеля
занимают работы
по этике.
Несомненно,
к самому Аристотелю восходит этический
трактат, дошедший под названием «Этика
Никомаха».
Частью
—вопросам этики, частью —проблемам
политического устройства
и воспитания посвящен обширный трактат
«Политика».
В
«Риторике» и «Поэтике» рассматриваются
вопросы ораторского
искусства, эстетики, теории поэзии и
театра. В 1890 г. в Египте во
время раскопок была найдена хорошо
сохранившаяся рукопись Аристотеля,
содержащая описание конституции
города-государства Афин.
Это так называемая «Афинская полития».
В школе Аристотеля
было составлено множество не дошедших
до нас описаний государственного
устройства других греческих полисов.
«Афинская полития»
—образец этого научного жанра и важный
источник наших
сведений по истории античных Афин.
Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
3, С. 242-257
опубликовано: 6 ноября 2008г.
- Биографические сведения
- Сочинения
- Классификация наук
- Генетический подход
- Основные разделы философии А.
- Логика
- Творческая философия: риторика и поэтика
- Практическая философия: этика и политика
- Теоретическая философия
- Физика, или учение о природе
- Математика
- Первая философия
- Общая характеристика философии А.
- Влияние А.
- А. в I-II вв. по Р. Х.
- А. и еретические учения
- А. и патристика
- А. в Византии IX-XIV вв.
- А. и философия Средневековья
- А. в эпоху Реформации
- А. и философия Нового времени
- А. в XIX-XX вв.
- А. в России
АРИСТОТЕЛЬ
Стагирит [греч. ̓Αριστοτέλης Σταγειρίτης], философ, ученый-энциклопедист.
Биографические сведения
Род. в 385/84 г. до Р. Х. в греч. г. Стагира на вост. побережье п-ова Халкидика в семье Никомаха, врача из рода, возводимого к богу врачевания Асклепию, придворного медика и друга македон. царя Аминты III, сын к-рого Филипп II был сверстником А. В 367/66 г. прибывает в Афины, где, вероятно, на короткое время попадает в школу промакедонски настроенного ритора Исократа. Затем переходит в Академию Платоновскую и остается членом академического кружка вплоть до смерти Платона в 347 г. После смерти Платона А. (вместе с Ксенократом) отправляется в М. Азию (Лидию) к Гермию, правителю Атарнея и Асса, знакомому с Платоном и членами Академии, и 3 года проводит в кружке платоников в Ассе (Троада), к-рый вынужденно покидает в связи с гибелью Гермия. В 344/43 г. А. в Митилене на Лесбосе (откуда родом его ученик, сотрудник и преемник Феофраст). В 343/42 г. А. принимает приглашение Филиппа II Македонского участвовать в воспитании его сына Александра Великого (в Пелле и Миезе). После смерти Филиппа и вступления Александра на престол в 335/34 г. и вплоть до смерти Александра в 324/23 г. А. живет в Афинах и ведет занятия в школе, организованной им в Ликее. После смерти Александра и победы антимакедон. партии в Афинах А. удаляется в Халкиду на о-в Эвбея, где умирает в 322/21 г. Элиан (Varia historia. III 36) передает слова А., якобы сказанные им перед отъездом из Афин: «Не хочу, чтобы афиняне дважды провинились перед философией» (имея в виду казнь Сократа).
Сочинения
Аристотель. Скульптурный портрет. 3-я четв. IV в. до Р. Х. (Новая Карлсбергская глиптотека. Копенгаген)
Аристотель. Скульптурный портрет. 3-я четв. IV в. до Р. Х. (Новая Карлсбергская глиптотека. Копенгаген)
О сочинениях А. известно по спискам, сохраненным у Диогена Лаэртского (V 21. 11-27. 15), приведшего названия 139 сочинений, по «Жизнеописанию Аристотеля» Гезихия (VI в., критическое издание у Düring. 1957. Р. 80-93), содержащему 197 названий, а также по восходящему к Андронику Родосскому (I в. до Р. Х.) сохраненному в араб. источниках т. н. «cписку Птолемея» (см.: Düring. 1957. Р. 41-50, 83-89, 145-193; ср.: P. 221-231). Сочинения А. делятся на диалогические, или «эксотерические»,- завершенные и «изданные» самим А. популярные философские тексты, написанные в диалогической форме для образованных дилетантов, знавший их Цицерон характеризовал стиль А. как «золотой поток» (лат. flumen aureum — Lucullus. III 8, 119); прагматии, или «эсотерические» сочинения,- научные трактаты, написанные для нужд школы и реально использовавшиеся на занятиях в Академии, Ассе и Ликее, не подготовленные к изданию самим А.; разнообразные сборники материалов, сводки, записки и выписки; письма и поэтические произведения.
Сочинения А. дошли до нас более чем в тысяче греч. рукописей, более 2 тыс. рукописей содержат лат. переводы (издаваемые в серии «Aristoteles Latinus»); помимо этого сохранилось множество сир., араб. (издаваемых в серии «Aristoteles Arabus»), арм. и др. переводов и парафраз, а также многочисленные комментарии и толкования. Cправка об истории текста и рукописной традиции в ст.: Hoffmann Ph. Aristote de Stagire // DPhA. T. 1. Р. 434-437. В 1891 г. среди папирусов Британского музея была обнаружена «Афинская полития», др. папирусные фрагменты А. собраны в Corpus dei papiri filosofici (Firenze, 1989).
Сохранившиеся в греч. рукописях сочинения А. (составившие т. н. Corpus Aristotelicum, в к-рый вошли наряду с подлинными неподлинные сочинения) представляют собой прагматии, изданные Андроником Родосским, к-рый был, согласно комментаторам-неоплатоникам, одиннадцатым схолархом Перипата. Андроник самостоятельно сгруппировал сочинения А., мог составить неск. сочинений в одно, менял и давал новые названия.
Страбон (Geogr. XIII 1. 54) сообщает, что Нелей из малоазийского г. Скепсис, слушатель А., ученик и наследник Феофраста, став владельцем его б-ки, в к-рую входили и книги А., в свою очередь оставил ее своим наследникам, людям простым, к-рые безо всякого внимания держали драгоценные книги в подвале. Только в нач. I в. до Р. Х. их приобрел перипатетик Апелликон Теосский (ср.: Athenaeus. Deipnosophistae. V 53. 4-8), известный библиофил, живший в Афинах. После захвата Суллой Афин в 86 г. книги попали в Рим в 84 г., где к ним получил доступ грамматик Тираннион, сделавший копии и при этом не всегда удовлетворительно восполнявший лакуны. Это сообщение Страбона дополняет Плутарх, согласно к-рому копии Тиранниона попали к Андронику (Сулла. 26), к-рый и составил свое издание. Тем не менее есть основания полагать, что Плутарх соединил сообщение Страбона с известным ему фактом издания сочинений А. Андроником (о к-ром у Страбона не идет речи) и что, вероятнее, издание Андроника было произведено в Афинах и основывалось на имевшихся там материалах, а изложенная Страбоном история была призвана объяснить отсутствие у перипатетиков интереса к школьным текстам А. Помимо этого Афиней (I 4. 28-33) сообщает, что все сочинения А. были куплены Птолемеем Филадельфом для Александрийской б-ки; т. о., хотя эсотерические сочинения А. были не столь популярны, как его диалоги, все же они были так или иначе известны в III-I вв. до Р. Х.
Классификация наук
В издании Андроника сочинения А. были классифицированы и разнесены по 4 разделам: логика (к-рая рассматривалась и самим А. и его последователями не как самостоятельная часть философии, а как введение и необходимый инструмент философии); этика (вместе с политикой представлявшая практическую философию и дополнявшаяся поэтикой и риторикой, к-рые в курсах аристотелевской философии, и потому у комментаторов, чаще следовали за логикой), физика (собрание сочинений по теоретической философии, излагавших учение о «природе» в широком смысле слова, включая биологию) и «метафизика» (τὰ μετὰ τὰ φυσικά, «то, что после физики», собрание текстов, относящихся к «первой философии»).
Эта классификация опирается на аристотелевское деление наук: А. (Met. VI 1. 1025b1 sqq., ср.: EN. VI 2. 1139a26-27) делит науки на практические, творческие и теоретические: практические суть этика и политика, творческие — поэтика и риторика, теоретические — физика и математика, а также «наука, которая первее их обеих» и к-рую А. называет «первой философией», «богословием» или «мудростью». Первая философия исследует самостоятельно существующее и неподвижное; математика — неподвижное и либо существующее отдельно (оптика, гармония, астрономия), либо не существующее отдельно (арифметика и геометрия, по А., имеют дело с абстракциями); физика — движущееся и существующее отдельно.
Генетический подход
Поскольку у А. философия впервые оказывается строго продуманной системой дисциплин и само европ. представление о философии в значительной степени было представлением о дисциплинарной структуре аристотелевской философии, перед новоевроп. историко-философской наукой очень поздно встал вопрос об эволюции его взглядов — на век с лишним позже по сравнению с Платоном. Но тем не менее начиная с работ В. Йегера (1912, 1923) необходимость уяснить философскую эволюцию А. и структуру его дошедших текстов на основе понимания их генезиса становится очевидной. Главный результат генетического подхода к корпусу А. состоит в том, что большинство его дошедших до нас текстов не относятся ко 2-му афинскому периоду, когда А. вел занятия в Ликее, но были написаны либо целиком, либо отчасти еще в Академии и потому представляют собой весьма важное свидетельство об академической жизни 60-40-х гг. IV в. до Р. Х.
И. Дюринг в статье об А. для Pauly, Wissowa. 1968. Supplbd. 9 (ср. работу 1966) показывает, в частности, что основная часть курсов по логике, риторике, этике, физике, первой философии находит параллели в платоновских текстах позднего периода. Параллельно «Софисту» и «Политику» Платона А. в 1-й пол. 50-х гг. IV в. до Р. Х. создает тексты, вошедшие в «Органон», кн. 12 «Метафизики», кн. 1-2 «Риторики», первоначальный вариант «Большой этики»; параллельно «Филебу» и «Законам» — «Физику» (кн. 1, 2, 7, 3-4), «О небе», «О возникновении и уничтожении», кн. 13-14, 11 «Метафизики», кн. 3 «Риторики», «Евдемову этику» и т. д.
Чрезвычайная важность генетического подхода для корректного понимания текстов А. не отменяет преимуществ систематического изложения его философии, имеющего многовековую традицию, восходящую к античности: к аристотеликам I в. до Р. Х.- III в. по Р. Х. и к неоплатоникам, рассматривавшим философию А. как пропедевтику к философии Платона.
Основные разделы философии А.
Логика
Логическое учение А. изложено в группе трактатов, объединенных под общим названием «Органон», т. е. «орудие», «инструмент». Судя по комментариям и средневек. рукописям, порядок чтения трактатов был следующим: «Категории» (Cat.), «Об истолковании» (Interpr.), «Первая аналитика» (Anal. Pr.), «Вторая аналитика» (Anal. Post.), «Топика» (Top.), «Софистические опровержения» (Soph. el.). Идея такого сборника и его название принадлежали не А., а его школе, вероятнее всего Андронику Родосскому, издателю «эсотерических» сочинений основателя школы.
«Категории» (или предикаты) рассматривают «первую сущность» (некую единичность, к-рая не может быть предикатом для другого и потому есть образцовый субъект-подлежащее) и 10 типов предикации: «вторую сущность» (т. е. некий вид или род, к-рые могут не только выступать в качестве субъекта, но быть и предикатом некой единичности), количество, качество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, претерпевание. При рассмотрении категорий А. смешивает логический и онтологический пласт и не пытается найти некий единый принцип, позволяющий систематически представить и исчерпать набор «предикатов» (за что его впосл. упрекал И. Кант).
Трактат «Об истолковании» (или о языковом выражении, о высказывании, к-рое может быть истинным или ложным) посвящен определению имени и глагола и типам высказываний: утвердительных и отрицательных; общих и частных; о возможном, могущем быть, не могущем быть; специальное внимание А. уделяет высказываниям о единичных событиях в будущем, нарушающих закон исключенного третьего.
«Первая аналитика» посвящена доказательству: в 1-й кн. даны определения силлогизма, посылок и их видов (доказывающей и диалектической) и среднего термина; изложено обращение посылок, силлогизмы по 1, 2 и 3-й фигурам, построение силлогизмов; специально рассмотрено деление (платоновская диереза); во 2-й кн. рассмотрены истинные выводы из ложных посылок, доказательство по кругу, доказательство через приведение к невозможному; здесь также изложены правила спора, ошибки в силлогизмах, наведение, пример, отведение, возражение, энтимема.
«Вторая аналитика» в 1-й кн. дает определение научного знания и доказательства, посылок, из к-рых состоит силлогизм (они должны быть истинными во всякое время), начал научного знания в каждом роде (т. е. того, существование чего не доказывается, а принимается) и общим всем наукам; помимо этого А. рассуждает о необходимости для знания чувственного восприятия, вместе с тем — о невозможности доказательства на основе чувственного восприятия, а также об отличии знания от мнения и невозможности науки о том, что хотя и истинно и существует, но может быть иным; во 2-й кн. речь идет о 4 видах искомого (мы устанавливаем, что нечто таково или есть ли оно, а затем выясняем, почему оно есть и что́ оно есть), о значении среднего термина (по существу, всякое исследование есть установление среднего, т. е. того, что объединяет 2 явления), об отличии определения и доказательства, о 4 видах причин, о причинах и действиях и возможности множества причин одного действия, а также об уме, к-рый есть начало начала науки.
Аристотель. Рельеф Королевского портала собора в Шартре. XII в.
Аристотель. Рельеф Королевского портала собора в Шартре. XII в.
«Топика», как и «Аналитики», занята доказательством, но в отличие от них рассматривает умозаключения, строящиеся на основе правдоподобных посылок, что полезно для упражнения, устных бесед и философских знаний. А. рассматривает в 1-й кн. понятия определения, собственного, рода и привходящего (т. н. предикабилии) и их связи с 10 категориями; тождественного и его видов; положения и проблемы; помимо этого в 1-й кн. речь идет о наведении, к-рое наряду с силлогизмом есть способ доказательства диалектических положений; о принятии положений, различении многозначности имен, нахождении различий в пределах одного и того же рода и нахождении сходства в вещах — все это средства для построения силлогизмов. Кн. 2 начинается с различения общих и частных проблем и приводит топы, т. е. способы рассмотрения с целью обоснования или опровержения утверждений, касающихся привходящего, связанных с многозначностью слов, с уточнением слов, с доказательствами от вида к роду и от рода к виду, с опровержением положений через опровержение его следствий, с использованием обратного следования и т. д.; кн. 3 рассматривает топы для выяснения более желательного и лучшего; кн. 4 — топы, касающиеся рода; кн. 5 — топы в связи с установлением собственного и с тем, правильно ли оно указано; кн. 6 посвящена определению; кн. 7 — установлению тождества; кн. 8 — топам для возражающего против тезиса или защищающего его, а также необходимости природного дара и упражнения в искусстве диалектики.
«Софистические опровержения», по существу, последняя книга «Топики», в ней рассматриваются мнимые умозаключения и опровержения и их виды, используемые софистами.
В заключении Soph. el. (183b16 sqq.) А. сам оценивает свое открытие науки об умозаключениях как беспрецедентное, в чем с ним нельзя не согласиться, хотя и не нужно забывать, что это открытие было «заказано» Платоном, не только признававшим принципиальное значение диалектики для философа, но и создавшим в Академии то пространство для занятий ею, в к-ром и была разработана Аристотелева логика. Вероятнее всего, А. начал специальные занятия логической проблематикой с «Категорий» и «Топики», затем последовали «Об истолковании» и 2-я кн. «Второй аналитики», затем была разработана силлогистика, изложенная с использованием буквенных обозначений для переменных (Anal. Pr. I 1-8; Anal. Post. I; Anal. I 8-22 — II). То, что А. шел от реальной практики школьных рассуждений, подтверждается его классификацией силлогизмов — научных, диалектических, эристических и софистических паралогизмов, что отражало наличие академических диспутов, а также эристики сократических школ и софистической практики, к-рые также изучались в Академии, о чем судим еще по платоновским диалогам (в частности, «Евтидему») и многочисленным ссылкам самого А.
Творческая философия: риторика и поэтика
К логическим сочинениям примыкают «Риторика» (Rhet.) и «Поэтика» (Poet.), посвященные «творческим» наукам. Вместе с логическими сочинениями они исчерпывают область «технически» построенной речи. Вместе с тем в издании Андроника Родосского они, вероятно, следовали за этикой и политикой, поскольку риторика нужна для цивилизованной городской жизни, и один из первых вопросов, рассматриваемых в риторике,- вопрос о счастье как цели человеческой деятельности, очерк этики дан в кн. 1 (гл. 9: о добродетели и пороке, прекрасном и постыдном, гл. 10-14: о причинах справедливых и несправедливых поступках) и кн. 2 (гл. 2-7: о страстях и добродетельности; гл. 12-17: нравы, сообразные страстям, складу души, возрасту).
Практическая философия: этика и политика
Этика изложена в 3 сочинениях: «Большая этика» (MM)- вероятно, самое раннее сочинение, меньше др. по объему; «Эвдемова этика» (EE), названная так по имени редактора Евдема Родосского, ученика А.; и «Никомахова этика» (EN), названная по имени Никомаха, сына А., вероятно подготовившего текст к изданию. Схема изложения в наиболее представительной «Никомаховой этике» такова:
Кн. 1: цель всякого действия, в т. ч. сознательного,- некое благо. Но поскольку действий, искусств и наук много, мы всегда преследуем различные конкретные цели, к-рые, однако, подчинены одни другим, поскольку и практические науки подчинены одни другим. Самая главная практическая наука — наука о гос-ве, ее цель, включающая цели проч. наук,- счастье, или счастливая жизнь. Одни предпочитают жизнь, посвященную удовлетворению вожделений и служению страстям, др.- деятельную жизнь, требующую добродетелей и приносящую почет среди сограждан, третьи — жизнь созерцательную.
Не касаясь скотского образа жизни и оставив рассуждения о созерцательной жизни на более позднее время, А. рассматривает благо практической жизни. Еще раз подчеркнув бесполезность понятия блага как такового, он полагает счастье как начало, к к-рому стремится всякий человек, т. е. живое существо, наделенное способностью суждения. Его благом будет деятельность души сообразно наилучшей добродетели в течение полной человеческой жизни. При этом радость будет доставлять и сама добродетель, и ее созерцание у других. Поэтому для уразумения счастья нужно рассмотреть добродетели разумной души: одни — добродетели ума (дианоэтические), др.- нрава (этические). К первым относится, напр., мудрость, ко вторым — щедрость.
Дианоэтические добродетели возникают и возрастают благодаря обучению, этические — благодаря упражнению и привычке. В кн. 2-4 А. рассматривает этические добродетели, к-рые суть середины между 2 крайностями: напр., мужество есть середина между страхом и дерзостью; благоразумие — середина между бесчувственностью и распущенностью; щедрость — середина между скупостью и мотовством; величие души — середина между заносчивостью и приниженностью; поступки бывают непроизвольные и произвольные, совершаемые в результате сознательного выбора; добродетель (как, впрочем, и порок) всегда произвольна.
В кн. 5 специально рассматривается справедливость в связи с разными видами права, причем А. весьма изобретателен в демонстрации того, что справедливость — тоже середина (напр., справедливость при распределении — выполнение геометрической пропорции; при обмене — арифметической).
Кн. 6 посвящена дианоэтическим добродетелям: они связаны с разумным началом души и относятся либо к созерцанию, либо к творчеству и поступкам (практике); в первом случае благо и зло — истина и ложь, во втором — правильное или неправильное решение и поступок. Наука — в отличие от творчества и практической деятельности, к-рые связаны с тем, что может быть и так, и иначе,- всегда имеет дело с тем, бытие чего необходимо. Самая точная из наук — мудрость, и предмет ее постижения — самое ценное, божественное по природе, тогда как связанная с практикой рассудительность относится только к человеческим делам, а человек не самое ценное в мире. Рассудительность состоит в правильном принятии решений, в т. ч. в гос. делах, но прежде всего — в частных делах человека.
Кн. 7 начинается с установления того, чего с этической т. зр. необходимо избегать: порока, невоздержности, зверства; затем А. переходит к удовольствию и страданию в их отношении к благу. Разобрав мнения предшественников и современников, А. утверждает: ничто не мешает тому, чтобы высшее благо было разновидностью удовольствия; в удовольствиях, не сопряженных со страданием, не бывает избытка; мы не можем постоянно наслаждаться одним и тем же в силу того, что наша природа не проста и смертна, а бог всегда наслаждается одним, причем простым удовольствием.
Кн. 8 — о дружбе и ее разновидностях, что приводит к рассмотрению видов гос. устройства: царская власть, аристократия и тимократия, или полития,- правильные; тирания, олигархия, демократия — их извращения.
Кн. 9 продолжает рассуждение о дружественных отношениях и встающих в связи с этим вопросов: назначение цены в добровольных сделках, выбор между близкими и проч. людьми, сохранение дружбы, притом что один из друзей меняется; сходные с дружбой проявления расположения, единомыслия и т. д.
Кн. 10 посвящена удовольствию и счастью. Начало книги продолжает рассуждение 7-й кн. и закрепляет эвдемонизм А.: удовольствия, сопровождая правильную деятельность, придают совершенство жизни, а к счастливой жизни все и стремятся. Виды удовольствия зависят от видов деятельности, и наибольшее человеческое удовольствие следует определить как то, каким наслаждается добродетельный человек. Что касается счастья, то оно всегда связано с деятельностью, избираемой ради нее самой, а таковая есть деятельность, сообразная добродетели. Наивысшие добродетели — дианоэтические, а именно мудрость, наивысшая деятельность — созерцание, наивысшая способность в нас — ум, а высшие предметы суть его предметы познания. Поэтому наивысшее счастье — ближайшее божественному — связано с мудростью, умом и созерцанием, а все проч. виды счастья — с жизнью на основе рассудительности.
Завершается кн. 10 и весь трактат рассуждением о необходимости воспитания, как частного, при к-ром достигается большая тщательность, так и общественного, получаемого благодаря совершенным законам. Отсюда А. естественным образом переходит к «Политике» (Pol.).
В «Политике», как и в этических сочинениях, активно используется понятие середины (лучшее гос. устройство, или полития, есть, по А., «средний» строй), а также понятие блага, на к-рое нацелено всякое человеческое общение, в особенности то общение, к-рое является наиболее важным и всеохватным, т. е. гос-во.
В кн. 1 вводятся понятия семьи, селения, гос-ва как естественно возникающих форм общения. При этом гос-во по природе предшествует индивидууму и семье, поскольку они не являются самодовлеющими, и важнейшая человеческая добродетель — справедливость — связана с представлением о гос-ве. Человек по природе есть существо политическое. При этом одни по природе принадлежат не сами себе, а другому (таковы варвары): они — рабы, от к-рых свободные по природе (таковы эллины) отличаются даже физически. Эти последние владеют искусством управления, к-рое отличается от искусства приобретения собственности. К нему относится, в частности, военное искусство, способное обеспечить удачную охоту на людей, предназначенных к подчинению, а также искусство наживать состояние, к-рое связано либо с торговлей, либо с ведением домашнего хозяйства и в этом случае необходимо и заслуживает похвалы. Домохозяйство предполагает разные виды власти (господина над рабом, мужа над женой, отца над ребенком), и потому его необходимо изложить при рассмотрении гос. устройств.
Кн. 2 посвящена рассмотрению проектов гос. устройств Платона (к-рого А. осуждает за чрезмерный унитаризм в «Государстве» и за отсутствие реализма в «Законах»), Фалея Халкидонского (желавшего уравнять все земельные наделы), Гипподама Милетского (создавшего проект гос-ва из 10 тыс. граждан, разделенных на 3 класса: ремесленников, земледельцев и воинов), а также лакедемонского, критского и карфагенского гос. устройств. Помимо этого А. перечисляет древних законодателей: Ликурга из Спарты, Солона из Афин, Залевка из Локр Эпизефирских, Харонда из Катаны, Филолая из Коринфа, а также Драконта из Афин и Питтака с Лесбоса, давших законы для уже существовавших гос-в, и Андродаманта из Регия, ничем, впрочем, не примечательного.
Аристотель. Гравюра (In Aristotelis opusculum… commentarium. Venezia, 1578)
Аристотель. Гравюра (In Aristotelis opusculum… commentarium. Venezia, 1578)
В кн. 3 обсуждается вопрос, что такое собственно гос-во, но начинается она с определения гражданина как того, кто участвует в законосовещательной или судебной власти; его добродетель, к-рая отличается от добродетели просто хорошего человека,- способность властвовать и подчиняться; эти добродетели могут совпасть только в идеальном гос-ве. Гос. устройство есть определенный порядок в организации гос. должностей вообще, и в первую очередь верховной власти; целью гос. устройства является возможность участия всех граждан в прекрасной жизни, к-рую оно должно обеспечить. Правильные гос. устройства (ср.: EN. VIII 12) суть царская власть, аристократия и полития; отклонения от нее — тирания, олигархия, демократия.
Кн. 4 посвящена наилучшему виду гос. устройства. А. называет его просто «государственным устройством» — политией. При этом он считает, что главными видами гос. устройства реально являются олигархия и демократия. Демократия имеет 5 видов: всеобщее равенство; ограниченное имущественным цензом право занятия должностей; все граждане по происхождению могут занимать должности, властвует закон; любой человек, получивший гражданство, может занять должность, властвует закон; власть принадлежит не закону, а народу. Олигархия имеет 4 вида: доступ к должности обеспечивает большой имущественный ценз; недостающие должности пополняются путем кооптации из числа имеющих его; сын наследует должность после отца; при наследовании должностей властвует не закон, а должностные лица (династия).
Подлинная аристократия учитывает богатство, добродетели и народ, склоняющаяся к демократии — добродетели и народ.
Полития есть соединение олигархии и демократии: напр., состоятельные платят штраф за уклонение от судебных обязанностей (как при олигархии), а неимущие за исполнение гражданских обязанностей получают вознаграждение (как при демократии); 2-й способ соединения — средний ценз: не высокий, но и не ничтожный; 3-й — должности замещаются по избранию (как при олигархии), а не по жребию (как при демократии), но без ценза.
Тирания имеет 3 вида: 2 покоятся на законном основании и на избрании, 3-й представляет собой неограниченную монархию к выгоде правителя, а не подданных.
Наилучший строй — средний, в к-ром большинство граждан — среднего достатка.
Помимо этого А. рассматривает, какими при разных видах гос. устройства будут законосовещательная (законодательная) власть, должности (исполнительная власть) и судебная власть.
В кн. 5 А. говорит о причинах гос. переворотов, в кн. 6 — о скрещении различных видов гос. устройств и ветвей власти в них.
В кн. 7-8 излагается проект наилучшего гос. устройства, обеспечивающего гражданам счастливую жизнь. А. исходит из теоретической установки, согласно к-рой на каждого должно приходиться столько счастья, сколько у него добродетели, разума и согласной с ними деятельности, порукой чему — божество, счастливое само по себе благодаря своим свойствам. Идеальное гос-во должно быть ни большим, ни маленьким, а средним, расположенным на удобной территории, без граждан-ремесленников, с земледельцами-рабами. У последних нет досуга, а полноправные граждане развивают такие добродетели, к-рые хороши и во время досуга, и для работы, причем цель их жизни, как гос., так и частной, одна и та же. Мужество и выносливость нужны им для труда, философия — для досуга, а воздержность и справедливость — и там, и здесь. Граждан нужно воспитывать и обучать грамматике, гимнастике, музыке и рисованию, причем с юного возраста, для чего должны быть установлены соответствующие законы.
Теоретическая философия
А. представлена 3 блоками текстов: 2 посвящены природе — неодушевленной и одушевленной; 3-й — первой философии, или богословию,- такова группа текстов, объединенная в издании Андроника Родосского общим названием «Метафизика» (Met.). 1-я группа трактатов — о движении неодушевленных тел, 2-я — о движении одушевленных существ, 3-я — о неподвижных первых сущностях, стоящих выше живой и неживой природы.
Физика, или учение о природе
А. начинает 1-ю кн. «Физики» (Phys.) с общего замечания о необходимости в научных исследованиях продвигаться от более понятного и ясного для нас к более понятному и ясному по природе, каковы элементы и начала. Но к физическому рассмотрению не относится рассмотрение единого и неподвижного сущего; поэтому в рамках физики можно говорить либо об одном, либо о мн. подвижных началах, к-рых может быть либо конечное число, либо бесконечное. Но бесконечное непознаваемо, поэтому лучше рассматривать ограниченное число начал, к-рые при этом попарно противоположны друг другу, причем их должно быть больше двух, т. к. два противоположных начала не смогут действовать друг на друга. Каждый из тезисов А. иллюстрирует построениями предшествующих мыслителей и полемикой с ними.
Кн. 2 начинается с различения существующего по природе (имеющего в себе начало движения и покоя, т. е. «природу», под каковой понимается либо материя-субстрат, либо форма, либо цель) и того, что образовано не природой,- искусственного. Физика в отличие от математики не отделяет свойств тел от самих тел и рассматривает природу во всех 3 ее значениях. Поэтому дело физики — исследовать «причины» всех возможных движений и изменений тел, их положения и состояния: материальную («то, из чего»), формальную (т. е. форму и образец), источник изменения («то, откуда») и цель («то, ради чего»).
Кн. 3 рассматривает само понятие движения: оно есть действительное изменение того, что может изменяться в отношении сущности, количества, качества, времени, места. Движение возможно только при наличии непрерывного, т. е. бесконечно делимого, при этом бесконечность, с к-рой имеет дело физика,- потенциальная бесконечность (или бесконечное становление, т. е. непрекращающаяся возможность перехода к другому), поскольку не может быть бесконечно большого чувственно воспринимаемого тела.
Кн. 4 — о месте и времени. Место имеет 3 измерения, и его можно определить как существующую отдельно от тела (в отличие от формы), неподвижно объемлющую (в отличие от материи) его первую границу: как сосуд есть переносимое место, так место есть непередвигающийся сосуд. Поскольку место всегда предполагает способное к перемещению чувственно воспринимаемое тело, А. отрицает наличие пустоты и признает только движение в среде и «близкодействие» при передаче движения. Точно так же и время несомненно связано с движением и изменением. Так же как и пространство (совместно с к-рым оно всегда существует), оно с трудом поддается определению: время состоит из того, чего уже нет (прошлого), того, чего еще нет (будущего) и границы между ними, т. е. настоящего, того «теперь», благодаря к-рому время и непрерывно, и может быть сосчитано. Поэтому время можно определить как подлежащее счету число движения тела, или меру его движения и покоя.
В кн. 5 А. разбирает 3 вида изменения: из не-субстрата в субстрат и из субстрата в не-субстрат (возникновение и уничтожение, или изменение по принципу противоречия), а также из субстрата в субстрат (движение в собственном смысле, или изменение по принципу противоположности), к-рое может быть изменением только качества, количества и места, а к др. категориям неприменимо. А. рассматривает также понятия «вместе», «раздельно», «касание», «промежуточное», «следующее по порядку», «смежное», «непрерывное», единое движение, движение в противоположное и т. д.
Кн. 6 доказывает необходимость для всего движущегося и изменяющегося бесконечной делимости по времени и на части, а о неделимости можно говорить только по отношению к качественным изменениям и по отношению к «первому времени», за к-рое произошло изменение; здесь же рассмотрены 4 апории Зенона Элейского («Дихотомия», «Ахиллес и черепаха», «Стрела», «Стадион»).
Кн. 7 доказывает необходимость первого двигателя как целевой причины, «того, откуда начало движения», как непосредственно (через соприкосновение) движущего.
Кн. 8 утверждает, что не было и не будет времени, когда бы не было или когда не будет движения (вечность мира). Следов., должен вечно существовать неподвижный первый двигатель, лишенный частей и величины. При этом все тела иногда покоятся, иногда движутся: одни — по совпадению, др.- сами по себе, или по природе. Никакое изменение и движение по прямой не может быть непрерывным. Единственное непрерывное и при этом единое движение есть движение по кругу: оно же есть первичное движение.
Трактат «О небе» (Cael.) непосредственно примыкает к «Физике» и начинается с вопросов, в ней уже обсужденных: предмет физики, определение физического тела, бесконечности вселенной (невозможность бесконечного тела), естественных движений и т. д. Книги 1, 2 описывают структуру мира в целом с неподвижной землей, расположенной в центре, и шарообразным небом; здесь же обсуждается проблема самого совершенного (ближайшего к периферии) «пятого элемента» — эфира, к-рый естественным образом вечно движется по кругу и с движением к-рого согласованы сферы звезд и планет. В кн. 3 А. специально рассматривает подлунную область: речь идет, в частности, о традиц. 4 элементах (огне, воздухе, воде и находящейся в центре земле) и свойственных им естественных прямолинейных движениях вверх (от центра) и вниз (к центру), а также, в кн. 4,- о тяжелом и легком.
Трактат «О возникновении и уничтожении» (GC), развивая тему кн. 5 «Физики» об изменении по принципу противоречия, продолжает кн. 3 трактата «О небе»; в кн. 1 исследуется отличие возникновения и уничтожения от качественного изменения (в последнем случае меняются свойства, но остается тем же самым субстрат) и роста и убыли (т. е. изменения количества при той же сущности), порождение, оказываемое и испытываемое воздействие, смешение; в кн. 2 — 4 основных свойства тел (теплое, холодное, влажное, сухое) и 4 элемента (огонь — теплое и сухое, воздух — теплый и влажный, вода — холодная и влажная, земля — холодная и сухая), ни один из к-рых не прост; взаимопревращение элементов; движение солнца по эклиптике как причина возникновения (при приближении) и уничтожения (при удалении), к-рые бывают циклическими и неповторяющимися.
«Метеорологика» (Meteo.) рассматривает в кн. 1-3 происходящие по природе, но менее упорядоченные движения Млечного пути, комет, воспламенения и движущиеся огни в небе, облака, туман, радугу и т. п.; части Земли и их состояния; происхождение рек; ветер и землетрясения, громы, смерчи; кн. 4 возвращает к проблематике «Возникновения и уничтожения» (взаимопереходы элементов и их свойства: активные, т. е. теплота и холод, и пассивные, т. е. сухость и влажность) и рассматривает варение, созревание, кипячение; высыхание и увлажнение; сгущение, разряжение; подобочастные тела (мясо, кровь, семя, кости, волосы, жилы).
К физике непосредственно примыкают биологические трактаты А., поскольку в них также анализируются доступные наблюдению движения одушевленных существ. Именно об этом идет речь в трактате «О душе» (De An.): исследование души — дело «физика» (φυσικοῦ τὸ θεωρῆσαι περὶ ψυχῆς), поскольку ее состояния неотделимы от природной материи живых существ. Кн. 1 посвящена критике мнений предшественников о душе, в частности показывается невозможность для души быть причиной движения или самодвижным началом, гармонией, пространственной величиной, самодвижущимся числом. Кн. 2 дает определение души как 1-й энтелехии естественного тела, обладающего в возможности жизнью и снабженного органами. Душа неотделима от одушевленного тела, т. е. такого, к-рому свойствен хотя бы один из следующих признаков: ум, ощущение (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), воображение, стремление, движение и покой в пространстве, питание, упадок, рост. Душа — причина живого тела в смысле сущности и в смысле цели, поскольку все естественные тела суть орудия души, существующие ради нее. Благодаря органам чувств душа способна воспринимать формы без материи, и у нее есть некий изначальный орган чувства («общее чувство»). Кн. 3 рассматривает ощущение (αἴσθησις), воображение (φαντασία), способность мышления (διάνοια, τὸ νοεῖν), к-рое может быть правильным (и тогда мы говорим о разуме, знании, правильном мнении — φρόνησις, ἐπιστήμη, δόξα ἀληθής) или неправильным. Человеческий ум — способность мыслящей части души, он отличен от всегда деятельного бестелесного ума и нуждается во впечатлениях. Ум вместе со стремлением, к-рое есть начало практического ума (ἡ ὄρεξις, ἀρχὴ τοῦ πρακτικοῦ νοῦ) и невозможно без воображения, приводят живое существо в движение по направлению к предмету стремления. Животное не может существовать без осязания, вкус тоже есть своего рода осязание, но и вкус, и все остальные чувства существуют не ради существования, а ради блага.
К корпусу биологических сочинений относятся «История животных» (HA), «О частях животных» (PA), «О возникновении животных» (GA), «О движении животных» (MA), а также «Малые естественнонаучные сочинения» (Parva Naturalia), собрание текстов, включающее трактаты «Об ощущении и ощущаемом» (Sens.), «О памяти и воспоминании» (Mem.), «О сне и бодрствовании» (Somn. Vig.), «О сновидениях» (Insomn.), «О прорицании на основании снов» (Div. Somn.), «О долголетии и краткости жизни» (Long.), «О дыхании» (Spir.).
Математика
В списках сочинений А. есть трактаты, отнесенные к математике («О монаде», «Астрономия», «Оптика», «О движении» «О музыке»), к-рая включается в теоретическую философию; однако ни один из них (кроме 2 незначительных фрагментов «Оптических проблем», frg. 43) не сохранился.
Первая философия
Собрание материалов в 14 книгах, получившее в издании Андроника Родосского название «Метафизика», сам А. относил к науке, к-рая, по его словам, есть умозрительная наука о причинах и началах, или мудрость (Met. I 1. 982a1-3, I 2. 982b9-10, etc.). Это наиболее божественная и драгоценная (983a5) наука, какая «могла бы быть или только или больше всего у бога»; «все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше — нет ни одной» (983а9-11).
Аристотель. Роспись экзонартекса ц. Филантропион на острове оз. Янина. Мастера Георгий и Франгос Кондарисы. Сер. XVI в.
Аристотель. Роспись экзонартекса ц. Филантропион на острове оз. Янина. Мастера Георгий и Франгос Кондарисы. Сер. XVI в.
Кн. 1 (A) посвящена изложению учения о 4 причинах: таковы сущность (οὐσία), или «чтойность», суть бытия (τὸ τί ἦν εἶναι); материя (ὕλη), или субстрат (τὸ ὑποκείμενον); источник движения (ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως); «то, ради чего», или благо, т. е. цель всякого возникновения и движения (τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τἀγαθόν, τέλος γενέσεως καὶ κινήσεως πάσης). А. анализирует учения прежних мыслителей с целью показать, что ни один вид причин им не упущен, а все вместе определенно и отчетливо сведены впервые. При этом А. специальное внимание уделяет критике платоников и пифагорейцев.
Кн. 2 (α) подчеркивает, что исследование истины, безусловно являющееся делом философии, затрудняется не только сложностью предмета, но и нашей неспособностью правильно его постичь. Знать истину вещи — значит знать ее причину, в конечном счете необходимо знание первых причин; при этом для нас важен характер изложения, к-рое может быть разным (математически точным или с использованием примеров и т. п.) и должно соответствовать излагаемому предмету.
Кн. 3 (Β) рассматривает 14 апорий, т. е. затруднений, к-рые обычно возникают при исследовании первых причин и начал.
1. Исследует ли все роды причин одна или мн. науки?
2. Исследует ли первая философия только начала сущего или же и начала доказательства?
3. Рассматривает ли наука о сущности все сущности, или это дело разных наук, и если разных, то все ли они однородны и суть мудрости?
4. Сущности — это только чувственно воспринимаемое, или же помимо них есть и др., и суть ли они сущности в одном смысле или их неск. родов (напр., эйдосы и математические предметы)?
5. Подлежат рассмотрению только сущности или также и привходящие свойства?
6. Следует ли признать роды началами и элементами, или они суть части, на к-рые делится всякая вещь?
7. Если роды суть начала, то таковы роды, сказываемые о единичном (к-рое прежде всего определяется через вид, началом к-рого обязательно служит род), или первые роды (сущее, единое)?
8. Есть ли материальная причина и помимо этого причина как таковая, и отделена она или нет, и много их или нет? И есть ли что-то помимо составного целого (оформленной материи, подлежащего, о к-ром нечто сказывается), или для одного есть, а для другого нет, и что это?
9. Ограничены ли начала по числу и по виду?
10. У преходящего и непреходящего одни и те же начала или разные?
11. Являются сущностью реально существующих вещей единое и сущее (τὸ ἕν καὶ τὸ ὄν), как считают пифагорейцы и Платон, или же Дружба, как у Эмпедокла, или же огонь, вода и воздух?
12. Есть ли начала нечто общее, или они подобны единичным вещам?
13. Существуют они в возможности или в действительности?
14. Числа, линии, фигуры и точки суть сущности и отделены ли они от вещей или же находятся в них?
Кн. 4 (Γ) показывает, что одна и та же наука должна рассматривать первые причины сущего как такового, каковое, по А., есть то же самое, что и единое, причем ни сущее, ни единое не существуют отдельно. Та же наука рассматривает и то, что им присуще, а также начала доказательства. А. настаивает на невозможности в одно и то же время быть и не быть и считает это положение — закон тождества — самым достоверным из всех начал. Этот закон оставался основополагающим для всей европ. науки вплоть до XVII в.
Кн. 5 (Δ) представляет своего рода словарь основных терминов аристотелевской философии: А. рассматривает 6 значений «начала», 4 значения «причины», определение «элемента», 6 значений «природы», 3 значения «необходимого», приложение понятия «единое», 4 значения сущего, 4 значения сущности, приложение понятия тождества, 4 вида противолежащего, 2 значения «дюнамис», определения количества, множества, величины, 4 значения качества, виды соотнесенности, законченности, 4 значения предела, употребление «то, в силу чего» (τὸ καθ̓ ὅ), понятие расположения, 2 значения «обладания или свойства» (ἕξις), 4 значения «лишенности», значения «иметь», значения «быть из чего-то», значения «части», 3 значения «целого» (ὅλον), «нецельное» (κολοβόν) и возможность целого стать нецельным, 4 значения «рода», значения «ложного», 2 значения «присущего привходящим образом» (συμβεβηκός).
Кн. 6 (EE
) показывает отличие первой философии от наук практических, творческих и от 2 др. теоретических наук: математики и физики, поскольку только она — наука о божественном — исследует сущее как сущее (περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὂν ταύτης ἂν εἴη θεωρῆσαι, καὶ τί ἐστι καὶ τὰ ὑπάρχοντα ᾗ ὄν). А. рассматривает случайное бытие и показывает, что нет науки о привходящем, а также отмечает отличие сущего в смысле истины (т. е. того, что соответствует истинному суждению) от сущего как такового.
Кн. 7 (ZZ
) показывает, что сущее как таковое есть первое во всех смыслах: по определению, по познанию и времени. Но нужно рассмотреть, только ли со сферой чувственно воспринимаемого связаны сущности.
О сущности говорится преимущественно в 4 значениях: как о чтойности, общем, роде и субстрате-подлежащем (τὸ τί ἦν εἶναι καὶ τὸ καθόλου καὶ τὸ γένος οὐσία δοκεῖ εἶναι ἑκάστου, καὶ τέταρτον τούτων τὸ ὑποκείμενον).
По существу, сущность есть суть бытия, чтойность (τὸ τί ἦν εἶναι), нечто одно, определенное нечто (ἕν τι καὶ τόδε τι). Сущность есть то, что не сказывается о подлежащем, но о чем сказывается все остальное, поэтому сущим оказывается материя-субстрат (τὸ ὑποκείμενον). Но сущностью («первой сущностью») не может быть общее, к-рое всегда сказывается о субстрате, и род, к-рый не существует помимо видов; так что некими отдельными сущностями не могут быть и идеи, во всяком случае признающие их не могут показать, как они могут существовать помимо единичных чувственно воспринимаемых вещей. Но сущностью является то, что существует по природе, и сама природа в качестве начала.
Кн. 8 (HH
) закрепляет понятие сущности как субстрата и материи, т. е. носителя всех свойств вещи и основу ее возможных изменений. Определение сущности вещи есть ее определение либо как некой материи (того, что есть в возможности), либо как формы данной вещи и осуществленности (того, что в действительности), либо как оформленной или осуществленной материи. При этом единство определения обусловлено единством существующего предмета, а не его причастностью единству и бытию как родам, существующим отдельно помимо единичных существующих вещей.
Кн. 9 (Θ) вновь возвращается к рассмотрению разных значений возможности-способности (δύναμις) и деятельности-действительности (ἐνέργεια λέγεται κατὰ τὸ ἔργον), имеющей в виду осуществление (καὶ συντείνει πρὸς τὴν ἐντελέχειαν), и устанавливает первичность действительности по отношению к возможности по определению, по времени и по сущности, в т. ч. как вечного и необходимо сущего. Обнаруживается сущее в возможности через деятельность: причина этого в том, что мышление есть деятельность (ἡ νόησις ἐνέργεια).
Кн. 10 (Ι) начинает с 4 основных значений разбиравшегося ранее «единого»: непрерывное, целое, единичное, неделимое для понимания и познания как причина единства сущности. Уточняя, что значит «быть единым», А. подчеркивает значение «быть неделимым как определенное отдельно существующее нечто», а скорее всего — «быть первой мерой для всякого рода», гл. обр. для количества, но также и для качества. Критикуя пифагорейцев и Платона, А. показывает, что отдельно существующего единого самого по себе быть не может. Рассматривается принцип противоположности как наибольшего (законченного, или совершенного) различия (ἡ ἐναντιότης ἐστὶ διαφορὰ τέλειος) в одном и том же роде, в связи с чем первичной оказывается противоположность обладания и лишенности. Также анализируется специфика противопоставления единого и многого, равного и большого и малого, муж. и жен., преходящего и непреходящего.
Кн. 11 (KK
) обсуждает апории 2-6 кн. 3. Еще раз уточняется, что философ исследует сущее как таковое; поэтому философ как философ исследует начала наук, а не их специфический предмет (свойства и начала определенного рода сущих). При этом начала не могут быть прямо доказаны, но возможно доказательство от противного, поскольку из двух противоположных утверждений об одном и том же одно должно быть ложным. Разные виды изменений (по противоречию: из не-субстрата в субстрат, из субстрата в не-субстрат, что не есть движение; по противоположности: изменение количества, качества, места — именно таковы 3 вида движения); невозможность беспредельного тела; необходимость того, что первым приводит в движение.
Кн. 12 (Λ) рассматривает 3 вида сущности (чувственно воспринимаемые, подвижные и существующие отдельно: одни — вечные, др.- преходящие, к-рыми занимается учение о природе, и неподвижные — существующие и не существующие отдельно). Чувственно воспринимаемые изменяются, но имеют сохраняющуюся при изменениях материю, могущую принять форму; это и есть 3 причины: материя, отсутствие и наличие формы; к ним добавляется ум, неподвижная причина движения. Ум вечно мыслит, предмет его мысли прост, и этот предмет — он сам. Его сущность — деятельность, у него нет материи, и движет он как предмет желания и мысли, т. е. так, как предмет любви движет любящим. Первое движение — вечное круговое движение неба в целом, а от него — все остальные движения. При этом для планет, совершающих сложные движения, также должны быть неподвижные двигатели, каждый из к-рых задает круговое движение определенной сферы, а все вместе они создают то сложное движение звезд и планет, к-рое мы наблюдаем. В соответствии с моделью Евдокса — Каллиппа число сфер и неподвижных сущностей должно быть 49; в тексте А. (1074a 13-14) их 47.
Книги 13 (Μ) — 14 (Ν) посвящены критике теории отдельно существующих математических предметов, идей-чисел, или эйдосов-чисел, самосущих единиц, единого-начала, блага-начала и вообще противоположностей в качестве начал.
Общая характеристика философии А.
А. дает первый в истории европ. философии пример школьной систематически развитой философии как науки в смысле реального исследования отчетливо выявленных предметных областей. В отличие от пифагорейцев, впервые осознавших специфику философии как рационально контролируемой в рамках школы сознательной ориентации человека в мире чувственного опыта и наличных социальных и духовных ценностей, что привело к открытию самой сферы научного знания и реальных успехов в математике; в отличие от софистов и Платона, развивших институт школы и практически разрабатывавших философию как пайдейю, т. е. как систему воспитания и дисциплинарно дифференцированного образования, А. впервые в рамках данного института (школы) занят научной разработкой отдельных дисциплин. Благодаря А. была терминологически более строго определена и предметная область самой философии как науки о первых началах, о сущем как таковом (первая философия) и как системы проч. наук, занятых исследованием «первых» начал в каждой так или иначе установленной области бытия и знания о нем. А. впервые систематически разработал инструментарий и методологию философского исследования, создав логику, упорядочив терминологический и понятийный аппарат философии и введя жанр прагматии — философского трактата, посвященного систематической разработке определенной темы.
Именно эти достижения А. позволяли отчетливее отделять его реальные научные достижения от имагинативных построений идеологического характера, хотя и те и др. оказались востребованы в определенные периоды развития европ. философии от античности до наст. времени, напр. телеологизм или — концепция эфира. Оборотной стороной школьной определенности философии А. оказалось известное сужение его интеллектуального кругозора по сравнению с платоновским, что вызвало полемику как между учеником и учителем, так и между аристотеликами и платониками, пока в школах позднего платонизма философия А. не была вмещена в качестве необходимой пропедевтики к философии Платона. А именно, А. ограничивает философское рассмотрение сферой бытия, представленного разного рода сущностями: от неподвижного вечно деятельного (актуального) ума, первой целевой причины всех изменений в мире, до преходящих индивидуальных вещей. Между ними — сверху вниз — надлунная область: вечно движущаяся первым естественным движением, состоящая из эфира сфера неподвижных звезд и система сфер, обеспечивающая движение планет; подлунная область, в к-рой высшую иерархическую ступень занимают одушевленные чувствующие разумные существа, низшую — неодушевленные предметы, состоящие из 4 элементов и находящиеся в одном из естественных движений или покоящиеся в своем естественном месте; промежуточные ступени заняты растениями и животными, имеющими от одного (осязание) до 5 чувств.
Аристотелевский иерархически упорядоченный сферический космос вечен, его строй неизменен, при этом космос конечен. Телеологизм А. проявляется не только в том, что первый двигатель движет как предмет стремления, но и в том, что одной из причин наряду со специфической для данной вещи материей оказывается и лишенность всякий раз определенного качества. Впервые у А. приобретает значение понятие природы, «которая ничего не делает напрасно» (De An. III 9. 432b; Cael. I 4. 271a, etc.). Разные уровни бытия изучаются разными науками, составляющими определенную иерархию: от первой философии, или мудрости, до практической философии, базирующейся на наблюдении за реальными фактами социальной жизни и не претендующей на всеобщность, свойственную теоретическим наукам.
Логика и творческие науки заняты областью искусно (технически) построенной речи, при этом 1-я вырабатывает правила ведения диспута и построения доказательства, а 2-е ориентированы на наблюдение за реальной практикой составления политических и судебных речей и поэтических произведений, хотя и предполагают пользование силлогизмами (риторика) и понимание общего (поэтика).
У А. нет платоновских блага-единого, превосходящего бытие, неизбежной двойственности предела-беспредельного в качестве границы между благом и бытием; и не досягающей бытия материи: его универсум целиком помещается в пределах иерархически устроенного бытия, вопрос о границах к-рого А. не рассматривает. Поэтому перед А. не стоит проблема возникновения мира и отсутствует стремление генетически объяснить его совр. состояние (ср. писавшиеся при А. диалоги Платона «Тимей» и «Политик», а также его концепцию злой души в «Законах»). Вместе с тем А. имеет возможность сосредоточиться на описании внешнего мира, и его занятия биологией, или описания гос. устройств, или изучение и сводка мнений предшественников по разным вопросам не только задали парадигму научного описания и изложения материала в разных сферах, но и остались свидетельством его интеллектуальной открытости и восприимчивости к реальному многообразию данных чувственного опыта.
Несколько уплощенное видение универсума компенсируется у А. необыкновенной детализацией философского рассмотрения и постоянной установкой на научный характер философского исследования. Но при этом А., критикующий ряд платоновских концепций, не выходит за пределы платонизма, почему его критика всегда остается непоследовательной. Отказываясь, напр., от самостоятельного существования идей и индивидуальной бессмертной души, А. вводит в философию отдельно существующий ум, являющийся неподвижным вечным двигателем, и множество душ разных видов: растений, животных и людей. А. дал существенное развитие самому институту философской школы, созданной Платоном, и именно поэтому оказался востребован в последующей философской и богословской традиции, прежде всего в позднеантичном платонизме и христианстве, но также у арабов и евреев. Этим и определяется его роль главного школьного авторитета, к к-рому неизменно обращаются ради укрепления складывающейся школьной традиции, но к-рый стремится оспорить всякая новая эпоха, существенно расширяющая свой интеллектуальный горизонт.
Влияние А.
Аристотель. Раскрашенная гравюра (Schedel H. Liber chronicarum. 1493)
Аристотель. Раскрашенная гравюра (Schedel H. Liber chronicarum. 1493)
на последующую философию было как непосредственным — благодаря преподаванию и через его эксотерические (преимущественно в эпоху эллинизма) и эсотерические (начиная с Андроника Родосского) сочинения,- так и через его многочисленных учеников (см. Перипатетики), развивших его естественнонаучные, исторические, историко-научные и историко-лит. труды. Глубина этого влияния объясняется тем, что А. изменил сам характер философии, впервые сделав ее профессиональным занятием, независимой от политики и самостоятельной — т. е. не сводимой ни на какую др.- интеллектуальной деятельностью. Именно благодаря А. академическое деление предметов философского диспута на логические, этические и физические (Top. I 14. 105b20-21) получило значение школьного деления философии на логику, этику, физику, к-рое восприняли все философские школы эллинизма и к-рое еще Кант признавал естественным. Оснащенность азами философских знаний рассматривалась как обязательная примета свободного гражданина уже в Риме I в. до Р. Х., почему платоник Цицерон, хорошо знавший эксотерические сочинения А., но также знавший и о его школьных работах, неоднократно ссылается на А. в риторических сочинениях и, в частности, пишет «Топику» со ссылкой на «Топику» А.
А. в I-II вв. по Р. Х.
Уже к кон. I в. до Р. Х. знаменитыми становятся «Категории» А., с к-рыми полемизируют платоники (Евдор Александрийский); в среде пифагорейцев под именем Архита имеют хождение «Категории» на дорийском диалекте (определить время создания к-рых трудно). Ко II в. по Р. Х. благодаря деятельности аристотеликов оказывает влияние на естествознание и медицину (Птолемей, Гален) аристотелевская логика; она же входит в поле зрения платоников и постепенно включается в общие курсы платоновской философии (см. Платонизм).
На христианство А. до III в. оказывает незначительное влияние, притом что «признаваемый всеми мудрейшим Платон» (Hippolitus. De universo. Fr. 1), учивший о вечном Боге и творении, даже если не во всем вызывает согласие, тем не менее безусловно привлекает внимание как последователь Моисея, с сочинениями к-рого Платон, согласно его биографам, знакомится во время совершенного им путешествия в Египет. У А. признаются неприемлемыми учение о вечности мира, ограничение сферы промысла надлунной областью, отсутствие отдельной от тела души, включение в число благ богатства, удовольствий и т. д. Критикуют А. Татиан (Contr. graec. 2; 25 etc.), Афинагор (Legat. pro Christian. 6. 3. 1 sqq.), а также авторы «Опровержения некоторых учений Аристотеля» и «Увещания к язычникам», приписываемых Иустину Философу. Эта критическая традиция, в частности, могла опираться на антиаристотелизм платоников. Об этом можно судить по еп. Евсевию Кесарийскому, к-рый в 15-й кн. «Евангельского приуготовления» упрекает А. в том, что тот помимо добродетели признавал необходимыми для счастья (εὐδαιμονία) плотские удовольствия и удачу (4); что из видимого космоса А. изгнал Промысл Божий (5); признавал несотворенность мира (6); учил о «пятом теле» — эфире (7); отличался от Платона (и Моисея) в понимании строения космоса (8); не признавал бессмертия души (9). При изложении всех этих вопросов Евсевий обильно цитирует Аттика, представлявшего антиаристотелевскую тенденцию в платонизме II в. по Р. Х., а в вопросе о бессмертии души привлекает и Плотина с Порфирием, также не признававших учение А. о душе как энтелехии одушевленного тела (10-12).
Знакомство с восходящей к Арию и Дидиму Слепцу и нашедшей отражение у Диогена Лаэртского аристотелевской доксографией обнаруживает Ипполит Римский (Refutatio omnium haeresium. I 20), у к-рого А. по преимуществу логик, а позднее Епифаний Кипрский (Adv. haer. 9), к-рый упрекает А. и проч. светских диалектиков в том, что они не могут с помощью логики объяснить тайны Рождества Христова (Ibid. 69. 71).
Вместе с тем в Псевдо-Климентинах (Recognitiones. VIII 15) есть попытка интерпретировать аристотелевский эфир как «Того, Кто, сочетав четыре элемента, создал мир» (Diels H. Doxographi graeci. B., 1879. Р. 251); сходную концепцию находим у Афинагора (Legat. pro Christian. 5), в «Увещании к язычникам» (Cohort. ad gent. 6) Иустина Философа и у Ермия (Irrisio gentilium philosophorum 11. 7-9), что впосл. вызвало критику Оригена (Contr. Cels. 4. 56. 18 sqq.).
А. и еретические учения
О стремлении усвоить и применить аристотелевскую школьную ученость в связи с выдвигаемыми христ. богословием проблемами свидетельствуют представители еретических учений. Во II в. возникает связанная с именем действовавшего в Риме Феодота Византийского ересь монархиан-динамистов, к-рые были знатоками А. и Феофраста (Epiph. Adv. haer. 2. 317. 4 sqq.) и, в частности, отвергали из логических соображений возможность Богочеловечества. Феодот считал, что Христос — только человек, ставший Богом по воскресении. В III в. Павел I Самосатский отрицал возможность воплощения Логоса (Euseb. Hist. eccl. V 28 sq.). Аэтий, учившийся у некоего александрийского аристотелика, мог говорить о Боге только с использованием силлогистических фигур, что и явилось причиной возникновения арианской ереси (Adv. haer. 3. 341. 30 sqq.; ср. замечание Иеронима (Ad Luciferianos. 11) о том, что ересь Ария «отводит ручейки своих аргументов из аристотелевских источников»). О том, что на «Категории» А. опирается Евномий, пишет св. Василий Великий (Adv. Eunom. V; ср.: Greg. Nyss. Contr. Eun. I 1).
А. был популярен в Антиохийской школе ), благодаря к-рой в IV-VI вв. развивается традиция сир. переводов сочинений А. и его комментаторов. Проб в Антиохии перевел «Об истолковании», составил комментарии к «Введению» Порфирия, «Первой аналитике» и «Софистическим опровержениям», после закрытия несторианских школ имп. Зиноном в 489 г. несториане продолжили занятия в Персии, в Нисибисе, а с приходом арабов содействовали переводу античных философов — в первую очередь А.- на араб. язык. Интерес к А. у монофизитов также вызвал появление сир. переводов его сочинений и толкований к ним в VI-VII вв., представлявших уже развитую традицию неоплатонического толкования А.; в частности, монофизитом и тритеистом был представитель александрийской школы неоплатонизма Иоанн Филопон, к-рый, однако, отрицал вечность мира («О вечности мира против Прокла»), в его соч. «Толкования на Моисееву космогонию» (De opif. mundi) А.- один из главных авторитетов. Учеником Иоанна Филопона был Сергий из Решайна (в Месопотамии), переведший на сир. «Введение» Порфирия и «Категории» А.
А. и патристика
Постепенно А. начинает занимать свое законное место в церковной традиции и системе христ. образования. Уже у Климента Александрийского (Strom. I 28) философия Моисея в соответствии с А. делится на 4 части: этику, физику, теологию (к-рую, как замечает Климент, А. называет метафизикой) и диалектику; правда, диалектика, по Клименту, пока еще та, о к-рой говорит Платон в «Государстве», и для Климента, разумеется, неприемлемо учение А. о нераспространении Промысла Божия на подлунную сферу или рассмотрение материи в числе начал (Strom. V 14) и т. п. Но при этом он отмечает, что у А. судит об истине вера, к-рая важнее науки (Strom. II 4: κυριώτερον οὖν τῆς ἐπιστήμης ἡ πίστις καὶ ἔστιν αὐτῆς κριτήριον), что целью для него является добродетельная жизнь (Strom. II 21), что свои учения А. заимствовал у Платона, а тот — у евреев из Египта. Да и сам А., по свидетельству перипатетика Клеарха (Strom. I 15), общался с неким иудеем, у к-рого, очевидно, и перенял ряд правильных положений, как и проч. греч. философы брали мн. положения у Востока. Также Климент знает, что перипатетик Аристобул (II в.? до Р. Х.) свидетельствовал о существовании греч. перевода священных книг евреев до Александра (Strom. I 22), из к-рых и были почерпнуты учения греков. Так А. начинает входить в поле зрения христ. интеллектуалов как греч. философ, находившийся под «восточным влиянием».
На «Протрептик» А. опираются «Протрептик» и пассажи из «Педагога» Климента (Paed. 6. 29-30; III 12. 99). Климент приводит как общее место аристотелевское учение о 4 причинах (Strom. VIII 6). Таким же общим местом стало аристотелевское учение о добродетели как о средине (Paed. I 13). В ряде случаев обращение Климента к А. спровоцировано Филоном Александрийским: Климент называет Бога ἀπαθής, αὐτοτελὴς и ἀπροσδεὴς (бесстрастным, совершенным, самодостаточным — Strom. II 18; I 20), что находит соответствие у Филона (De specialibus legibus 2. 385) и восходит к А. (EE. 1244b8-9). Рассматривая Божественный ум как «место идей» (νοῦς δὲ χώρα ἰδεῶν, νοῦς δὲ ὁ θεός — Strom. IV 25; V 11), Климент также мог опираться на Филона (De Cherubim. 49. 
У Оригена Бог также понимается как ум (De princ. I 1. 6; ср.: Contr. Cels. VII 38:
Νοῦν τοίνυν ἢ ἐπέκεινα νοῦ καὶ οὐσίας λέγοντες εἶναι ἁπλοῦν καὶ ἀόρατον καὶ ἀσώματον τὸν τῶν ὅλων θεόν, что соответствует Arist. Frg. 46 Rose из Simpl. In De caelo. Р. 218, 20; ср.: Greg. Nyss. In cant. cant. V), при этом только Бог Отец ни в чем не нуждается и самодостаточен (Сomm. in Ioan. XIII 34). Учение Оригена о соотношении бессмертного человеческого ума (Contr. Cels. III 80, ср.: De an. II 413b23-27) и тела, к-рым он пользуется как инструментом (De princ. I 1. 6), соотносимо с учением А. об «органическом» теле, энтелехией к-рого и является душа (ср.: De an. II 412b12 sqq., etc.).
Осторожное отношение к А., как и к др. философам, у еп. Евсевия Кесарийского объясняется тем, что А. признавал множество начал (Euseb. Praep. Evang. XIII 13. 3. 1) и расходился с Платоном и Моисеем в самых существенных вопросах (XV 4); но Евсевий, принципиально освоивший платонизм в череде учений, зависимых от евреев и подготовивших Евангелие, рассматривает и А. как ученика «некоего иудея»: к иудеям он возводит аристотелевское членение философии на этику, физику и логику (XI 1), а учение А. о том, что промысл Божий не досягает до подлунной сферы, не просто отвергает, но толкует на основе сопоставления с 35-м псалмом (ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου ἕως τῶν νεφελῶν — XIII 13. 4. 6).
Свт. Василий Великий, хотя и отмечает неприменимость cиллогистики А. и Хрисиппа в тех вопросах, где нельзя руководствоваться мирской мудростью (Adv. Eunom. V), опирается на «Протрептик» А. в беседе «К молодым людям о пользе языческих книг» (у А. ряд протрептических топосов восходит еще к платоновскому «Евтидему», а его «Протрептик» используется в «Гортензии» Цицерона и «Протрептике» Ямвлиха); не принимая аристотелевского учения о вечности мира и критикуя концепцию эфира, свт. Василий широко использует «Историю животных», «О частях животных» и «Метеорологику» А. в «Беседах на «Шестоднев»». Ничто не мешает свт. Василию использовать аристотелевское деление искусств на творческие, практические и теоретические (I 7), признавать падение тяжелых и движение вверх легких тел (I 11), наличие формы и материи в сложных предметах, создаваемых искусствами (II 2), и при этом с великолепным юмором уходить от обсуждения того, бесконечные споры о чем ведут к пустословию, напр. от проблемы «пятого тела» (In Hexaem. I 11).
Из аристотелевского наследия постепенно выбирается то, что — будучи лишено партийной ограниченности — может быть достоянием всякой культивированной мысли и должно в конце концов войти в систему христ. образования. Поэтому свт. Григорий Нисский не смущается применением аристотелевских понятий потенции и энергии (In Hexaem.), делением жизни на растительную, чувственную и разумную (De hom. opif. 8), признанием добровольности добродетели (In cant. cant. V) и т. д.
Отцы Церкви, вмещая аристотелевские умозрения в несопоставимо более широкий кругозор христ. богословия, с легкостью отделяют в построениях Стагирита его несомненные достижения от имагинативных конструкций. Как писал свт. Григорий Богослов (Or. 4), «всякое искусство и полезное изобретение принадлежит не одним изобретателям, а всем пользующимся». Поэтому свт. Григорий использует силлогистику, прекрасно зная, что она — изобретение А., и отнюдь не считая ее принадлежностью только языческой философии. Немесий, еп. Эмесский, в своем трактате «О природе человека», опираясь на тексты «О душе» и «Никомаховой этики», пользуется аристотелевскими понятиями «добровольное», «невольное», «выбор», «желание» и др., а также рассматривает аристотелевское понимание души как первой энтелехии естественного органического тела, в потенции обладающего жизнью (De natura hom. 2). В «Ареопагитиках» влияние А., может быть, отчасти опосредствовано свт. Григорием Нисским, но в целом обусловлено неоплатонической выучкой автора корпуса.
Систематически диалектическое искусство в целях полемики и положительного определения понятий впервые используется в сочинениях против несториан, евтихиан, севириан, аполлинариан, монофизитов, дошедших под именем Леонтия Византийского. Призывая «философствовать» и в то же время основываясь на святоотеческих текстах IV в., автор остается в указанном русле отношения святых отцов к А., к-рое даст зрелые плоды у прп. Иоанна Дамаскина.
Последние представители Александрийской школы неоплатонизма Элиас (Илия), Давид и Стефан, перебравшийся при имп. Ираклии, занявшем престол в 610 г., в К-поль, были христианами. Все трое писали обычные для позднего платонизма комментарии к логическим сочинениям А. и обеспечили в Византии непрерывность его школьного толкования. Эта традиция школьного толкования А. представлена в созданных в кон. VI — нач. VII в. арм. переводах сочинения А. и неоплатонических комментариев, приписанных ученику Месропа Маштоца и Саака Партева Давиду Анахту (Непобедимому) (V в.).
Автор (или один из авторов) «Учения отцев о воплощении Слова», предположительно Анастасий Синаит (сер.- кон. VII в.), со школьной определенностью знает аристотелевские дефиниции сущности, формы и материи, лишенности и обладания и др. (Doctrina Patrum de incarnatione Verbi / Ed. F. Diekamp. Münster; Aschendorf, 1907. S. 44: 25 sqq.; 217: 25 sqq.; 259: 10 sqq.).
Прп. Иоанн Дамаскин впервые последовательно применил аристотелевскую логику и диалектику для нужд систематического христ. богословия. В «Диалектике, или Философских главах» (сохранились 2 версии этого сочинения) он, как и свт. Григорий Богослов, исходит из того, что «если что благо, то оно дано человеку свыше — от Бога», и потому намерен начать с того, «что есть наилучшего у эллинских мудрецов» (гл. 1), в числе к-рых А.- один из первых, если судить по обилию цитат из него, а также из опиравшихся на А. Порфирия и Немесия. В «Диалектике» Иоанн Дамаскин излагает логику и физику А. При этом он прекрасно осознает «светский» характер аристотелевской премудрости и в соч. «Против яковитов» осмеивает их отношение к А. как к 13-му апостолу (10), а в соч. «О ересях» говорит об арианах, тщетно пытающихся «представить Бога с помощью умозаключений аристотелевских и геометрических» (76. 9-10).
А. в Византии IX-XIV вв.
Патриарх Фотий (ок. 820-886) комментировал «Категории» Аристотеля, опираясь на Порфирия и Аммония (Amphil. Quaest. 77, 137, 147, комментарии не сохранились). В «Библиотеке» многократно упоминается А. и среди проч.- толкования А. и парафразы Фемистия, известные Фотию (Cod. 74 Bekker. Р. 52a15-19). Ученику Фотия Арефе, архиеп. Кесарии Каппадокийской (ок. 850 — после 932), принадлежат сводка «Категорий» и схолии к «Введению» Порфирия. Лев Математик, также ученик Фотия, пишет эпиграммы, посвященные Порфирию и аристотелевским понятиям.
Аристотель. Роспись Станца делла Сеньятура. Мастер Рафаэль. 1510. Фрагмент композиции «Афинская школа»
Аристотель. Роспись Станца делла Сеньятура. Мастер Рафаэль. 1510. Фрагмент композиции «Афинская школа»
Не только к Платону, но и к Аристотелю (к «Категориям») составлял комментарии Михаил Пселл, под чьим именем также дошла «Сводка логики Аристотеля», имевшая влияние на зап. традицию: в этом сочинении изложены «Об истолковании», «Первая аналитика» и «Топика». Иоанн Итал, чей платонизм был осужден Церковью, писал комментарии к А., интерес к к-рому был поддержан Анной Комниной. Михаил Эфесский и Евстратий Никейский продолжили традицию толкования А., введенную в нач. VII в. Стефаном, в результате чего были написаны комментарии к главным сочинениям аристотелевского корпуса. Феодор Продром составил комментарий к «Введению» Порфирия, названный «Ксенедем», и комментарий ко 2-й кн. «Второй аналитики». О постоянном интересе к логике А. в Византии свидетельствуют маргиналии к сочинениям Никифора Влеммида с правилами запоминания фигур силлогизма; среди этих сочинений — учебник логики и физики, написанный в аристотелевском духе и имевший широкое распространение, а также трактат «О душе». Сочинения А. в этот период переиздаются, появляется «Сводка аристотелевской философии» Георгия Пахимера. Его современник мон. Софония пишет парафразы «Категорий», «Первой аналитики», «Софистических опровержений», трактата «О душе».
Михаил Оловол, преподававший с 1267 г. логику в основанной Михаилом VIII Палеологом К-польской школе, написал комментарии к 1-й кн. «Первой аналитики» и перевел сочинения Боэция о диалектике и гипотетическом силлогизме.
Никита Хумн ок. 1315 г. издает трактат «О природе мира, первых и простых телах, материи и форме». Ему же принадлежит соч. «Опровержение «О душе» Плотина» — очерк аристотелевской психологии, согласованной с учением о творении. Феодор Метохит в 1317 г. публикует «Начала астрономии» (парафраз Птолемеева «Альмагеста») и сводку физики А. (включая учение о душе, биологию и метеорологику).
В 1439 г. Плифон пишет соч. «Сравнение между Платоном и Аристотелем» (не в пользу А.), вызвавшее отклик Георгия Схолария «Опровержение возражений Плифона против Аристотеля». В соч. «Сравнение философов Аристотеля и Платона» спор между учителем и учеником решал в пользу последнего Георгий Трапезундский, на что в свою очередь ответил кард. Виссарион, призвавший ценить обоих философов в соч. «Против хулителя Платона» (ок. 1458), хотя и сам кардинал, и возрожденческая Италия, куда он перебрался, пока решительно предпочитали Платона и платоников. Ситуация меняется в Падуанском ун-те: П. Помпонацци (1462-1525), ориентированный на греч. комментарии А. (Александра Афродисийского), одерживает верх над падуанскими аверроистами и обеспечивает возвращение к А., ставшему предметом самостоятельного интереса у Чезальпино. В соч. «О бессмертии души» (1516) Помпонацци отвергал возможность рационального доказательства бессмертия души и в связи с этим психологию Ибн Рушда и Фомы Аквинского.
Воспринимаемый через греков и по-гречески, гуманистически истолкованный А., к-рого Рафаэль в «Афинской школе» изобразил с «Этикой», оказывается одной из главных фигур античности, заново открываемых Зап. Европой в эпоху Возрождения. Но против А. и засилья логики (силлогистики) выступают гуманисты Лоренцо Валла, Рудольф Агрикола и Эразм Роттердамский, они стремятся противопоставить схоластическую философию идеалам античной пайдейи (Цицерон, Квинтилиан) и возвратиться к классической грамматике и риторике. При этом Агрикола обращается к текстам самого А. и излагает их на изящной цицероновской латыни, во Франции лат. парафразы А. предпринимает Ж. Лефевр д’Этапль. Вместе с тем против метафизического наполнения логической проблематики в пользу чистой логики выступают Вивес, Низолий, Дж. Бруно и открывают тем самым путь критике А. с позиций новоевроп. науки.
А. и философия Средневековья
На лат. Западе самостоятельная рецепция А. затруднялась тем, что его трактаты не были переведены на латынь. Во времена каролингского Возрождения логика, входившая в общеобразовательный тривиум (см. Artes liberales), ориентировалась на учение А. (благодаря таким позднеантичным учебникам, как «De ordine» Августина, «Брак Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы), однако сами аристотелевские тексты оставались малочитаемыми. Лишь с наступлением II тыс. по Р. Х. получают распространение отдельные части «Органона», а именно «Категории» и «Об истолковании» в переводах Боэция. Вместе с его же комментариями к этим сочинениям и переводом «Введения» Порфирия они составили «старую логику» (logica vetus), к-рая в течение XI в. превращается в основной школьный учебник. Об аристотелизме как таковом не может быть еще речи, но Абеляр († 1142) уже именует А. «проницательнейшим из всех философов». К сер. XII в. становятся известны и др. части «Органона», получающие наименование «новой логики» (logica nova). Самые ранние переводы принадлежат Якову Венецианскому, в 1128 г. он перевел с греч. обе «Аналитики», «Топику» и «О софистических опровержениях». Ученик Абеляра Иоанн Солсберийский († 1180), восхищаясь новооткрытыми текстами, одним из первых прозывает Стагирита «Философом». К концу века корпус логических сочинений А. (logica antiqua) уже воспринимается как фундамент, на к-ром должно выстраиваться здание «современной логики» (logica moderna). Этот взгляд находит отражение в «Трактате» Петра Испанского († 1230), важнейшем для последующих поколений пособии по логике.
Со временем в зап. традиции развивается интерес не только к логическим сочинениям А., но и к др. его текстам. Важная роль в этом принадлежит переводам с араб., осуществленным, в частности, толедской школой, возникшей в XII в. при дворе еп. Раймунда. Посредническую роль в передаче античного наследия арабам сыграли сир. несториане.
Расцвет переводческой деятельности в араб. мире приходится на VIII в. при династии Аббасидов. Первые переводы на араб. (с сир.) язык были сделаны сир. врачами из Гундешапура, где существовала несторианская школа. После закрытия имп. Юстинианом в 529 г. языческих школ в Месопотамию (в Карры?) переселились афинские неоплатоники, школа к-рых (см. Афинская школа платонизма) продолжала существовать до X в. Это обстоятельство повлияло на понимание аристотелевского учения первым крупным араб. аристотеликом аль-Кинди (ок. 800 — ок. 873). В IX-X вв. выдающимися переводчиками А. были Хунайн ибн Исхак (IX в.) и его сын Исхак ибн Хунайн (ум. в 911). Последний перевел «Категории», «Об истолковании», его перевод «Органона» позднее считался образцовым. Аль-Фараби (ок. 870-950/51), «второй учитель» (после самого А.), занимался аристотелевской логикой, развивал политические идеи Стагирита. Ибн Сина (латиниз. Авиценна) (980-1037), «князь философов, третий учитель», оказал огромное влияние на последующее развитие аристотелизма своими неоплатоническими по духу (учение об эманации и провидении) парафразами сочинений А. Книга аль-Газали (1059-1111) «Стремления философов», в к-рой с целью последующего опровержения излагались взгляды А., была переведена в сер. XII в. на лат. и парадоксальным образом стала на Западе популярным учебником аристотелевской философии. Ибн Рушд (латиниз. Аверроэс) (1126-1198), «Комментатор», оставил свои толкования (комментарии и парафразы) на все сочинения А. (за исключением оставшейся недоступной арабам «Политики»).
Важным звеном между араб. аристотелизмом и рецепцией А. на лат. Западе была евр. средневек. философия. В 1161 г. появляется соч. «Возвышенная вера» Авраама бен Давида из Толедо, в к-ром с позиции аристотелизма критикуется неоплатоническое учение Ибн Гебироля. В естественнонаучной («подлунной») части своей системы евр. средневек. философ М. Маймонид (1135-1204) опирается на учение А. и комментарии к нему Авиценны. «Путеводитель блуждающих» Маймонида был переведен на лат. язык по заказу имп. Фридриха II. С евр. рецепцией А. Запад познакомился к XIII в.
Естественнонаучные и этические тексты А. появляются в лат. мире в XII-XIII вв. Яков Венецианский перевел трактат «О душе» и «Метафизику» (I-IV. 4). Генрих Аристипп, архидиак. Катании († 1162), перевел 4-ю кн. «Метеорологики» и привез в Сицилию греч. рукописи из б-ки имп. Мануила I Комнина. Герард Кремонский († 1187) перевел с араб. «Физику», «О небе», «О возникновении и уничтожении» и «Метеорологику». К 1200 г. появляются анонимные переводы с греч. «Метафизики» (кроме 11-й кн., т. н. «Metaphysica media») и «Никомаховой этики» (книги 2-я и 3-я, т. н. «старая этика», или «Ethica vetus»). В XIII в. к ней прибавляется «новая этика» («Ethica nova», кн. 1-я «Никомаховой этики»). Михаил Скот († 1235) и Герман Алеманн († 1272) переводят с араб. комментарии Аверроэса. Роберт Гроссетест (1168-1253) в 1246-1247 гг. перевел «Никомахову этику» вместе с греч. комментарием и сам откомментировал «Вторую аналитику» и «Физику». Итог переводческой деятельности этого периода подвел доминиканец Вильем из Мёрбеке (2-я пол. XIII в.), переработавший и исправивший ряд лат. текстов и переведший с греч. важнейшие комментарии, в т. ч. Фемистия, к трактату «О душе» и Симпликия к соч. «О небе». Он же впервые перевел на латынь «Политику».
Несмотря на оппозицию монашества (Петр Дамиани, Бернард Клервоский), возрастающий на протяжении XIII в. интерес к философии природы облегчает проникновение натурфилософских сочинений Стагирита в университетские программы. Аристотелизм тем самым институализирует себя в схоластике. В Париже неск. раз выходили запреты на использование сочинений А., однако в 1255 г. в учебный курс фак-та искусств допускается весь известный к тому времени корпус. В Оксфорде аристотелизм встречает меньшее сопротивление. Именно офиц. признание аристотелевских текстов в качестве одной из основ университетского образования становится, с одной стороны, характерной чертой схоластики, а с др. стороны, является единственным формальным поводом для обсуждения сущностного единства аристотелевской и схоластической философий. Лат. мыслители XIII в. получают, наконец, «полного» А. вместе с его араб. толкованиями. Богатство интерпретационных возможностей приводит, во-первых, к тому, что «эклектический» А. оказывается популярен как весьма удобный логический инструмент, помогающий в достижении самых разных интеллектуальных целей; во-вторых, подобная ситуация провоцирует попытки систематизации.
Альберт Великий пишет парафразы аристотелевских сочинений, в к-рых, следуя Авиценне, дополняет А. неоплатоническим учением. Фома Аквинский полагается скорее на толкование Аверроэса, однако старается при этом понять А. как можно более аутентично. Фома видел в аристотелизме воплощение философской истины и пытался доказать ее согласие с христ. верой. Исходя из аристотелевских основоположений, он развивает собственное учение, синтезировавшее философию Стагирита с христианством (см. Томизм). Томистскому синтезу противостояли, с одной стороны, позиция Бонавентуры, полагавшего, что для достижения достоверного знания необходимо Божественное озарение, а с др.-позиция Сигера Брабантского, учившего в духе Аверроэса о единстве разума во всех людях. Сигер признавал вечность мира и материи, отрицал Божественный промысл, разграничивал истину философскую и богословскую.
К кон. XIII в. возникает новая форма изложения мысли, «вопросы», сменившие «парафразы» и «комментарии». Это способствует вольным трактовкам аристотелевского учения (ср., напр., «Вопросы» Ж. Буридана († 1358) к «Политике»). Единство сохраняется в основном благодаря влиянию школ. В них же аристотелизм укрывается во времена расцвета «via moderna», номинализма 1-й пол. XV в., но затем «via antiqua» и особенно томизм вновь обретают популярность. Последнее обусловливает то, что главной для рецепции XVI в. становится проблема возможной «христианизации» А.
А. в эпоху Реформации
М. Лютер (1483-1546), получивший типичное схоластическое образование, включавшее к тому времени изучение всех важнейших аристотелевских сочинений, полагал философию Стагирита неприменимой для богословия и видел в этом одно из своих главных возражений томизму. В «Диспуте против схоластического богословия» (1517) он ясно указывает на свое полное отрицание аристотелизма в богословии (Disputation against Scholastic Theology // Luther M. Early Theological Works / Ed. and transl. T. Atkinson. Phil., 1962). Этот антиаристотелизм вытекал из неприятия Лютером средневек. доктрины пресуществления, основывавшейся на аристотелевском различии «свойства» и «акциденции», к-рая была принята Латеранским IV Собором (1215) (см.: Маграт А. Богословская мысль Реформации. Од., 1994. С. 207). Задумывая реформу ун-та, Лютер оставлял в нем место лишь книгам по логике, риторике и поэтике А.
Однако педагогическое влияние Меланхтона (1497-1560), к-рый в свои поздние годы настолько увлекся практической философией А. (экзегеза «Политики» — 1530, комментарий к соч. «О душе» -1540), что сам называл себя homo peripateticus (перипатетиком), привело к тому, что вплоть до эпохи Просвещения протестант. образование, наука и богословие направлялись «меланхтоновым» аристотелизмом: эклектической смесью элементов учений А., Платона и Цицерона. Часть философии А. первоначально оказывалась при этом вне круга интересов. Лишь богословская конкуренция со стороны поздней, или «второй», схоластики, виднейшим представителем к-рой был испан. иезуит Франсиско Суарес (1548-1617), использовавший в теологии заимствованное у А. категориальное рассмотрение проблемы бытия, привела к тому, что в XVII в. «Метафизика» была включена в учебные программы протестант. школ.
А. и философия Нового времени
В XVII в. постепенно теряет авторитет естественнонаучная часть учения А. Представители зарождающейся экспериментальной науки (Ф. Бэкон (1561-1626), Г. Галилей (1564-1642)) отвергают методы аристотелевской физики. Их влияние становится определяющим в отношении философов и ученых к А. в течение последующих 2 столетий. Однако Г. В. Лейбниц (1646-1716), учившийся в Лейпциге, где было сильным влияние аристотелизма, возвращается в своих метафизических рассуждениях к телеологизму как альтернативе атеистическо-механистическому восприятию мира. Его последователь Х. Вольф (1679-1754), получивший прозвище «Аристотель Нового времени», использовал элементы аристотелевского учения, в частности в трактовке понятия «форма». Критический пафос философии И. Канта (1724-1804) не позволяет отнести его к представителям аристотелизма или иной, опиравшейся на авторитет, традиции. Однако в своем учении о рассудке он исходит из школьной, т. е. аристотелевской, схемы категорий сущего.
А. в XIX-XX вв.
Научное (филологическое) изучение наследия А. началось в XIX в. Важным этапом здесь стало первое полное академическое издание его текстов в 1831-1870 гг. И. Беккером. На занятие А. в 1-й пол. XX в. наибольшее влияние оказало появление книг В. Йегера (1912, 1923), впервые специально разработавшего представление об эволюции философии А. от ортодоксального платонизма к естественнонаучному эмпиризму. Во 2-й пол. XX в. получила распространение концепция И. Дюринга, согласно к-рой А. еще в Академии формулирует свои основные идеи и только в поздний период создает учение о сверхчувственном уме, что, впрочем, не мешает ему весьма продуктивно заниматься биологией.
В философии ХХ в. неотомизм (Ж. Маритен, Э. А. Жильсон) продолжил усилия, предпринятые Фомой Аквинским по достижению синтеза философии А. и христ. теологии. Потребность в практической, не оставляющей места избыточному теоретизированию этике естественным образом привела к проникновению идей А. в философию М. Шелера и Н. Гартмана. М. Хайдеггер показал возможность «феноменологической» интерпретации метафизики А., в частности категориального учения о сущем, и тем самым инициировал новый всплеск интереса к аристотелевской философии.
Учение А. оставалось в ХХ в. точкой отсчета во мн. областях знания. Аристотелевская силлогистика заняла место введения в любой курс совр. «неклассической» логики. В теоретической биологии вместо прежнего решительного отказа от «статического» аристотелевского представления о видах животных в пользу «динамического» дарвиновского учения об эволюции развивалась тенденция рассматривать обе позиции как взаимодополняющие. Телеологизм стал определяющим моментом философских и антропологических построений П. Тейяра де Шардена. Политические изменения в странах Европы стимулировали интерес социологов к политическим концепциям А. Однако в области богословия трезвое отношение отцов Церкви к А., умение и желание опереться на подлинные достижения его философии сегодня едва ли можно считать в полном смысле востребованными.
Соч.: Aristotelis Opera / ex recensione I. Bekkeri; ed. Acad. Regia Borussica [1831]; ed. altera quam curavit O. Gigon. Berolini, 1960. См. также новые изд. текстов в сер.: Bibliotheca Teubneriana, Oxford Classical Texts, Loeb Classical Library, Coll. de Univ. de France (Budé).
Пер. на рус. яз: Метафизика / Пер. А. В. Кубицкого. М.; Л., 1934; О душе / Пер. В. Снегирева // Снегирев В. Психологические сочинения Аристотеля: Исслед. о душе. Каз., 1885. Вып. 1; То же / Пер. П. С. Попова. М., 1937; Категории / Пер. М. Н. Касторского. СПб., 1859; То же / Пер. А. В. Кубицкого. М., 1939; Об истолковании / Пер. Э. Л. Радлова. СПб., 1891; Аналитики первая и вторая / Пер. Б. А. Фохта. Л., 1952; Физика / Пер. В. П. Карпова. М., 1936; Никомахова этика / Пер. Э. Л. Радлова // Радлов Э. Л. Этика Аристотеля. СПб., 19082; Политика / Пер. Н. Скворцова. М., 1865; То же / Пер. С. А. Жебелева // Жебелев С. А. Политика Аристотеля. М., 1911; О поэзии / Пер. Б. И. Ордынского. М., 1854; Поэтика / Пер. В. И. Захарова. Варшава, 1855; Об искусстве поэзии / Пер. В. Г. Аппельрота. М., 1893; Переизд. Под ред. О. А. Петровского. М., 1957; Поэтика / Пер. Н. И. Новосадского. Л., 1927; То же / Пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная литература. М., 1978; Афинская полития / Пер. С. И. Радцига. М.; Л., 1936; О частях животных / Пер. В. П. Карпова. М., 1937; О возникновении животных / Пер. В. П. Карпова. М.; Л., 1940; Соч.: В 4 т. / Под ред. В. Ф. Асмуса и др. М., 1976-1984. (Филос. наследие); Риторика / Пер. С. С. Аверинцева // Аристотель и античная литература. М., 1978.
Лит.: Jaeger W. Studien zur Entstehungsgeschichte der Metaphysik des Aristoteles. B., 1912; idem. Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. B., 1923; Cherniss H. Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy. Baltimore, 1944; Robin L. Aristote. P., 1944; Wehrli F. Die Schule des Aristoteles: Texte und Kommentar. 1944-1956. 8 Hte; Ross W. D. Aristotle. L., 19454; Düring I. Aristotle in the Ancient Biografical Tradition. Göteborg, 1959; idem. Aristoteles: Darstellung und Interpretation seines Denkens. Hdlb., 1966; Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М., 1959; Chroust A. H. Aristotle: New Light on his Life and on Some of his Lost Works. L., 1973. 2 vol.; Guthrie W. K. C. A History of Greek Philosophy. Camb., 1980. T. 6; Flashar H. Aristoteles // Überweg Fr. Grundriss der Geschichte der Philosophie / Begr. v. Völlig neubearb. Ausg. Die Philosophie der Antike. Bd. 3: Ältere Akademie, Aristoteles-Peripatos. Basel, 1983; Moraux P. D’Aristote à Bessarion: Trois exposés sur l’histoire et la transmission de l’Aristotelisme Grec. Quebec, 1970; idem [hrsg.]. Aristoteles in der neuen Forschung. Darmstadt, 1968. (Wege der Forschung; Bd. 61); Зубов В. П. Аристотель. М., 2000.
А. А. Глухов
А. в России
Др. Русь знала идеи А. в основном по произведениям визант. авторов. Так, в домонг. период на слав. язык были переведены «Точное начертание православной веры» Иоанна Дамаскина, «Поучения огласительные и тайноводственные» Кирилла Иерусалимского, «Слова против ариан» Афанасия Александрийского, нек-рые Слова Григория Богослова и др. произведения. Сочинение Иоанна Дамаскина «Источник знания» состоит из 3 частей: 1-я часть, «Диалектика», представляет собой философское введение, содержащее определение основных логических и онтологических понятий, почерпнутых у А., Порфирия и Аммония. «Категории» А. излагаются в главах 31-40. Иоанн Дамаскин вносит нек-рые изменения в эти системы с целью привести их в соответствие с христ. учением. Так, он не принимает аристотелевского деления на «первую» и «вторую» субстанции, вместо «первой» употребляет термины «ипостась» и «индивид», разумея под ними всякий единичный предмет.
Аристотель. Роспись паперти Благовещенского собора Московского Кремля. 1547–1551 гг.
Аристотель. Роспись паперти Благовещенского собора Московского Кремля. 1547–1551 гг.
Более широкое распространение знания А. связано с введением регулярного школьного обучения по системе, соответствующей аристотелевскому делению наук. Основанная в 1632 г. Киево-Могилянская коллегия взяла в качестве канона образования схоластизированный аристотелизм. В 1679, 1686, 1693 гг. здесь составляются руководства в виде разъяснений к переложениям А. В 1-й пол. XVIII в. появляются курсы и трактаты; трактат М. Казачинского «Философия Аристотелева, по умствованию перипатетиков» (К., 1742) был опубликован на рус. и польск. языках. В московской Славяно-греко-латинской академии с 1686 по 1694 г. братья Лихуды преподавали грамматику, пиитику, риторику, логику и часть физики по А. Первый рус. ученый, получивший в Европе звание д-ра философских наук, П. В. Посников, ректор академии (ок. 1700) игум. Палладий (Роговский), архиеп. Феофилакт (Лопатинский) сами прошли школу аристотелевской философии и составили руководства по изучению А. Имевший хождение курс натурфилософии, изданный в 1713 г. под названием «Зерцало естествозрительное», представлял собой пособие по философии и риторике, выполненное в средневек. жанре комментариев к А.
Курсы лекций, читанные в Москве в 10-х гг. XVIII в. иером. Стефаном (Прибыловичем), в 20-х гг. еп. Гедеоном (Вишневским) и в 30-х гг. Анатолием Кувечинским, были основаны на схоластизированном А. В сер. XVIII в. в европ., а позже и в российских ун-тах наблюдается смена канона образования — с А. на Вольфа. Все многочисленные учебные пособия, составленные по А., заменяются изложением вольфианской философии Х. Баумейстера. Академические курсы философии Ивана Козловича (40-е гг.) и Владимира Каллиграфа (50-60-е гг.) были составлены по вольфианским образцам. А., т. о., в своем искаженном схоластизированном варианте был надолго вытеснен на периферию научного сознания России.
Еще в кон. XVII в. в России появился рукописный перевод 1-й кн. «Физики» (сохранилось 2 списка), но лишь с сер. XVIII в. начинают издаваться произведения А. В 1757 г. в С.-Петербурге выходит один из первых переводов «Политики» («Аристотеля о гражданском учреждении кн. II, переведенная с греческого языка Г. П.»).
В 1852 г. в соч. «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» И. В. Киреевский выводит 2 противоположных друг другу «по духу, а не по степени» типа образованности — зап. и вост. У истоков одной он обнаруживает губительную рассудочность А., у истоков др.- живительный гений Платона. В системе Аристотеля Киреевский видит стремление к благоразумному, а значит, земному, тогда как в Платоне он прозревает метафизический императив. «…Греческие христианские мыслители явно предпочитали Аристотелю Платона… потому, что самый способ мышления Платона представляет более цельности в умственных движениях, более теплоты и гармонии в умозрительной деятельности разума» (Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // он же. Критика и эстетика. М., 1979. С. 248-293). Крупнейшие рус. философы следующего поколения Вл. Соловьёв и кн. С. Н. Трубецкой, обращаясь к античности, сделали свой недвусмысленный выбор в пользу Платона. Соловьёв начинает грандиозный проект перевода сочинений Платона с подробными комментариями, предварив его большим очерком «Жизнь и произведения Платона» (Творения Платона. 1899-1903). Трубецкой у Платона находит «элементы позднейшего учения о Логосе» (Соч. М., 1994. С. 66), хотя именно А., согласно Трубецкому, «является основателем телеологического миросозерцания», т. к. в «логосе совпадает… и «форма» вещи, и ее конечная «цель», и самое начало, или производящая причина всего процесса» (Там же. С. 75).
Лит.: Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка X-XIV вв. СПб., 1882; Архангельский А. С. Творения отцов Церкви в древнерусской письменности: Обозрение рукописного мат-ла. СПб., 1888; Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII вв. СПб., 1903. [Библиогр.]; Ященко А. Русская библиография по истории древней философии. Юрьев, 1915; Петров Л. А. Первые аристотелики и вольфианцы в России // Тр. Иркутского гос. ун-та. 1967. Т. 46. Вып. 5. С. 47-53; Тихомиров М. Н. Философия в Древней Руси // Русская культура X-XVIII вв. М., 1968. С. 90-172; Буланин Д. М. Классическая культура в Древней Руси и проблема ее изучения // Русская и груз. средневек. лит-ры. Л., 1979. С. 30-39; он же. Античные традиции в древнерусской литературе XI-XVI вв. // Slavische Beiträge. Münch., 1991. Bd. 278; Чернышева Л. А. Аристотелизм XVI-XVII вв. и его восприятие в Белоруссии и Литве // Исторические традиции филос. культуры народов СССР и современность. К., 1984. С. 206-215; Червина Е. В. Русское философское антиковедение XVIII — нач. XX в. (историогр. обзор) // Историографические проблемы филос. антиковедения. М., 1990. С. 6-39; Зубов В. П. Аристотель. М., 20002. С. 332-349.
П. Б. Михайлов
ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ
ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ
1. Учение о бытии:
«Метафизика» («О первой философии»),
«Физика»,
«О небе»,
«О возникновении и уничтожении».
2. Логика («Органон»):
«Категории»,
«Об истолковании»,
«Первая Аналитика»,
«Вторая Аналитика»,
«Топика» (последняя часть этого трактата печатается иной раз отдельно под названием «О софистических опровержениях»).
3. Психология:
«О душе».
4. Этика:
«Этика Никомахова»,
«Этика Евдемова»,
«Большая этика».
5. Учение об искусстве:
«Поэтика»,
«Риторика».
6. Политические учения:
«Политика».
7. История:
«Афинская полития» (государственное устройство Афин).
8. Естественно-научные труды:
«Метеорологика» (учение об атмосферных явлениях),
«О частях животных»,
«О движении животных»,
«О способах передвижения животных»,
«О происхождении животных»,
«История животных».
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Основные сочинения Джека Лондона и литература о нем
Основные сочинения Джека Лондона и литература о нем
Лондон Джек. Собр. соч. В 14-ти т. Под общей редакцией Р. М. Самарина.– М.: Правда, 1961. – (Б-ка «Огонек»).Включает некоторые не публиковавшиеся ранее на русском языке статьи Лондона.Т, 1. Сын волка. Бог его отцов. Дети Мороза.Т. 2.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРИСТОТЕЛЯ ОНАССИСА
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРИСТОТЕЛЯ ОНАССИСА
1906,15 января (по другим данным, 20 января) — в городе Смирне (Турция) в семье греческого торговца табаком Сократа Онассиса и Пенелопы Дологлу родился сын, которого назвали Аристотелем Сократесом.1911 — мать Аристотеля
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ АРИСТОТЕЛЯ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ АРИСТОТЕЛЯ
• 384(3) г. до н. э. Между июлем и октябрем, в первый год 99-й Олимпиады — в городе Стагире, в семье врача Никомаха и Фестиды родился сын Аристотель.•? — Никомах приглашен македонским царем Аминтой III в придворные врачи и вместе с семьей
РОДОСЛОВНАЯ АРИСТОТЕЛЯ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ПОТОМКОВ
РОДОСЛОВНАЯ АРИСТОТЕЛЯ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ПОТОМКОВ
Основные сочинения, названия произведений и события жизни Шостаковича (1906—1975)
Основные сочинения, названия произведений и события жизни Шостаковича (1906—1975)
1924–25 Первая симфония, соч. 101926 Соната для фортепиано № 1, соч. 121927 Десять афоризмов для фортепиано, соч. 13; Вторая симфония («Посвящение Октябрю»), для оркестра и хора, на стихи Александра
Основные сочинения, названия произведений и события жизни Шостаковича (1906–1975)
Основные сочинения, названия произведений и события жизни Шостаковича (1906–1975)
1924—25 Первая симфония, соч. 101926 Соната для фортепиано № 1, соч. 121927 Десять афоризмов для фортепиано, соч. 13 Вторая симфония («Посвящение Октябрю»), для оркестра и хора, на стихи Александра
Основные сочинения И.А.Ильина
Основные сочинения И.А.Ильина
Аксиомы религиозного опыта (1953).Арфа царя Давида в русской поэзии (1960).Всенощное бдение (1927).Загадка жизни и происхождение живых существ (1929).Кризис идей субъекта в наукоучении Фихте старшего (1925).Наши задачи (1956).О сопротивлении злу силою (1925).О
Основные сочинения:
Основные сочинения:
«Избранное». Пер. с укр. М., изд-во «Советский писатель», 1951.«Вибране», К., вид-во «Рад. письменник», 1951.«Избранное». Пер. с укр. М., изд-во «Советский писатель», 1952.«Ватикан без маски». Пер. с укр. М., изд-во «Литературная газета», 1952.«Свет с Востока». Пер. с укр.
Жизнь и труды Аристотеля
Жизнь и труды Аристотеля
На мысе у деревни Стагира в Северной Греции стоит не слишком талантливый современный памятник Аристотелю. Его невыразительное лицо таращится поверх неровных, заросших лесом холмов на синеющее вдали Эгейское море. Фигура из девственно-белого
Из произведений Аристотеля
Из произведений Аристотеля
…Ведь мы… и войну ведем, чтобы жить в мире[5].
Никомахова этика
Цель жизниВсякое искусство и всякое учение, а равным образом поступок и сознательный выбор, как принято считать, стремятся к определенному благу. Поэтому удачно определяли благо
Хронология жизни Аристотеля
Хронология жизни Аристотеля
384 г.?до?н. э.?Аристотель родился в Стагире на полуострове Халкидика в Северной Греции.367 г.?до?н. э.?Аристотель начинает учиться в платоновской Академии в Афинах, где остается на 20 лет.347 г.?до?н. э.?Аристотель покидает Афины, не получив поста
Основные сочинения А.А. Спендиарова
Основные сочинения А.А. Спендиарова
I. Вокальные сочинения с сопровождением фортепьяно:
«Очарован твоею красой» (сл. П. Козлова). 1888.
«Нет вопросов давно» (сл. В. Соловьева), 1892.
«Песня утопленницы» (сл. А. Подолинского), 1895.
«Не знаю отчего» (сл. Л. Мея), 1895.
«К розе» (сл. А.
Наследие Аристотеля
Наследие Аристотеля
ПроизведенияАристотель был очень плодовитым автором. По разным сведениям, им было написано от 400 до 1000 книг, посвященных практически всем отраслям науки и сферам человеческой деятельности. Все произведения Аристотеля делятся на два типа. К первому
Введение ПРОБЛЕМА ЖИВОГО АРИСТОТЕЛЯ
Введение
ПРОБЛЕМА ЖИВОГО АРИСТОТЕЛЯ
Перед нами, авторами этой книги, стоит сложная задача — ввести читателя в жизнь и философию великого Аристотеля. Нечего и говорить, что такого рода задачи весьма трудны. Однако мы не можем дожидаться их окончательного решения. Наука
ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ
ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ
1. Учение о бытии:«Метафизика» («О первой философии»),«Физика»,«О небе»,«О возникновении и уничтожении».2. Логика («Органон»): «Категории»,«Об истолковании»,«Первая Аналитика»,«Вторая Аналитика»,«Топика» (последняя часть этого трактата
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ АРИСТОТЕЛЯ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ АРИСТОТЕЛЯ
384 (383) до н. э., между июлем и октябрем — в первый год 99-й Олимпиады с городе Стагиры, в семье врача Никомаха и Фестиды родился сын Аристотель.? — Никомах приглашен македонским царем Аминтой III в придворные врачи и вместе с семьей переезжает в
Исследования — комментарии — ссылки
Чанышев
А.Н. Курс лекций по древней философии
Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов. — М.: Высш. школа,
1981
ЛЕКЦИЯ XXIV
TEMA 56. ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ
Аристотель — величайший древнегреческий философ. Ф. Энгельс назвал Аристотеля
«самой универсальной головой» среди древнегреческих философов,
мыслителем, исследовавшим «существеннейшие формы диалектического
мышления» 1 /Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 19./.
Аристотель жил в 384 — 322 гг. до н. э. Родина Аристотеля — полис Стагира,
расположенная на Северо-Западном побережье Эгейского моря, рядом с Македонией,
от которой она зависела. Отец Аристотеля Никомах — придворный врач македонского
царя Аминты III, а сам Аристотель — сверстник сына Аминты, будущего
македонского царя Филиппа II.
Первый афинский период. В 367 г. до н. э. семнадцатилетний Аристотель
прибыл в Афины и стал слушателем «Академии» Платона, где он
пробыл двадцать лет, вплоть до смерти основателя «Академии»
в 347 г. до н. э. Платон был намного старше Аристотеля. Он сумел разглядеть
гениального юношу и высоко его оценить. Сравнивая Аристотеля, которого
он называл «умом», с другим своим учеником — Ксенократом,
Платон говорил, что если Ксенократ нуждается в шпорах, то Аристотель
— в узде. Со своей стороны Аристотель высоко ценил Платона. В написанном
Аристотелем на смерть Платона стихотворении говорилось, что дурной человек
не должен сметь даже хвалить Платона. Однако Аристотель уже в школе
Платона увидел уязвимые места платоновского идеализма. Позднее Аристотель
скажет: «Платон мне друг, но истина дороже». Платонизм будет
подвергнут проницательной и нелицеприятной критике. Но первое время,
как это видно из ранних сочинений Аристотеля, он полностью разделяет
взгляды Платона. В 355 г. до н. э. положение Аристотеля в Афинах упрочилось
в связи с приходом к власти в этом городе промакедонской партии. Однако
смерть Платона и нежелание Аристотеля оставаться в «Академии»,
возглавленной преемником Платона, его племянником Спевсиппом, побудили
Аристотеля оставить Афины.
Годы странствий. Покинув их, Аристотель первые шесть лет живет в малоазийской
Греции, сперва в прибрежном городе Ассосе, а затем в городе Митилена
на соседнем с Ассосом острове Лесбосе. Выбор Аристотеля не был случайным.
В Ассосе проживали два ученика Платона — Эраст и Кориск, в Митилену
Аристотеля пригласил уроженец Лесбоса Теофраст — друг и сотрудник великого
мыслителя. В Ассосе Аристотель нашел себе жену в лице некоей Пифиады
— приемкой дочери атарнейского тирана и основателя Ассоса философа Гермия.
Связанный с Македонией Гермий был вскоре казнен персами после жесточайших
пыток. Перед смертью он просил передать своим друзьям-философам, что
он не совершил ничего недостойного философии, которую он, видимо, высоко
ценил. Признанный героем и мучеником Эллады, Гермий был удостоен памятника
в ее религиозном центре — в Дельфах. Надпись к памятнику сделал Аристотель.
Он же воспел своего тестя в пеане, где сравнивает его с Гераклом и Ахиллом.
В конце 40-х годов 4 в. до н. э. Аристотель был приглашен Филиппом II
на роль воспитателя сына Филиппа — тринадцатилетнего Александра — и
переехал в столицу Македонии Пеллу. Воспитание Александра Аристотелем
продолжалось около четырех лет. Впоследствии великий полководец скажет:
«Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так как если отцу я обязан
жизнью, то Аристотелю тем, что дает ей цену». Аристотель не пытался
сделать из Ллександра философа, как это сделал бы, по-видимому, Платон,
одержимый мыслью, что люди не будут счастливы, пока ими не начнут управлять
философы. Трудно, конечно, сказать, насколько философу удалось облагородить
характер македонца — человека, стоявшего, по представлению классического
грека, на границе между эллином и варваром. Отношения учителя и ученика
никогда не были теплыми. И как только Александр стал царем Македонии,
он постарался избавиться от Аристотеля, которому пришлось вернуться
на родину — в Стагиру, где он провел около трех лет. В это время произошло
важное событие: в битве при Херонее (338 г. до н. э.) македонское войско
Филиппа II разгромило соединенное войско греческих полисов. Классической
Греции как совокупности суверенных полисов пришел конец. Аристотель
же возвращается в Афины.
Второй афинский период. Оказавшись снова в Афинах пятидесятилетним мужем,
Аристотель открывает здесь философскую школу — Ликей, названный так
потому, что школа находилась рядом с храмом Аполлона Ликейского («волчьего»).
В состав территории школы входили тенистый сад с крытыми галереями для
прогулок, Поэтому школа Аристотеля называлась также «перипатетической»
(т. е. «прогулочной»), а члены школы — «перипатетиками»
(т. е. «прогуливающимися»). Их было много, ибо Аристотель
имел не одну сотню учеников и последователей. Аристотель преподавал
в Лнкее двенадцать лет. Второй афинский период Аристотеля полностью
совпадает с завоевательной эпопеей Александра, покорившего всю западную
часть полосы древней цивилизации и вторгнувшегося даже в ее среднюю
часть — в Индию, т. е. с «эпохой Александра», которая была,
как подчеркивает К. Маркс, временем «высочайшего внешнего расцвета»
Эллады 2 /См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 1, с. 98 — 99./.
Скоропостижная смерть Александра вызвала в Афинах антимакедонское восстание.
Аристотель был обвинен в богохульстве — вспомнили о пеане Аристотеля
в честь Гермия, который был человеком, тогда как пеан подобает лишь
богу. Не дожидаясь суда, Аристотель передал управление Ликеем Теофрасту
и покинул Афины, как оказалось, навсегда — Аристотель вскоре умер на
острове Эвбея в вилле своей покойной матери. В завещании Аристотель
просил перезахоронить останки своей первой жены рядом со своей могилой,
определил содержание своей второй жене Герпилле — матери сына Аристотеля
Никомаха, отдал распоряжение относительно обоих своих детей: Пифиада
(от первого брака) и Никомаха; некоторым своим рабам он даровал свободу.
Схолархом Ликея стал Теофраст.
Сочинения. Наследие Аристотеля велико, хотя оно дошло до нас далеко
не все. Еще будучи слушателем «Академии», Аристотель писал
здесь диалоги, в которых начинающий философ подражал Платону. От них
до нас дошли лишь фрагменты, а также переложения. И в тех и в других
Аристотель оставался еще в основном на позициях платоновского идеализма.
В эпоху же Ликея были созданы коллективные труды, выполненные под руководством
Аристотеля. В частности, это было описание ста пятидесяти восьми государственных
устройств.
Самая большая группа произведений эпохи Ликея (хотя частично они были
написаны до этой эпохи) — собственные произведения зрелого Аристотеля.
Это в большинстве своем неотработанные произведения, состоящие из «книг»
2 /В Древней Греции «книгой» называлась часть произведения,
которая трактовала какой-либо более или менее законченный вопрос и помещалась
на отдельном папирусном свитке./, созданных в разное время, на разных
этапах философского развптия философа.
Существует «Аристотелев вопрос» — вопрос хронологической последовательности
сочинений Аристотеля, и при этом не только самих этих сочинений, но
и входящих в их состав частей — «книг». Однако этот вопрос
еще менее разрешим, чем аналогичный «Платонов вопрос». Исследователи
дают порой совершенно различные их решения, например: одни относят биологические
труды Аристотеля к третьему периоду (т. е. ко «второму афинскому
периоду»), а другие — ко второму («годы странствий»).
Единственное, с чем согласны, по-видимому, все,- это то, что диалоги
Аристотеля предшествуют его трактатам и написаны в период его пребывания
в «Академии». Однако важный диалог «О философии»
некоторые исследователи относят ко второму периоду.
«Эвдем». Другой диалог раннего Аристотеля — «Эвдем»
рисует нам автора как убежденного платоника, полностью разделяющего
идеалистическое учение о потусторонних идеях как вечных и неизменных
образцах и причинах преходящих вещей чувственнного мира, об антагонизме
бессмертной и возвышенной души и смертного и низменного тела, о познании
как воспоминании душой некогда полученного ею в потустороннем мире знания,
которое она утратила в результате телесного воплощения. В диалоге рассказывается
о том, как молодой киприот Эвдем, друг Аристотеля, изгнанный со своего
родного острова по политическим мотивам и примкнувший к платоновской
школе, находясь в фессалийском городе Фера, тяжело заболел. Однако во
сне ему было предсказано, что он выздоровеет и вернется на родину, тиран
же города Фера будет убит. И в самом деле: Эвдем выздоровел, а тиран
был убит, но сам Эвдем также вскоре погиб, так и не вернувшись на родину.
Однако Аристотель утверждает, что сбылось и третье предсказание, ибо
под «возвращением на родину», предсказанным прекрасным юношей,
явившимся Эвдему во сне, должно понимать вовсе не прибытие Эвдема на
Кипр, а возвращение души Эвдема в идеальный мир, в мир истины, красоты
и добра. В этом диалоге Аристотель прямо объявляет союз души и тела
противоестественным. Он одобряет слова Феогнида:
Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого Солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать 1. /Античная лирика. М.,
1968, с. 150./
«Протрептик». В произведении «Протрептик» (обращение,
увещевание), написанном уже не в диалогической форме, Аристотель обращается
к правителю Кипра Темисону, увещевая его стать покровителем философии.
Аристотель выдвигает мысль о неупразднимости философии, ибо ей служат
даже те, кто ее отрицает: говоря, что философия никчемна, они связывают
себя философским суждением. Аристотель же готов согласиться с тем, что
философия трудна, но он никак не согласен с ее мнимой никчемностью,
бесполезностью, хотя философия и в самом деле не снисходит до частностей,
оставаясь на уровне всеобщего и неизменного бытия. Но даже и в таком
случае философия полезна, так как она дает человеку образцы поведения
в частной и общественной жизни. Философию нельзя считать и трудной,
о чем свидетельствует ее быстрое развитие без стороннего вмешательства.
Нетрудно заключить, сколь велики будут успехи науки (в «Протрептике»
философия трактуется как знание вообще), если она получит поддержку
со стороны государства. Оставаясь в данном произведении еще на позициях
платоновского мировоззрения, Аристотель доводит до крайности платоновский
антагонизм души и тела своим сравнением: душа в теле подобна живому
человеку, связанному с трупом (так этрусские пираты поступали с оставшимися
в живых пленниками).
Трактаты. Сохранившиеся произведения зрелого Аристотеля можно разбить
на восемь групп: логические, общефилософские, физические, биологические,
психологические, этические, политикоэкономические и искусствоведческне
произведения.
Логика — детище Аристотеля. Наука о мышлении и его законах изложена
великим ученым в таких его трактатах, как «Первая аналитика»,
«Вторая аналитика», «Топика», «Опровержение
софизмов», «Категории» (впрочем, есть небезосновательное
мнение, что это не аристотелевское произведение), «Об истолковании».
Позднее логические сочинения Аристотеля были объединены под общим названием
«Органон» («Орудие») .
Умозрительная физика Аристотеля отразилась в таких его сочинениях, как
«Физика», «О небе», «О возникновении и уничтожении»,
«Метеорология» и др. Биология, в целом составлявшая часть
физики, также ведет свое начало с Аристотеля, с его работ: «История
животных», «О частях животных», «О движении животных»,
«О происхождении животных». Аристотелю принадлежит и первый
психологический трактат — сочинение «О душе», к которому примыкают
восемь небольших трактатов.
Велики заслуги Аристотеля в области этики. До нас дошли три этических
сочинения Аристотеля: «Никомахова этика», «Эвдемова этика»,
«Большая этика». «Политика» и «Экономика»
Аристотели составляют группу политико-экономических сочинений. Вопросы
искусствоведения рассмотрены Аристотелем в его «Поэтике».
К ней примыкает «Риторика». Главное собственно философское
произведение Аристотеля — «Метафизика».
«Метафизика». Аристотель никогда не называл свою философию
метафизикой. Вообще во времена Аристотеля этого слова не было. Это неологизм,
возникший, по-видимому, в 1 в. до н. э. Когда Андроник Родосский систематизировал
рукописи Аристотеля, то он поместил собственно философские «книги»
философа после «книг» по физике и, не зная, как их назвать,
обозначил словами: «То, что после физики» («после»
— по-древнегречески «мета»). Так образовалось новое слово
— «метафизика», получившее со временем широкое распространение
в философии.
«Метафизика» Аристотеля — как бы полуфабрикат. Она сложилась
стихийно из разных «книг» и частей «книг». Отсюда
ее неясности, противоречия и повторы. В «Метафизике» четырнадцать
книг. При этом книга V совершенно самостоятельна — это первый в истории
философии словарь философских терминов. Книга XII так же самостоятельна,
как и XIV и частично XIII. Поздняя часть XIII книги — новый вариант
XIV и частично I книг (4-я и 5-я главы XIII книги — прямое переложение
6-й и 9-й глав I книги) . Ранняя часть XI книги предвосхищает содержание
III, IV и VI книг. В целом в «Метафизике» можно различить
ранние и поздние части, а внутри них — основные и побочные. Ранние части
были созданы во второй период («годы странствий»), поздние
— в третий («второй афинский период») . Ранними считаются
I, III и IV книги, поздними и основными — VI, VII и VIII книги, к ним
примыкают IX и Х. Остальные книги — II, V, XI, XII, XIII, XIV — можно
считать побочными. Ядро «Метафизики» — VI, VII и VIII книги,
с них надо начинать изучение этого памятника древнегреческой философии.
Колебания Аристотеля. Философская доктрина Аристотеля в целом трудна
для понимания. Во многом это объясняется плохим состоянием текста, но
также и тем, что сам Аристотель так и не смог ясно решить для себя такие
важные философские проблемы, как взаимоотношение общего и отдельного,
ума и тела, эмпирического и рационального познания. Именно в попытках
решить их Аристотель колебался между «линией Платона» и с
«линией Демокрита».
ЛЕКЦИЯ XXVII
ТЕМА 68. БИОЛОГИЯ АРИСТОТЕЛЯ
Аристотель — основатель биологии как науки. Как астроном, Аристотель
был систематизатором и популяризатором, и притом не наилучшим. Как биолог
он — пионер.
Поскольку мы пишем об Аристотеле как философе, нам важно здесь подчеркнуть
прежде всего философское значение биологических воззрений Аристотеля.
Ведь именно живой организм, а не только человек и его деятельность,
как говорилось выше, был моделью для Аристотеля при построении общей
картины мира. Учение о целевой причине с ее побочным спутником — самопроизвольностью
— смоделировано философом с живого организма так же, как то же самое
учение о той же самой причине с ее побочным спутником — случайностью
— смоделировано с избирающего, принимающего решения человека. Мир же
в целом с его само себя мыслящим мышлением-богом уподоблен Аристотелем
живому организму.
Пропаганда биологии. До Аристотеля биологии чуждались. Звезды были более
уважаемыми объектами, более благородным материалом для наблюдений и
размышлений, чем наполненные слизью и калом живые организмы. Поэтому
не случайно в первой книге «О частях животных» Аристотель
доказывает, что растения и животные для научного исследования представляют
предмет не менее ценный, чем небесные тела, хотя первые преходящи, а
последние, как казалось философу, вечны. Говоря как об астрономии, так
и о биологии, Аристотель провозглашает, что «и то, и другое исследование
имеет свою прелесть» (О частях «кивотных I, 5, с. 49) 1 /Аристотель.
0 частях животных. М., 1937, кн. 1, гл. 5, с. 49./. Более того, окружающий
человека растительно-животный мир дан нам в непосредственном ощущении
в гораздо большей степени, чем небесные тела, так что изучение его —
благодарное дело, ведь о животных и растениях «мы имеем большую
возможность знать, потому что мы вырастаем с ними» (там же) и находимся
с ними же в природном родстве.
Хотя Аристотель и сам ощущал брезгливость и отвращение к внутренностям
животных, ибо в противном случае он не сказал бы, что «нельзя без
большого отвращения смотреть на то, из чего составлен человек, как-то:
на кровь, жилы и подобные части» (I, 5, с. 51), он тем не менее
противопоставлял этому свойственному многим людям и отпугивающему их
от занятий биологией чувству наслаждение познанием, независимо от того,
приятен или нет предмет познания непосредственному чувству человека,
если, конечно, этот человек истинный ученый и тем более философ. Ведь
«наблюдением даже над теми из них, которые неприятны для чувства,-
говорит Аристотель,- создавшая их природа доставляет … невыразимые
наслаждения людям, способным к познанию причин и философам по природе»
(I, 5, с. 50). В познании же причин, как мы видели, Аристотель полагал
суть научного познания и высшее проявление человеческого разума.
При этом Аристотель отмечает, что не может понять, почему созерцание
искусственных изображений произведений природы людям более по вкусу,
чем наблюдение живых оригиналов, которое способно открыть причинную
подоплеку наблюдаемого (что в случае мертвых изображений невозможно).
Это соображение имеет также отношение и к эстетической позиции Аристотеля.
Отметим здесь, что Аристотель отдает предпочтение наблюдению жизни,
эстетическому наслаждению от созерцания ее мертвого отображения в искусстве.
Распространенное же «извращение» Аристотель называет «странным
и противоречащим рассудку».
Следовательно, перед нами апология реального наблюдения живой природы.
Она противоречит вышеотмеченному умозрительному методу физики Аристотеля
и тем более всей его метафизики. Это заставляет задуматься, а не прав
ли немецкий исследователь Иегер, который, пытаясь решить аристотелев
вопрос, исходил из предположения, что развитие взглядов Аристотеля шло
по магистральной линии изживания им платонизма, а потому биологические
работы Аристотеля с их эмпирическим методом завершают творчество философа.
Это соображение подтверждается и тем, что после Аристотеля в его школе
возобладали конкретные и даже эмпирические исследования — прежде всего
ботаника Теофраста и др. Но возражение, что у Аристотеля описаны и упомянуты
по преимуществу те животные, которые обитали в Восточном Средиземноморье,
где философ находился во второй период, а потому собственно Аристотель
начинается с биологических работ, оказавших большое влияние на его учение
о сути бытия (сформулированное на основе модели живого вида), а тем
более на телеологичность его мировоззрения, также, однако, существенно.
Своего апофеоза эмпиризм Аристотеля-биолога достигает в его совете ничем
не пренебрегать при изучении природы: «Не следует ребячески пренебрегать
изучением незначительных животных, ибо в каждом произведении природы
найдется нечто, достойное удивления» (I, 5, с. 50). Аристотель
вспоминает при этом слова Гераклита, обращенные им к прибывшим для встречи
с ним чужеземцам, которые замешкались на пороге его хижины, увидев его
греющимся у слабого очага, смутились от такой жалкой обстановки у столь
великого философа. Заметив их смущение, Гераклит спокойно сказал им,
чтобы они смело входили, «ибо и здесь обитают боги». Эти легендарные
слова великого мыслителя Аристотель применяет ко всем явлениям природы,
пускай, на первый взгляд, самым незначительным вследствие своей малости.
Червяк не менее божествен, чем Сириус.
Здесь Аристотель глубоко прав. Дело не в божественности червяка, а в
том, что самые мельчайшие организмы наиболее могущественны и тот урон,
который все еще наносит людям какая-нибудь ничтожная по своей величине
палочка Коха, несоизмерим по величине с уроном, причиненным людям «царями
природы».
Итак, Аристотель убеждает своих слушателей отказаться от предубеждения
перед изучением живой природы, как низким и недостойным делом (и это
ведь тот же автор, который в «Политике» доказывает, что виртуозность
в искусстве — дело рабов, благородному же достаточно просто хорошо играть,
так как всякая виртуозность порабощает человека). Аристотель говорил
в своих лекциях по биологии: «Надо и к исследованию животных подходить
безо всякого отвращения, так как во всех них содержится нечто природное
и прекрасное» (I, 5, с. 50).
Телеология. Однако не следует закрывать глаза на то, что наш философ
усматривает прекрасное в живой природе не в материи, из которой состоят
живые существа (именно она и вызывает отвращение), а в созерцании целесообразности.
Аристотель потому предпочитает природу искусству, что «в произведениях
природы «ради чего» и прекрасное проявляется еще в большей
мере, чем в произведениях искусства» (I, 1, с. 35), составляя и
в природе «разумное основание» (I, 1, с. 34). Аристотель пошел
таким образом по линии мнимого объяснения явлений живой природы, по
линии открытия мнимых причин. Ведь поиски разумного основания, цели
дает иллюзию познания. Не больше. Конечно, в живом организме, где все
взаимосвязано и где части существуют ради целого, где многое подчинено
единому, все толкает на вопрос: «Ради чего?» Сам по себе вопрос
этот уместен. Однако, застыв на такой позиции, легко скатиться здесь
на видимость объяснения. Впоследствии вульгаризированный аристотелизм
сильно мешал развитию биологической науки, не раз уводя ее в сторону
в поисках мнимых целей.
Определение жизни. Хотя свой принцип целесообразности Аристотель распространяет
на все мироздание, он не гилозоист. Далеко не все тела наделены жизнью.
В своем произведении «О душе» Аристотель пишет, что «из
естественных тел одни наделены жизнью, другие — нет» (II, 1, с.
394) 1 /Аристотель. О душе, кн. II, гл 1, — В кн.: Аристотель. Соч.,
т. 2, с, 394./. И он дает такое определение жизни: «Жизнью мы называем
всякое питание, рост и упадок тела, имеющие основания в нем самом»
(там же).
Происхождение жизни. Этот вопрос надо разделить на два аспекта: философский
(метафизический) и биологический (научный). Все виды живого, будучи
формами, вечны, а потому в метафизическом смысле жизнь не начиналась,
так как в мире на уровне сутей бытия вообще ничего не происходило. С
биологической же точки зрения происхождение жизни вполне возможно, если
под этим понимать осуществление (энтелехию) вида в природе. Для этого
должны быть благоприятные условия. Осуществившись однажды, вид продолжает
сам себя воспроизводить, новая особь возникает из семени старшей. Однако
Аристотель допускал самопроизвольное зарождение из неживого низших видов
живого: червей, молюсков и даже рыб, что в плане метафизики означает,
что форма этих существ может стать энтелехией непосредственно в морском
или в гниющем веществе. Эта ложная теория самопроизвольного зарождения
— продукт ненаблюдательности в отношении того наиболее малого, об изучении
которого ратовал сам Аристотель,- нанесла большой вред биологии, укоренившись
со временем настолько, что с ней с большим трудом распрощались лишь
в прошлом веке, когда опытным путем было доказано, что жизнь всегда
происходит из яйца (что же касается происхождения жизни, то этот вопрос
все еще не решен).
Классификация животных. В области биологии Аристотель — отец прежде
всего зоологии (как Теофраст — ботаники). В зоологических работах Аристотеля
упомянуто и описано более пятисот видов животных — цифра для того времени
громадная. В центре внимания Аристотеля вид, а не особь и не род. Это
сути бытия, формы, первые сущности (по «Метафизике»). Вид
— это то самое минимально общее, которое почти сливается с отдельным,
расползаясь в нем благодаря случайным несущественным признакам, но которое
все же допускает определение как словесное выражение автономной сути
бытия.
Вид более реален, чем составляющие его особи и чем род, в который вид
входит наряду с другими видами, ибо род реально не существует, это гипостазирование
существенных признаков, присущих всем видам рода. В биологии Аристотель
прав. Особи там действительно мало чем отличаются от вида, они все приблизительно
одинаковы. Возможно, что в учении о форме своей первой философии Аристотель
был вдохновлен в этом пункте именно своими биологическими наблюдениями
и знаниями. К сожалению, он и людей приравнял к животным, сведя их к
виду, отказав Сократу в существенных отличиях от Каллия.
Однако Аристотель не остановился на видах. Он стремился включить их
в более общие группы. Всех животных Аристотель поделил на кровеносных
и бескровных, что приблизительно соответствует делению живых существ
современной научной биологией на позвоночных и беспозвоночных. Мы опускаем
здесь дальнейшие детали аристотелевой классификации животных.
Лестница существ. Обобщая факт наличия переходных форм между растениями
и животными, флорой и фауной, Аристотель пишет в сочинении «О частях
животных»: «Природа переходит непрерывно от тел неодушевленных
к животным, через посредство тех, которые живут, но не являются животными»
(IV, 5, с. 13). В «Истории животных» сказано, что природа
постепенно переходит от растений к животным, ведь относительно некоторых
существ, живущих в море, можно усомниться, растения они или животные;
природа так же постепенно переходит от неодушевленных предметов к животным,
потому что растения по сравнению с животными почти неодушевлены, а по
сравнению с неживым одушевлены. Более одушевлены те, в ком больше жизни
и движения, при этом одни отличаются в этом отношении от других на малую
величину.
В XVIII в. швейцарский натуралист Бонне назовет такое восхождение видов
«лестницей существ». Она была понята эволюционистски: более
высокие ступени появились позже во времени, чем более низкие, жизнь
восходила со временем по этим ступеням. Ничего подобного в биологических
воззрениях Аристотеля еще не было. У него все ступени сосуществуют от
века, все формы живой природы вечны и неизменны. Аристотель далек от
эволюционизма. Все же Ч. Дарвин утверждал, что Линней и Кювье были его
богами, но эти «боги» только дети по сравнению со «стариной
Аристотелем». Дарвин высоко ценил Аристотеля как родоначальника
биологии и как такого неэволюциониста, который подготовил эволюционизм
своей идеей градации, иерархизацией форм жизни.
Биологические открытия. С именем Аристотеля связаны также конкретные
биологические научные открытия. Жевательный аппарат морских ежей называется
«Аристотелев фонарь». Философ различил орган и функцию, связав
первый с материальной причиной, а вторую — с формальной и целевой. Аристотель
открыл принцип корреляции в формуле: «Что природа отнимает в одном
месте, то она отдает другим частям». Например, отняв зубы в верхней
челюсти, природа награждает рогами. У Аристотеля имелись и другие открытия.
ТЕМА 69. УЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ О ДУШЕ
Предмет психологии. Учение о душе, по существу, занимает центральное
место в мировоззрении Аристотеля, поскольку душа, по представлению Стагирита,
связана, с одной стороны, с материей, а с другой — богом. Поэтому психология
— и часть физики, и часть теологии (первой философии, метафизики). К
физике относится, однако, не вся душа, а та ее часть, которая не может
существовать, как и физические сущности вообще, отдельно от материи.
Но «физическая» часть души и физические сущности не тождественны,
поэтому не все в природе одушевлено — Аристотель не анимист, так же
как он и не гилозоист. Одушевлено лишь живое, между одушевленностью
и жизнью ставится знак равенства.
Поэтому психология в своей низшей, физической части совпадает по своему
предмету с биологией. Обе науки изучают живое, но по-разному: психология
изучает живое в аспекте целевой и движущей причин, а это и есть душа,
биология же — в аспекте причины формальной и материальной. Аристотель
отдает предпочтение психологии перед биологией, говоря, что «занимающемуся
теоретическим рассмотрением природы следует говорить о душе больше,
чем о материи, поскольку материя скорее является природой через душу,
чем наоборот» (О частях животных I, 1, с. 39).
Определение души. В своем трактате: «О душе» Аристотель определяет
душу в системе понятий своей метафизики — сущности, формы, возможности,
сути бытия, энтелехни. Душой может обладать только естественное, а не
искусственное тело (топор души не имеет). Это естественное тело должно
обладать возможностью жизни. Осуществление (энтелехия) этой возможности
и будет душой. Аристотель говорит здесь, что «душа необходимо есть
сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возможности
жизнью. Сущность же есть энтелехия: стало быть, душа есть энтелехия
такого тела» (II, 1, с. 394) 1 /Аристотель. О душе, кн. II, гл.
1./, или: «Душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего
в возможности жизнью» (там же, с. 395), или: «Душа есть суть
бытия и форма (логос) не такого тела, как топор, а такого стественного
тела, которое в самом себе имеет начало движения и покоя» (там
же). Эти, на первый взгляд, трудные формулировки не должны нас пугать.
Аристотель желает сказать, что душа включается лишь при завершенности
способного к жизни естественного тела. Душа — спутница жизни. Ее наличие
— свидетельство завершенности тела, осуществленности возможности жизни.
Но это значит, что Аристотель понимает жизнь очень широко.
Виды души. Аристотель различает три вида души. Два из них принадлежат
к физической психологии, поскольку они не могут существовать без материи.
Третья метафизична. В своем минимуме душа есть везде, где есть жизнь.
«Отправляясь в своем рассмотрении от исходной точки, мы утверждаем,
что одушевленное отличается от неодушевленного наличием жизни»
(II, 2, с. 396). А чтобы быть живым, достаточно обладать способностью
к питанию, к росту и к закату (естественный цикл живого), т. е. быть
растением. Способность к питанию — критерий растительной души. В своем
же максимуме душа есть там, где есть ум, при этом даже только ум. Таков
бог, о котором, как мы видели, Аристотель говорил, что «жизнь без
сомнения присуща ему, ибо деятельность разума есть жизнь» (Метафизика,
XII, 7, с. 221).
Вообще говоря, чтобы быть живым, достаточно обладать хотя бы одним из
таких признаков, как ум, ощущение, движение и покой в пространстве,
а также движение в смысле питания, упадка и роста. Так, чтобы быть животным,
достаточно чувства осязания: «животное впервые появляется благодаря
ощущению» (О душе, II, 2, с. 397). Способность к осязанию — критерий
наличия животной души, так же как способность к питанию — растительной.
В свою очередь, способность к ощущению (а осязание — его минимум) влечет
за собой удовольствие и неудовольствие, приятное и неприятное, а тсм
самым желание приятного. Кроме того, некоторым живым существам присуща
способность к движению в пространстве. Так как способности к ощущеншо
не может быть без растительной способности, то животные обладают не
только животной, но и растительной душой. Таковы две низшие, «физические»
души. Вторая выше первой и включает ее в себя. Где есть животная душа,
там есть и растительная, но не наоборот. Поэтому животных меньше, чем
растений.
«Наконец, совсем немного существ обладает способностью рассуждения
и размышления». Эти существа распадаются на две группы: люди и
бог. Люди, обладая способностью к рассуждению и размышлению, обладают
как животной, так и растительной душой. Бог, как было уже сказано, обладает
лишь разумной душой. Человек — и растение, и животное. Бог — только
бог. Так образуется лестница живых существ в психологическом аспекте.
В принципе эта лестница непрерывна, но все же она распадается на три
пролета: 1) растительная душа — первая и самая общая способность души,
чье дело — воспроизведение и питание, а воспроизведение — минимальная
причастность к божественному 1 /Здесь слышится мотив платоновского «Пира:»:
«Рождение — это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена
смертному существу» (Платон. Соч. в 3-x т., т. 2, с. 137 — 138)./.
Растения не ощущают, потому что они воспринимают воздействие среды вместе
с материей. Растения не способны отделить от материи форму; 2) животные
отличаются от растений тем, что обладают способностью воспринимать формы
ощущаемого без его материи. Здесь слово «формы» употреблено
не в метафизическом смысле. Это не сущности, не даваемые в ощущениях
и совсем не воспринимаемые животными, а внешние формы, образы отдельных
предметов и явлений, данных в ощущениях и в их синтезе в представлениях.
Такова животная душа; 3) человеческая душа кроме растительного и животного
компонентов обладает также и разумом. В слклу этого она наиболее сложная,
иерархичная, разумная душа (О ней ниже.)
Душа и тело. «Будучи формой, сутью бытия, энтелехпей живого тела,
душа есть «составная сущность». Такая душа от тела неотделима
(II, 1, с. 396). Хотя она сама не тело, но она прпнадлежит телу, которое
не безразлично душе. Душе отнюдь не безразлично, в каком теле она пребывает.
Поэтому Аристотель отвергает орфико-пифагорейско-платоновское учение
о переселениях душ. Со своей стороны, все живые естественные тела —
орудия душн и существуют ради душн как «причины и начало живого
тела» в трех смыслах: «Душа есть причина как то, откуда движение,
как цель и как сущность одушевленных тел» (там же, с. 402). Но
все это относится лишь к растительной и животной душам.
Человеческая, разумная душа. Растительная и животная компоненты человеческой
души неотделимы от тела так же, как луши растений и животных. Ведь «в
большинстве случаев, очевидно, душа ничего не испытывает без тела и
не действует без него, например, при гневе, отваге, желании, вообще
при ощущениях. По-видимому, все состояния душн связаны с телом: негодование,
кротость, страх, сострадание, отвага, а также радость, любовь и отвращение;
вместе с этими состояниями души испытывает нечто и тело» (там же,
с. 373).
Аристотель приводит примеры, доказывающие, что эмоции — функции не только
душн, но и тела. Если тело не придет в возбуждение, то большое несчастье
не вызовет должной эмоции, поэтому люди часто «каменеют»,
дабы защититься от страдания. Итак, делает вывод Аристотель, «состояния
души имеют свою основу в материи» (там же, с. 373 — 374). Так же
и вообще «способность ощущения невозможна без тела» (там же,
с. 434), без которого совершенно невозможна деятельность и растительной
души.
Однако разумная душа — не энтелехия тела. Ведь «ничто не мешает,
чтобы некоторые части душн были отделимы от тела, так как они не энтелехия
какого-либо тела» (там же, с. 396). Таков ум: если способность
ощущения невозможна без тела, то «ум … существует отдельно от
него» (там же, с. 434). Хотя Аристотель и замечает, что относительно
ума и способности к умозрению еще не очевидно, существуют ли они отдельно
и независимо от тела или же нет, но ему все же «кажется, что они
— иной род души и что только эти способности могут существовать отдельно,
как вечное — отдельно от преходящего» (там же, с. 398). Аристотель
не находит убедительного основания для утверждения того, что ум соединен
с телом. Аристотель утверждает, что ум не имеет своего органа. Здесь
он не на высоте для своего времени: ведь пифагореец Алкмеон задолго
до Аристотеля нашел орган мышления в мозге.
ТЕМА 70. АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ
У Аристотеля нет специальных работ по теории познания. Но о познании
он, естественно, говорит везде — и в метафизических, и в физических,
и в логических своих сочинениях, а также в трудах, посвященных этике
и политике.
Вторая сторона основного вопроса философии. Вторая сторона основного
вопроса философии — вопрос о познаваемости мира — не является для Аристотеля
дискуссионным. Читая Аристогеля, В. И. Ленин отмечает, что у Аристотеля
«нет сомнения в объективности познания», что для этого мыслителя
характерна «наивная вера в силу разума, в силу, мощь, объективную
истинность познания» 1 /Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с.
326./. И в самом деле, «Метафизика» открывается словами философа:
«Все люди от природы стремятся к знанию». Любовь к знанию
— любознательность — прирожденное свойство людей, свойственное им и
животным. И эта любовь не бесплодна. Уверенность философа в познаваемости
мира зиждется на убеждении, что мир человека и мир космоса в основе
своей едины, что формы бытия и мышления аналогичиы. Вера Аристотеля
в объективность познания и в силу и мощь разума хорошо просматривается
в той полемике, которую вел Аристотель против тех, в ком можно увидеть
тогдашних, более примитивных субъективных идеалистов и скептиков.
Опровержение скептицизма. В «Метафизике» Аристотель выводит
на сцену анонима, который «ничего не принимает за истинное»
(IV, 4, с. 68). Аристотель высмеивает этого человека с позиции жизни,
подчеркивая, что «на самом деле подобных взглядов не держится никто»,
в том числе и этот человек. В самом деле, спрашивает Аристотель, почему
такой человек идет в Мегару, а не остается в покое, когда думает туда
идти? И почему он прямо утром не направляется в колодезь или в пропасть,
если случится, но очевидным образом проявляет осторожность, так что
он на деле не в одинаковой степени считает для себя падение в пропасть
или в колодезь благоприятным и неблагоприятным?
Значит, такой человек понимает, что одно для него лучше, а другое хуже.
Отсюда Аристотель делает вывод, что не все в одинаковой мере истинно.
Есть более и менее истинное. Ведь не в одинаковой мере заблуждается
тот, кто принимает четыре за пять, и тот, кто принимает четыре за тысячу.
Не все одинаково неистинно. А отсюда следует, что тезис, что ничего
нет истинного в том смысле, что все одинаково ложно, опровергнут, а
вместе с тем опровергнут и тот, кто «ничего не принимает за истинное».
Оборотной стороной этого тезиса является противоположный тезис, что,
все истинно. Этот тезис уже не анонимен. Аристотель связывает его с
именем Протагора. С падением первого тезиса падает и второй.
Конечно, двум людям об одном и том же предмете может показаться прямо
противоположное. Но это противоречит тому, что мы выше назвали основным
законом бытия. Это противоречит и жизни. Нельзя жить, не зная, что это:
человек или не-человек. Аристотель обращается, таким образом, к непосредственной
практике людей, с одной стороны, а с другой, он использует свой закон
бытия (и мышления), запрещающий приписывать предмету противоположные,
а тех. более противоречивые свойства, поскольку в объективной действительности
актуально такого не может быть.
Опровержение субъективного идеализма. У Аристотеля нет, разумеется,
ни термина «скептицизм», ни тем более термина «субъективный
идеализм», хотя, по существу, он о них знает.
Субъективный идеализм берет, как известно, за основу существующего ощущение,
представление, сознание отдельпогэ индивида, субъекта, отрицая, что
за ощущения Iи находятся реальные, независимые от человека предметы,
которые действуют на наши органы чувств и вызывают в нас определенные
ощушения. Начало такой гносеологпчсской позиции было положено в античности.
Мы отмечали элементы субъективного идеализма у киренаиков. Однако у
Аристотеля эта концепция представлена анонимно, суть ее в учении о том,
что «существует только чувственно воспришплаемое бытие», поэтому
при отсутствии одушевленных существ ничто не существует. Аристотель
выражает свое отношение к этому учению так: «Вообще, если существует
только чувственно воспринпмаемое быгие, тогда при отсутствии одушевленных
существ не существовало бы ничего (вообще), иоо тогда не было бы чувственного
восприятия», с чем автор согласен, возражая далее по существу:
если верно, что чувственные представления невозможны без одушевленных
существ, то неверно, что отсутствие одушевленных существ и чувственно
воспринимаемого бытия влечет за собой отсутствие вызывающих чувственное
воспрпятие предметов. Аристотель продолжает: «Но чтобы не существовали
те лежащие в основе предметы, которые вызывают чувственное восприятие,
хотя бы самого восприятия и не было,- это невозможно» (Метаф. IV,
5, с. 72 — 73). Тем самым, отстаивая «объективность познания»
(В. И. Ленин), Аристотель утверждает, что предметы, вызывающие чувственное
восприятие, существуют объективно, независимо от субъекта.
Трудность познания. Однако истинное познание трудно, ибо сущность как
предмет познания скрыта. Аристотель различает более явное и известное
для нас и более явное и известное с точки зрения природы ве.цей (Физика
I, 2, с. 5). Первое — это тот мир, который дается нам в чувственном
восприятии, а второе — сути бытия и причины (формы) отдельных вещей
и тем более первоначала и первопричины. Они-то наиболее трудны для познания
— «наиболее трудны для человеческого познания (но не для бога.
— А. Ч.) … начала наиболее общие», потому что «они дальше
от чувственного восприятия». Однако, будучи распознанными, они
познаны максимально. Ведь то, что дальше от чувственного восприятия,
то лучше воспринимается мыслью.
Основная проблема гносеологии. Здесь перед нами снова та проблема, о
которой мы говорили, выясняя, почему в метафизике Аристотеля уровня
бытия единичных, отдельных предметов недостаточно, ибо знание возможно
только об общем. Такое знание должно иметь свой предмет — уровень сутей.
Не ясно, однако, как возможно познание, еели наука познает только общее,
а в полном смысле слова существует только отдельное, единичное? Как
говорит сам Аристотель, «ведь только при посредстве всеобщего можно
достигнуть знания, а с другой стороны, отделение (всеобщего от отдельного.
— А. Ч.) приводит к тем трудностям, которые получаются в отношении идей»
(Метаф. XIII, 9, с. 237). «Значит, пропасть между наукой и реальностью?
Значит, бытие и мышление несоизмеримы?» — формулирует В. И. Ленин
основную проблему гносеологии Аристотеля. Отметив уверенность Аристотеля
в познаваемости мира, В. И. Ленин продолжает: «И наивная запутанность,
беспомощно-жалкая запутанность в диалектике общего и отдельного — понятия
и чувственно воспринимаемой реальности отдельного предмета, вещи, явления»
1 /Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 326./. Действительно, в своей
гносеологии Аристотель колеблется между сенсуализмом и рационализмом,
так и не будучи в состоянии однозначно определить соотношение того,
что мы называем чувственной и рациональной ступенями познания. Аристотель,
конечно, заведомо не противопоставляет чувственное и разумное, как это
делали Парменид и Платон. Он стремится к единству чувства и разума,
но не может его обрести. Вопрос об отношении чувственной и рациональной
ступеней познания — это третья, после вопросов об отношении общего и
единичного, ума и тела, проблема, которую Аристотель не в состоянии
разрешить.
Сенсуализм и эмпиризм Аристотеля. Виды знания. Линия сенсуализма выражена
в философии Аристотеля довольно сйльно. В самом начале «Метафизики»
Аристотель описывает восхождение познающего субъекта от чувственного
восприятия к познанию принципов. Всякое познание начинается с чувственного
восприятия, со ступени, общей человеку с животными. Аристотель здесь
высоко оценивает чувственные восприятия, ведь они «составляют самые
главные наши знания об индивидуальных вещах» (I, 1, с. 20), Вторая
ступень — ступень опыта (эмпейриа), общая человеку и некоторым, хотя
уже не всем, животным. Опыт возможен благодаря повторяемости чувственных
восприятий и накоплению их в памяти. Аристотель так определяет опыт:
это «ряд воспоминаний об одном и том же предмете» (I, 1, с.
19).
Как и первая ступень — чувственные восприятия, вторая ступень — опыт
дает нам «знание индивидуальных вещей» (I, 1, с. 20), Аристотель
высоко оценивает ступень опыта. Он говорит, что тот, «кто владеет
понятием, а опыта не имеет и общее познает, а заключенного в нем индивидуального
не ведает, такой человек часто ошибается» (там же). Итак, ступень
чувственного восприятия и ступень опыта дают знание индивидуального,
с чем Аристотель связывает действенность знания: «При всяком действии
… дело идет об индивидуальной вещи: ведь врачующий излечивает не человека…
а Каллия» (там же).
Следующая ступень восхождения к знанию — ступень «искусства»
(технэ). Это не изобразительное и не изящное искусство, а особая ступень
познания, имеющая основу в практике, ибо «искусство» возникает
на основе опыта («опыт — создал искусство»). Если опыт — знание
индивидуальных вещей, то «искусство» — знание общего и причин.
Владеющие «искусством» люди являются более мудрыми, чем люди
опыта, потому что «они владеют понятием и знают причины» (там
же).
Наконец, следует ступень наук, высшая из которых философия, чей предмет
в аристотелевском понимании нам уже известен. Науки отличаются от «искусств»
не по гносеологическому, а по социальному признаку, о нем будет сказано
ниже.
Эмпирическая тендепцпя присуща и другим работам Аристотеля. В «Первой
аналитике» сказано, что «делом опыта является найти начала
каждого [явления]. Например, я говорю, что астрономический опыт должен
дать [начало] астрономической науке» (I, 30, с. 88). Во «Второй
аналитике» Аристотель подчеркивает, что «общее нельзя рассматривать
без посредства индукции … Но индукция невозможна без чувственного
восприятия» (I, 18, с. 217 — 218), что «из многократности
отдельного становится очевидным общее» (I, 32, с. 242). Эти примеры
эмпирической линии можно продолжить. Создается впечатление, что, по
убеждению Аристотеля, все знание происходит из чувств. Аристотель не
только подчеркивает роль чувственного восприятия и опыта в познании,
но и пытается постпчь его механизм.
Механизм чувственной ступени познания. В сочинении «О душе»
обстоятельно рассматриваются чувства как достояние животной души, а
также их роль в познании. Все животные обладают чувствами, по крайней
мере чувством осязания. Аристотель подробно рассматривает вопросы осязания,
обоняния, вкуса, слуха, зрения, определяет их роль в познании. Наиболее
важно для нас здесь понять, как Аристотель представляет себе чувственное
восприе.
Выше мы этого уже коснулись, говоря, что растения не ощущают, потому
что они воспринимают воздействие среды вместе с материей и не способны
отделить от материи форму, тогда как животные отличаются от растения
тем, что они обладают способностью воспринимать формы ощущаемого без
материи. Было отмечено, что под формами здесь следует иметь в виду не
метафизические сушности первой философии, а внешние, чувственные формы.
Говоря о восприятии этих форм, Аристотель делает знаменательное сравнение:
«Относительно любого чувства необходимо вообще признать, что оно
есть то, что способно воспринимать формы ощущаемого без его материи,
подобно тому как воск принимает отпечаток перстня без железа или золота»
(О душе II, 12, с. 421).
В. И. Ленин высоко ценил это место из Аристотеля. В данном сравнении
философа он видел проявление его материалистической тенденции в гносеологии.
В. И. Ленин отмечает, что это знаменитое «сравнение души с воском
заставляет Гегеля вертеться, как черт перед заутреней, и кричать о «недоразумении,
часто порождаемом» этим (местом. — А. Ч.)» 1 /Ленин В. И.
Полн. собр, соч., т. 29, с. 260./.
Действительно, у Аристотеля мы читаем, что «каждый орган чувств
воспринимает свой предмет без материи» (III, 2, с. 425). Это означает,
что чувственное восприятие дает нам копию предметов, как они существуют
вне сознания, но такая копия не материальна. Поэтому «орган чувства
тождествен со способностью ощущения, но существо его иное, ведь иначе
ощущение было бы пространственной величиной» (II, 12, с. 422).
Чувственное знание адекватно и объективно. Благодаря ему мы воспринимаем
различные свойства тел, особые свойства. Зрение дает нам восприятие
цветов и т. п. Но есть общие свойства — величина, чпсло, единство, движение,
покой,- которые восприппма)отся всеми органами чувств, особого органа
для их восприятия нет.
Проблема вторичных качеств у Аристотеля. Она была поставлена еще Демокритом,
пришедшим к выводу, что вторичные качества субъективны в том смысле,
что в объекте им соответствуют не качества самих атомов, а те или иные
их формы и комбинации.
Аристотель решает эту проблему по-своему, В одном отношении верно, что
нет вкусовых ощущений без вкуса, что нет черного и белого без зрения,
но в другом отношении это неверно. Аристотель прибегает к своему обычному
приему различения потенциального и актуального. Черное сушествует независимо
от восприятия его органом зрения, но существует потенциально. Акт зрения
переводит потенциально черное в актуально черное. Это же относится ко
всем чувственным качествам. Мед лишь потенциально сладок, акгуально
сладким он становится лишь тогда, когда мы его едим, и т. п. (III, 2,
с. 426 — 427) .
Принижение чувственного знания. Однако, хотя только чувства дают адекватное
знание единичного, позпаваемого только ими, чувственное знание принижено
у Аристотеля. Он говорит, что «чувственное восприятие общо всем,
а потому это — вещь легкая, и мудрости [в нем] нет никакой» (Метаф.
I, 2, с. 21). То, что без чувственного восприятия невозможно конкретное
действие, в данном контексте для него не существенно.
Аристотель совершенно не понимает трудности чувственного восприятия
мира, коль скоро это восприятие должно стать основой науки. Умение наблюдать
природу, разработка специальных методов наблюдения, установление типичных
ошибок, обработка результатов наблюдения — все это проходит мимо Аристотеля.
А между тем трудности нет в случайном, обыденном, хаотическом чувственном
восприятии, но систематическое и методическое восприятие мира, не говоря
уже об опыте как эксперименте (а не просто о наслаивании чувственных
восприятий друг на друга), — все это исключительно трудно, и с этого
начинается подлинная эмпирпческая наука. Античность такой науки не знала
или почти не знала. Для Аристотеля единичное хаотично. йаука познать
его не может. Ведь «всякая наука имеет своим предметом то, что
существует вечно или в большинстве случаев» (ХI, 8, с. 193). По
Аристотелю, «предмет науки — необходимое» 1 /Аристотель. Этика/Пер.
с греч. Э. Радлова. СПб., 1908, кн. Vl, гл. 1, с. 109./. Наука познает
общее.
Рацианализм. Но как возникает знание общего? Конечно, если абсолютизировать
сеисуалистическую тенденцию Аристотеля, можно сказать, что знание общего
вляется обобщением знания единичного, возникая как результат абстрагизирующей
работы мышления. Но для Аристотеля характерно мнение, что знание общего
не появляется из знания единичного, а лишь выявляется благодаря такому
знанию. Само же по себе знание общего заложено в разумной душе потенциально.
Разумная душа. Как уже отмечалось, третий вид души — разумная душа —
присуща человеку (и богу). Она независима от тела ибо мышление вечно:
«Что касается ума, то он … не разрушается… Ум же есть, пожалуй,
нечто более божественное и ничему не подверженное» (О душе I, 4,
с. 386). Это теоретический, созерцательньш ум.
Философ проводит деление ума по аналогии с делением бытия на материю
и формы, различая пассивный, воспринимающий ум (он соответствует материи)
и активный, созидающий ум (он соответствует форме). Аристотель не останавливается
перед тем, чтобы придать активному уму вообще независимое ни от чего
сушествование: «И этот ум сущсствует отдельно и не подзержен ничему,
он ни с чем не смешан, будучи по caoеи сущности деятельностью… этот
ум не таков, что он иногда мыслит, иногда не мыслит. Только существуя
отдельно, он есть то, что он есть, и только это бессмертно и вечно»
(III, 5, с. 426).
Однако такой автономный разум присущ, по-видимомм, лишь богу. Человеку
же доступен не столько этот активный, все производящий, созидающий разум,
сколько ум пассивный, воспринимающий. Зтот ум преходящ и без активного
разума ничего не может мыслить. Он пассивен, потенциален, потому что
может, все познавая, становиться всем. Этот ум претерпевает воздействие
извне. А становится он всем потому, что в нем потенциально заложены
все формы бытия. Когда Аристотель говорит, что мыслящая часть души —
это местонахождение форм (III, 4, с. 433 — 434) и что «ум — форма
форм» (III, 8, с. 440), то он имеет в виду, по-видимому, не столько
активный, все из себя созидающпй разум, сколько ум пассивный, восприпимающий.
В последнем заложено знание общего в возможности, возможность знания
общего. Для того чтобы она стала его действительностью, т. е. для того,
чтобы заложенные в душе формы актуализировались, необходимы как активность
создания (активный разум), так и воздействие на душу объективного мира
через чувства.
В аристотелевском сочинении «О душе» имеется такое замечательное
место: «Существо, не имеющее ощущений, ничему не научится и ничего
не поймет. Кгда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали
в представлениях» (III, 8, с. 440). Это означает, что реальное
познание невозможно без чувственной ступени познания. Человек познает
общее лишь посредством соответствующих представлений. Но представления
не перерабатываются в понятия, а только способствуют тому, чтобы заложенные
в душе формы бытия перешли из состояния потенции в состояние акта. Перехода
же от представления к понятию у Аристотеля нет. Поэтому В. И. Ленин
подчеркивал, что у Аристотеля наблюдается скачок от общего в природе
к душе.
Троякое существование форм. Итак, формы существуют трояко: в боге актуально
и без материи, в природе актуально и в материи, в душе потенциально
и без материи.
Торжество рационализма. Чтобы перевести знание общего пз состояния потенции
в состояние энтелехии ,осуществленности, нужен разум во всем его объеме,
как пассивный (рассудок), так и активный. Но предпочтение Аристотель
отдает активному разуму. У человека знание в возможности предшествует
знанию в действительности. В боге же напротив — там активный разум возник
раньше пассивного, да собственно говоря, бог — это активный разум. Таким
образом, у Аристотеля побеждает рационалистическая линия: знание существует
до процесса познания.
ЛЕКЦИЯ XXIX
ТЕМА 73. ЭТИКА АРИСТОТЕЛЯ
Практические науки — этику и тесно связанную с ней политику — философ
отличал от теоретических, созерцательных. Практические науки — это науки
о деятельности, о действовании («праксис»), связанном со свободным
выбором, совершаемым ответственным за свои поступки человеком. Цель
действоваиия — деятельность самого действующего субъекта. Это «философия,
касающаяся человека» (Ник. этика Х, 10, с. 206) 1 /Аристстотель.
Этика. СПб., 1908, кн. Х, гл. 10, с. 206./.
Практические науки надо отличать от творческих наук, направленных на
производство («пойэсис»), имеющих своей целью объект, который
должен быть создан. Поэтому Аристотель понимает практику по-своему,
в гораздо более узком смысле, чем мы. Практика в нашем понимании как
раз и включает прежде всего производственную деятельность людей. На
понимании Аристотелем практики сказалось античное рабовладельческое
мировоззрение с его презрением к физическому труду. Ведь когда Аристотель
говорит о производстве (пойэсис), то он и тогда ограничивается исключительно
искусством. К материальному производству он равнодушен.
Произвольное и непроизвольное. Поскольку практические науки имеют дело
с этико-политической деятельностью людей, а это сфера свободного выбора,
то Аристотель внимательно рассматривает «произвольное» и «непроизвольное».
Непроизвольно то, что совершается по насилию или незнанию, когда принцип
насильственного действия лежит вне действующего лица. Произвольные действия
— «те, принцип коих находится в самом действующем лице и которые
совершаются, когда все обстоятельства, касающиеся какого-либо действия,
известны действующему лицу» (III, 2, с. 41). Аристотель утверждает,
что от человека зависит многое, если не все, ведь «в нашей власти
быть нравственными или порочными людьми» (III, 7, с. 47). Каково
бы ни было насилие, смешно обвинить внешние условия, а не себя, совершая
некоторые преступления, например убийство своих родителей.
Нравственность — приобретенное качество души. Мысль о том, что человек
делает себя сам, Аристотель развивает в своем учении о нравственности
как приобретенном качестве души. Согласно философу, «добродетель
не дается нам от природы» (II, 1, с. 23), от природы нам дана лишь
возможность приобрести ее. Аристотель определяет добродетель как «похвальные
приобретенные свойства души» (I, 13) .
Структура души и виды добродетели. Свою этику Аристотель основывает
на психологии, на известном нам уже делении человеческой души на три
части. Это деление философ повторяет и развивает и в своей работе «Этика».
Человеческая душа делится на неразумную и разумную части. Последняя
часть души, в свою очередь, распадается на рассудок и собственно разум,
иначе говоря, на разум практический и тео етический. Теоретический и
практический разум характеризуется и в трактате «О душе».
Там сказано, что «созерцательный», или «созерцаюощий
ум» «не мыслит ничего относяшегося к деятельности и не говорит
о том, чего следует избегать или добиваться» (III, 9, с. 442),
тогда как практический ум «от созерцающего ума отличается своей
направленностью к цели» (III, 10, с. 422), это «ум, размышляющий
о цели, то есть направлепный на деятельность» (там же, с. 442).
Неразумная часть душн разделена в «Этике» на растительную
(питательную) и страстную, стремящуюся, аффективную. Что касается растительной
души, то там нет ни добродетелеи, ни пороков. Страстная и разумная части
имеют как свои добродетели, так и свои пороки. У разумной душн имеются
свои дианоэтические, или интеллектуальные, добродетели и свои дианоэтические
пороки. Дианоэтические добродетели — это мудрость, разумность, благоразумие,
а пороки — противоположные им состояния духа.
Страстная часть души и практический разум берутся Аристотелем в единстве.
Их добродетели — добродетели поведения, нрава, этические добродетели.
Душа этически добродетельна в той мере, в какой практический разум овладевает
аффектами. Как дианоэтические, так и этические добродетели даны человеку
не от природы, от природы дана лишь возможность их. Дианоэтические добродетели
приобретаются путем обучения, а этические — путем. воспитания. Поэтому
«всякий,- сказано у Аристотеля,- в известном отношении виновник
собственного характера» (III, 7, с. 49). Интересно, что философ
рассматривает в этическом разрезе не только поведение человека, но и
его интересы. Лишь тот человек. полностью добродетелен, кто стремится
к мудрости, т. е. философ. Стремление к высшим ценностям, надо полагать,
считал Аристотель, возвышает душу и отвлекает ее от пороков, заставляя
быть и этически добродетельной.
Этические добродетели опрелеляются философом клк «середина двух
пороков» (II, 9, с. Зб). Например, недсстаток мужества — это трусость,
избыток же мужества — тоже порок, ибо это безумная отважность. Но так
как она встречается редко, то люди привыкли противопоставлять мужеству
лишь трусость. Итак, этические добродетели — это мудрая середина между
крайностями. Так, щедрость — серелина между скупостью и мотовством.
Достижение добродетели и роль знания. В этом вопросе Apистотель справедливо
оспаривает мнение Сократа о том, что якобы «никто, обладая знанием,
не станет противодействовать добру» (VII, 1, с. 123). Этот тезис
Сократа противоречит очевидности. Ведь одно дело иметь знание о добре
и зле, а другое — уметь или хотеть эти знанием пользоваться.
Знание и действие не одно и то же, знание носит общий характер, действие
же всегда частно. Знание того, что мужество — середина между двумя пороками,
еще не дает, умения находить эту середину в жизни. Добродетели — не
качества разума, делает вывод философ в полемике с мнением Сократа,
они всего лишь сопряжены с разумом. Главное в приобретении этических
добродетелей характера не само знание, а воспитание, привычка. Этические
добродетели достигаются путем воспитания хороших привычек. Совершая
храбрые поступки, человек привыкает быть мужественным, привыкая же трусить
— трусом. Дело воспитателей и государства прививать добродетели. Законодатели
должны приучать граждан быть не только хорошими, но и храбрыми.
Большую роль играет здесь пример. Нравственный человек — мера для других
людей. Психологически-этическая нравственность означает повиновение
страстной части души практическому разуму. Добродетель — сама себе награда.
Порочных людей одна часть души влечет в одну сторону, другая — в другую,
в их душах постоянное возбуждение, их гнетет раскаяние. Нравственный
человек всегда в гармонии с самим собой. Он не знает укоров совести.
Практичность. Собственная добродетель практической части разумной души
— практичность и как ее оборотная сторона — рассудительность: практичность
приказывает, а рассудительность критикует. Аристотель определяет практичность
как «разумно приобретенное душевное свойство, осуществляющее людское
благо» (VI, 5, с. 112). Практичен тот, кто способен хорошо взвешивать
обстоятельства и верно рассчитывать средства для достижения ведущих
к благополучию целей. Для практичности необходим опыт. Для практичности
необходима изобретательиость в подыскании средств осуществления целей.
Но изобретательность, предостерегает философ, похвальна лишь при хороших
целях. В противном случае практический человек опасен для общества.
Практичные люди годны для управления домом и государством, а потому
практичность тесно связана и с экономикой, и с политикой. Отсюда такие
виды практичности, как экономическая, законодательная, политическая.
Вместе с тем Аристотель подчеркивает, что практичность как дианоэтическая
добродетель рассудочной, практической, низшей части разумной души сама
является низшим видом моральной позиции человека. Практичиость погружена
в дела людей, но человек — не лучшее, что есть в мире, поэтому «нелепо
считать политику и практичность высшим» (VI, 7, с. 113). Практическая
деятельность «лишена покоя, стремится всегда к известной цели и
желательна не ради ее самой» (Х, 7, с. 198). Выше практичности
с ее рассудительностью и изобретательностью Аристотель ставит мудрость
как добродетель теоретической части разумной души.
Разумная часть разумной души и высшее блаженство. Эта часть души направлена
на созерцание неизменных принципов бытия, т. е. метафизических сущностей.
Добродетель разумной, теоретической части разумной души состоит в мудрости.
Мудрость выше практичности. Предмет мудрости — необходимое и вечное
(не то, что преходящий мир политика-практика). В «Этике» дается
определение науки. Это «схватывание общего и того, что существует
по необходимости» (VI, б, с. 112). Мудрость, наука, высшая дианоэтическая
добродетель так же приобретаема, как и все другое. В этом плане Аристотель
определяет науку как «прпобретенную способность души к доказательствам»
(VI, 3, с. 110). Только мудрость и наука способны принести высшее блаженство.
При этом Аристотель понимает мудрость и науку как чисто созерцательную
деятельность, это апофеоз отрыва теории от практики, что характерно
для развитых античных учений. «Этика» Аристотеля заканчивается
восхвалепием истинного блаженства чисто созерцательной, антипрактической
жизни философа-мудреца. Он подобен в этом отношении богу, которого Аристотель
превращает теперь в созерцающего философа, ведь «деятельность божества,
будучи самою блаженною,- говорит Аристотель,- есть созерцательная деятельность».
Поэтому, продолжает философ, «из людских деятельностей наиболее
блаженна та, которая родственнее всего божественной». Итак, делает
вывод Аристотель, «блаженство простирается так же далеко, как и
созерцание; и чем в каком-либо существе более созерцания, тем в нем
и более блаженства» (Х, 8, с. 21) .
Связь зтики и политики. Эта связь органическая. Ведь, как уже отмечалось,
добродетель — продукт воспитания, что является делом государства и хорошего
законодательства, ведь «законодатели должны привлекать к добродетели
и побуждать граждан к прекрасному» (Х, 10, с. 203).
ТЕМА 74. ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ АРИСТОТЕЛЯ
Политическое учение Аристотеля изложено им главным образом в его работе
«Политика», примыкающей к «Этике». Но в известием
смысле «Политпка» уже по своему предмету, уем «Этика».
«Политика» развивает лишь одну тему «Зтики» — тему
практического разума, политической практичности и рассудительности.
Аристотель чувствует, что государство все же ограничено в своих воспитательных
возможностях, в его ведении находятся скорее этические, чем диаиоэтические
добродетели. Поэтому в «Политике» Аристотель говорит лишь
об этических добродетелях и о таких дианоэтических, которые связаны
лишь с практическим разумом. В качестве таковых Аристотель выделяет
мужество, благоразумие, справедливость и рассудительность.
Эти добродетели — условие счастья. Ведь «никто не назовет счастливым
того, в ком нет ни мужества, на благоразумия, ни справедливости, ни
рассудительности, кто, напротив, страшится всякой мимолетной мухи, кто,
томимый голодом или жаждою, не останавливается ни перед каким из самых
крайних средств, кто из-за четверти обола губит самых близких друзей,
кто наконец, так не рассудптелен и так способен на ошибки, как будто
ребенок или безумный» 1 /Аристотель Политика. СПб., 1865, кн. IV,
гл. 1, с. 145 — 146./. Аристотель отмечает, что «добродетель не
вредит тому, в ком она пребывает» (III, 6, с. 118), что «без
добродетели человек становится самым нечестивым и самым диким существом,
а в отношении к половому наслажденшо и пище он хуже тогда всякого животного»
(I, 1, с. 8). Ведь «от прочих животных человек отличается тем,
что имеет сознание о добре и зле, о справедливом и несправедливом (I,
1, с. 7).
Аристотель понимает справедливость как оощее благо. Достижению общего
блага и должна служить политика, это ее главная цель. Достичь этой цели
нелегко. Политик должен учитывать, что человек подвержен страстям и
что человеческая природа испорчена. Поэтому политик не должен ставить
своей целью воспитание нравственно совершенных граждан, достаточно,
чтобы все граждане обладали добродетелью гражданина — умением повиноваться
властям и законам.
Такова программа-минимум «Политики» Аристотеля, которая сильно
отличается от той заявки, которую мы находим в «Этике». Программа-максимум
распространяется Аристотелем лишь на правителей: для умения властвовать
необходима не только добродетель гражданина, но и добродетель человека,
ибо власть имущий должен быть нравственно совершенным.
Метод политики как науки. Метод политики как науки у Аристотеля — метод
анализа, ведь «каждое дело должно исследовать в его основных самомалейших
частях» (1, 2, с. 8), что применительно к политике означает анализ
государства, выяснение, из каких элементов оно состоит. Необходимо также
исследовать реально существующие формы политического устройства и созданные
философами социальные проекты, интересуясь при этом не только абсолютно
наилучшими формами государственного устройства, но и лучшими из возможных.
Оправданием такого исследования является, как подчеркивает Аристотель,
несовершенство существующих форм политического быта.
Государство и его состав. Аристотель определяет государство как «форму
общежития граждан, пользующихся известным политическим устройством»
(III, 1, с. 100), политическое же устройство — как «порядок, который
лежит в основании распределения государственных властей» (VI, 1,
с. 217). Политическое устройство предполагает власть закона, определяемого
философом как «бесстрастный разум», как «те основания,
по которнм властвующие должны властвовать и защищать данную форму государственного
быта против тех, кто ее нарушает» (VI, 1, с. 217).
Аристотель различает в политичсском устройстве три части: законодательную,
административную и судебную. Говоря о составе государства, Аристотель
подчеркивает его многочастность и неподобие частей друг другу, различие
составляющих его людей — «из людей одинаковых государство образоваться
не может» (II, 1, с. 39), а также различие семей в государстве.
Но главное в государстве — это гражданин. Государство состоит именно
из граждан. Отмечая, что каядое политическое устройство имеет свое понятие
о гражданине, сам Аристотель определяет гражданина как того, кто участвует
в суде и в управлении, называя это «абсолютным понятпем гражданина»
(III, 1, с. 95). Аристотель этим, по-видимому, желает сказать, что оно
истинно для всех полптических устройств, разница между ними не столько
в понятии гражданина, сколько в том, какие слои населения допускаются
там до суда и управления. Кроме того, граждане несут военную службу
и служат богам. Итак, граждане — это те, кто исполняет воинскую, административную,
судейскую и жреческую фуикции.
Происхождение государства. Аристотель пытается подойти к государству
исторически. Но, будучи идеалистом, он неспособен понять причины возникновения
государства, ограничиваясь лишь внешним описанием его «формирования.
Государство, будучи формой общежития граждан,- не единственная его форма.
Другие формы — семья и селение. Они предшествуют государству, которое
по отношеншо к ним выступает как их цель. Государство — энтелехия семьи
и селения, энтелехия человека как гражданина. Аристотель определяет
человека как по своей природе политическое существо. Об этом он говорит
дважды: в «Этике» (I, 5, с. 10) и в «Политике» (I,
1, с. 6 — 7).
Больше Аристотель ничего не может сказать о стимулах создания государства,
для него государство существует естественно. Это означает, что философ
не может найти специфические законы общественного развития, он даже
не подозревает об их существовании. Историзм Аристотеля мнимый. Говоря
о семье, предшествующей образованию государства, философ знает лишь
семью развитого рабовладельческого общества, о которой он неисторически
мыслит, считая, что это «первая естественная форма общежития, неизменявшаяся
во все времена человеческого существования» (I, 1, с. 4).
Действительно, семья в изображешш Аристотеля непременно имеет три двойные
части и соответствующие им три формы отношений, «первые и самомалейшие
части семьи суть: господин и раб, муж и жена, отец и дети» (I,
2, с. 8), а потому «в семье имеют место отношения троякого рода:
господские, супружеские и родительские» (I, 2, с. 9). В соответствии
с этим Аристотель различает в семье власть господскую и власть домохозяина,
первая власть — власть над рабами, вторая — над женой и детьми. Первая
простирается на предметы, необходимые для жизни, на рабов в том числе,
вторая имеет в виду пользу семьи, жены, детей. Власть домохозяина —
своего рода монархическая власть. Власть жены в семье протпвоестественна:
«где природные отношения не извращены, там преимущество власти
принадлежит мужчине, а не женщине» (I, 5, с. 32). Аристотель с
одобрением приводит в своей «Политике» слова Софокла: «Молчание
придает женшине красоту» (Аякс, стих 29). В таком отношении к женщине
сказалось ее приниженное положение в Аттике, в Афинах, где женщины были
совершенно выключены из культуры, образования, общественных дел и политики.
Далее в своем историческом экскурсе Аристотель неправильно считает,
что несколько семей со временем ооразувт селение. На самом деле, как
известно, индивидуальные семьи выделяются из первобытной общины, из
групповых семей. У Аристотеля же сение — разросшаяся семья, интересы
которой уже превосходят обыденные нужды. Из нескольких селений как их
энтелехия возникает государство. Аристотель описал здесь внешний процесс.
Афины действительно сложились из нескольких селений, в каждом из которых
поклонялись своей Афине. Отсюда и множественное число в названии центра
Аттики. Однако это лишь внешняя сторона дела. Аристотель в силу своей
классовой и исторической ограниченности не смог глубоко взглянуть на
суть процесса генезиса государства. Неверно представляет он себе и природу
государственной власти. Для него власть в государстве — это продолжение
власти главы семьи.
Такова патриархальная теория происхождения государства Аристотеля. А
так как власть домохозяина по отношешпо к жене и детям, как отмечалось,
монархическая, то и первой формой политического устройства была патриархальная
монархия.
Формы политического устройства, их классификация. Однако патриархальная
монархия — не единственная форма политического устройства. Таких форм
много. Ведь всякое государство — сложное целое, состоящее из неподобных
частей со своими представлениями о счастье и средствах его достижения,
причем каждая из частей государства рвется к власти, дабы установить
собственную форму правления. Разнообразны и сами народы. Одни поддаются
только деспотической власти, другие могут жить и при царской, а для
иных нужна и свободная политическая жизнь, гoворит философ, имея в виду
под последними народами только греков. При изменешш политического устройства
люди остаются теми же самыми. Аристотель не понимает, что человек не
внеисторическое явление, а совокупность всех общественных отношений,
продукт своей эпохи и своего класса.
Классифицируя виды политического устройства, философ делит их по количественному,
качественному и имущественному признакам. Государства различаются прежде
всего тем, в чьих руках власть — у одного лица, у меньшинства или у
большинства. Таков количественный критерий. Однако и одно лицо, и меньшинство,
и большинство могут править «правильно» и «неправильно».
Таков качественный критерий, Кроме того, меньшинство и большинство может
быть богатым и бедным. Но так как обычно бедные в большинстве, а богатые
в меньшинстве, то деление по имущественному признаку совпадает с количественным
делением. Поэтому получается всего шесть форм политических устройств:
три правильных — царство, аристократия и полития; три неправильных —
тирания, олигархия и демократия.
Монархия — древнейшая форма политического устройства, первая и самая
божественная форма, особенно абсолютная монархия, которая допустима
при наличии в государстве превосходнейшего человека. Аристотель здесь,
в сущности, говторяет взгляды софиста Калликла. Аристотель утверждает,
что человек, превосходячий всех людей, как бы поднимается над законом,
он бог между людьми, он сам закон и пытаться подчинить его закону смешно.
Выступая против остракизма, обычно применяемого в античных демократиях
против таких людей как средство противотиранической защиты, Аристотель
утверждает, что «такие люди в государствах (если они, конечно,
окажутся, что случается редко. — А. Ч.) суть вечные цари их» (III,
8, с. 131), что если такой человек окажется в государстве, то «остается
только повиноваться такому человеку».
Однако в целом аристократия предпочтительнее монархии, ибо при аристократии
власть находится в руках немногих, обладающих личным достоинством. Аристократия
возможна там, где личное достоинство ценится народом, а так как личное
достоинство обычно присуще благородным, то они и правят при аристократии.
При политии (республике) государство управляется большинством, но у
большинства, утверждает философ, единственная общая им всем добродетель
— воинская, поэтому «республика состоит из людей, носящих оружие».
Другого народовластия он не знает.
Таковы правильные формы правления. Аристотель в какой-то мере признает
их все. В пользу третьей формы он также находит довод, ставя вопрос
о том, обладает ли преимуществом большинство перед меньшинством, и отвечает
на него положительно в том смысле, что, хотя каждый член меньшинства
лучше каждого члена большинства, в целом большинство лучше меньшинства,
ибо хотя там каждый ооращает внимание лишь на одну какую-нибудь часть,
все вместе видят все.
Что касается неправильных форм политического устройства, то Аристотель
резко осуждает тиранию, утверждая, что «тираническая власть не
согласна с природою человека» (III, 2, с. 141). В «Политике»
содержатся знаменитые слова философа, что «чести больше не тому,
кто убьет вора, а тому, кто убьет тирана» (II, 4, с. 6l), ставшие
впоследствие лозунгом тираноборцев. При олигархии правят богатые, а
так как в государстве большинство бедно, то это власть некоторых.
Из неправильных форм Аристотель отдает предпочтение демократии, считая
ее наиболее сносной (VI, 2, с. 219), но при условии, что власть там
остается в руках закона, а не толпы (охлократия).
Аристотель пытается найти переходы между формами политического устройства.
Олигархия, подчиняясь одному лицу, становится деспотией, а распускаясь
и ослабляясь — демократией. Царство вырождается в аристократию или политию,
полития — в олигархию, олигархия — в тиранию, тирания может стать демократией.
Социально-политический идеал Аристотеля. Назначение государства. Политическое
учение философа — не только описание того, что есть, как он это понимал,
но и набросок должного. Это сказывалось уже в делении Аристотелем форм
политического устройства по качеству, а также в том, как философ определял
назначение государства. Цель государства не только в том, чтобы выполнять
экономические и юридические функции, не позволяя людям учинять друг
другу несправедливость и помогая им удовлетворять свои материальные
потребности, а в том, чтобы жить участливо: «Цель человеческого
общежития состоит не просто в том, чтобы жить, а гораздо более в том,
чтобы жить счастливо» (III, 5, с. 115). По Аристотелю, это возможно
лишь в государстве. Аристотель — последовательный сторонник государства.
Оно для него — «совершеннейшая форма жизни», «среда счастливой
жизни» (I, 1, с. 6, 7). Государство, далее, якобы служит «общему
благу». Но это относится только к, правильным формам.
Итак, критерием правильных форм является их возможность служить общему
благу. Аристотель утверждает, что монархия, аристократия и полития служат
общему благу, тирания, олигархия и демократия — лишь частным интересам
соответственно одного лица, меньшинства, большинства. Например, «тирания
есть та же монархия, но имеющая в виду только выгоду одного монарха»
(III, 5, с. 112). Это деление надуманное. История Древней Греции — история
борьбы рабов и свободных, а внутри свободных — благородных и неблагородных,
богатых и бедных, при этом монархия отличалась от тирании лишь тем,
что монарх опирался на свое происхождение и служил интересам благородных,
тиран же был узурпатором, но он в большинстве случаев служил интересам
народа. Не случайно в Греции переход от аристократии и монархии к демократии
был опосредован тиранией.
Говоря о наилучшем политическом устройстве, Аристотель различает абсолютно
наилучшую и реально возможную формы. Но идеальное государство Платона
Аристотель не относит к этим формам. Против этой доктрины Платона Аристотель
выдвинул три главных соображения: 1) Платон переступил пределы допустимого
единства, так что его единство далеке перестает быть государством, ибо
единство государства — это единство во множестве, а не единство как
таковое, при этом «единство менее сжатое предпочтительнее единства
более сжатого» (II, 1, с. 41); 2) у Платона благо целого не предполагает
блага частей, ведь оп даже у своих стражей отнимает счастье, но «если
воины лишены счастья, то кто же будет счастлив?» (II, 2, с. 52).
Уж, конечно, не ремесленники и не рабы. Между тем «отношение счастливого
целого к частям своим не то же, что отношение четного к своим частям.
Четное может принадлежать целому, не заключаясь ни в одной его части,
а счастливое не может быть в таком отношении к своим частям» (II,
2, с. 51); 3) в отличпе от Платона, который был социалистом в той мере,
в какой видел в частной собственности главный источник социальных зол
и хотел ее устранения, Аристотель — апологет частной собственности.
Он провозглашает, что «одна мысль о собственности доставляет несказанное
удовольствие» (II, 1, с. 47), что отмена ее ничего не даст, так
как «общее дело все сваливают друг на друга» (II, 1, с. 42).
Итак, делает вывод Аристотель, «все мысли Платона хотя чрезвычайно
изысканны, остроумны, оригинальны и глубоки, но при всем том трудно
сказать, чтобы были верны» (II, 3, с. 53).
Однако собственные социальные идеалы Аристотеля весьма неопределенны.
В наилучшем государстве граждане счастливцы, их жизнь совершенная и
вполне себе довлеющая, а так как умеренное и среднее наилучшее, то там
граждане владеют умеренной собственностью. Такое среднее сословие и
устанавливает наилучшую форму правления. Казалось бы, что Аристотель
демократ, что он сторонник средних слоев населения, большинства. Однако
это так и не так. Хитрость Аристотеля в том, что он на стороне большинства
или даже всех граждан, предварительно исключив из их числа большинство
жителей государства. Для этого философ различает существенные и несущественные,
но тем не менее необходимые части государства. К необходимым, но к несущественным
частям государства Аристотель относит всех трудящихся, а к существенным
— лишь воинов и правителей. «Земледельцы, ремесленники и все торговое
сословие, — сказано в «Политике», — необходимо входят в состав
каждого государства; но существенные его части суть: воины и члены совета»
(IV, 8, с. 167). Аристотель прямо заявляет, что «государство, пользующееся
наилучшим политическим устройством, не даст, конечно, ремесленнику прав
гражданина» (III, 3, с. 106), что, с другой стороны, «граждане
такого (наилучшего.- А. Ч.) государства не должны быть земледельцами»
(ведь у ремесленников и земледельцев нет философского досуга для развития
в себе добродетели).
Выход из создавшегося противоречия Аристотель находит в экспансии греков.
Грек не должен быть ни ремесленником, ни земледельцем, ни торговцем,
но эти занятия в государстве совершенно необходимы, и место эллинов
здесь должны занять варвары-рабы.
Проблема рабства. Для Аристотеля эта проблема не нравственная, а вопрос
о том, является ли рабство продуктом природы или общества, ибо есть
и рабы и по закону, а любой эллин — потенциальный раб эллина другого
полиса. Аристотель здесь дaлек от смелости Платона, выступавшего против
обращения эллинов эллинами в рабов. Но в целом он считает, что рабство
— явление, согласное с природой, ведь «очевидно… что одни по
природе рабы, а другие по природе свободны» (I, 2, с. 17), что,
более того, люди так устроены, что «одному полезно быть рабом,
а другому — господином» (I, 2, с. 17). Аристотель дает совершенно
неудовлетворительное определение раба: раб по природе тот, «кто,
будучи человеком, по природе принадлежит не себе, а другому» (I,
2, с. 11 — 12). Вместе с тем философ наталкивается на то затруднение,
что не может отказать рабам в рассудительности, мужестве, справедливости,
а если так, то непонятно, чем они от природы отличаются от свободных.
Решить это философ не может.
В этом весь трагизм рабовладельческого общества, трагизм неизбежности
превращения части людей в животпых в силу неразвитости производительных
сил. Аристотель лишь признает небезусловность рабства в том смысле,
что если бы труд был автоматизпрован, то в рабах не было бы нужды. Но
для него это предположение нереально. Реальность такова, что жить без
рабов невозможно. К тому же природа создала их в изобилии — среди не-греков.
Ведь «варвар и раб по природе одно и то же» (I, 1, с. 17).
С варварами не воюют, на них охотятся, и такая «война» справедлива.
Итак, в наилучшем государстге все граждане-греки превращаются в рабовладельцев,
а все народы мира — в их рабов. Греки должны стать властелинами Вселенной.
Такова программа Аристотеля.
Экономические взгляды. У Аристотеля были глубокие экономические догадки.
К. Маркс называл Аристотеля великим исследователем, впервые анализировавшим
форму стоимости наряду со многими формами мышления, общественными и
естествсиными формами 1 /См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.
23, с. 68./.
Аристотель впервые исследовал в совокупности такие явления общественной
жизни, как разделение труда, товарное хозяйство, обмен, деньги, два
вида стоимости, распределение и т. д. Аристотель связывает обмен с разделением
труда, распадением первоначальной семьи на малые семьи (здесь фплософ
более прав, чем в учении о семье). В связи с размышлениями об обмене
Аристотель подходит вплотную к двум формам собственности, правда, одну
из них он называет естественной а другую — неестественной. Например,
использование продукта труда для обмена, по убеждению философа, «неестественно»,
Он смотрит на товарно-денежное хозяйство с позиций натурального хозяйства.
Тем более удивительны его прозрения.
Говоря об обмене и угадывая двоякость стоимости, Аристотель также смутно
догадывался, что денежная форма товара есть дальнейшее развитие простой
формы стоимости, что деньги функционируют и как мера стоимости, и как
средство обращения. Он различает слитковую форму депег и монетную форму.
Спорен вопрос, в какой мере Аристотель подходит к понятию стоимости
вообще и к трудовой теории стоимости в частности.
Он учил об уравнивающей и распределяющей справедливости. Уравнивающую
справедливость он определял как «воздаяние другому равным».
Аристотель поясняет: «Воздаяние равным имеет место, когда найдено
уравнение, когда, например, земледелец относится к сапожнику так же,
как работа сапожника к работе земледельца» (Этика V, 8, с. 92).
Здесь философ подходит к трудовой теории стоимости, хотя это — лишь
случайная догадка. Иначе он не скатился, бы к мысли, что мера стоимости
— деньги. Выступал он и против ростовщичества.
ТЕМА 75. ЭСТЕТИКА АРИСТОТЕЛЯ
Из миогочисленных работ Аристотеля по эстетике сохранплся лишь отрывок
«Поэтики». Как уже отмечалось, под искусством Аристотель понимает
всю предметную человеческую деятельность и ее продукт. Он третнрует
производственную деятельность, а под практикой понимает лишь нравственно-политическую
сторону общественной жизни. Производственная деятельность — это презренное
делание (праттейн). Близко к этому и искусство в нашем понимании слова.
Для Аристотеля Фидий — всего лишь «обделыватель камней». Различие
искусства как производственной деятельности и искусства в нашем смысле
слова надо искать в тех словах «Физики» Аристотеля, где сказало,
что «искусство частью завершает то, что природа не в состоянии
сделать, частью подражает ей» (Физика II, 8, с. 36).
Производственная деятельность творит новые вещи, не существующие в природе.
Искусство в нашем смысле слова подражает природе. Когда Аристотель говорит
в «Метафизике», что «через искусство возникают те вещи,
форма которых находится в душе» (VII, 7, с. 121), то он имеет в
виду производственную деятельность. Правда, так и остается неясным происхождение
форм искусственных вещей. Заложены ли они в пассивном интеллекте наряду
с формами природы, реализуемыми благодаря воздействию на пассивный интеллект
с двух сторон (со стороны представлений и со стороны активного разума)
или они творения души — этого мы так и не узнаем. Но общий ответ все
же можно предположить: формы искусственных вещей — это средства осуществления
целей и удовлетворения потребностей, которые возникают в реальной практическои
жизни людей. Что же до искусства в нашем смысле слова, то здесь все
проще. Формы искусства, произведения искусства — не какие-то совершенно
новые и невиданные в природе формы. Это подражание формам бытия, как
естественным, так и искусственным. Поэтому для Аристотеля, отказавшего
искусству в абсолютном творчестве, в творении новых форм, искусство
есть подражание, мимесис.
Мимесис. Итак, в отличие от техники искусства подражательны. Аристотель
поэтому говорит в «Поэтике»: «Сочинение эпоса, трагедий,
а также комедий и дифирамбов, равно как и большая часть авлетики с кифаристикой,-
все это в целом не что иное, как подражание» 1 /Аристотель. Поэтика.
— В кн.: Аристотель и античная литература. М., 1978, с. 112./. О мимесисе
написано много интересного. Но обычно не учитывается, что мимесис, по
Аристотелю, надо понимать в контексте ero учения о форме и материи,
актуальном и потенциальнсм, об энтелехии. Будучи в силу непонимания
решающего значения производственной практики людей неспособным понять
происхождение форм искусственных вещей (ведь формы вечны, однако формы
искусственных вещей творятся человеком), Аристотель истолковал «изящные
искусства» не как творчество, а как подражание. Правда, мимесис
— не копирование. Художник волен выбирать предметы, средства и способы
подражания.
Поэзия. Так как в дошедшей части «Поэтики» речь идет лишь
о поэзии, то мы ограничимся здесь этим искусством. Поэзия понимается
широко — это искусство слова вooбще. Эпос, трагедия, комедия, дифирамб,
авлетика (игра на флейте), кифаристика пользуются такими средствами
подражания, как ритм, слово, гармония, либо всеми вместе или одним из
них. Проза пользуется только словами без ритма и гармонии. В сохранившейся
части «Поэтики» рассматривается в основном трагедия.
Искусство может изображать людей, улучшая их, ухудшая или сохраняя такими,
как они есть. Это трагедия, комедия и драма. Возможны и различные способы
подражания. Вообще же задача поэта — говорить не о том, что было, а
о том, что могло бы быть, будучи возможным в силу вероятности или необходимости
(IХ, 1451 в, с. 126). Этим поэзия отличается в лучшую сторону от истории,
поэтому «поэзия философичнее и серьезнее истории», «поэзия
больше говорит об общем, история — о единичном». В этом суждении
Аристотеля искусство, по крайней мере поэзия, соприкасается как с наукой,
так и с «технэ» в той мере, в какой и «технэ», и
поэзия имеют дело с общим. Все же общее в искусстве и в науке не одно
и то же, в первом случае это типически-образное, а во втором — понятийное.
Аристотель это чувствовал. Третирование же исторической дисциплины как
сферы единичного было возможно лишь потому, что древние знали лишь одну
исторшо — змпирическую, а законы социальной истории им были неведомы.
Итак, мимесис — это подражание, но подражание относительно свободное
в силу многообразия средств, предметов и способов подражания, а также
в силу обобщающего характера искусства, изображающего не единичное,
а общее, не то, что было, а то, что могло бы быть. Возмо иное и существенное
бытие изображается в единичном, в конкретных действиях и характерах,
однако в единичном оставляется только то, что служит существенному.
Здесь проявляется свобода подражания, его активность. Эту мысль Аристотель
развивает на примере трагедии.
Трагедия. В «Поэтике» содержится известное определение трагедии
Аристотелем: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному,
имеющему [определенный] объем, [производимое] речью, услащенной по-разному,
в различных ее частях, [производимое] в действии, а не в повествовании,
и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей»
(VI, 1449 в, с. 120) . При этом поясняется, что «услащенная речь»
— речь, нмеющая ритм, гармонию и напев, что в одних частях трагедии
это «услащение» совершается только метрами (частные случаи
ритмов), а в других — еще и напевом. Речь и музыкальная часть — средства
подражания; зрелище — способ; сказание, характеры, мысль — предмет подражания.
При этом сказание — подражание действию, сочетание событий; характер
— то, что нас заставляет называть действующие лица таковыми, это склонности
людей; мысль — то, в чем говорящие указывают на что-то конкретное или,
напротив, выражают более или менее общее суждение. Аристотель усматривает
главное в трагедии не в характерах людей, а в сказаниях, в действии,
в связи событий. Возможна трагедия и без характеров, но невозможна трагедия
без действия — «начало и как бы душа трагедии — именно сказание,
и [только] во вторую очередь — характеры» (VI, 1450 а, с. 122).
Активность мимесиса в трагедии выражается в том, что там производится
тщательный отбор для изображаемых действий с той целью, чтобы трагедия
была целостна, а для этого философом определяетсл объем трагедии, подчеркивается
необходимость единства действия, указывается динамика развития трагического
действия, различается завязка и развязка; в центре трагедии — «перипетеа»
— превращение делаемого в свою противоположность, перелом, связываемый
с узнаванием как переходом от незнания к знанию, меняющим всю жизнь
трагического героя от лучшего к худшему и приводящим его к гибели.
Катарсис. Согласно Аристотелю, трагедия состраданием и страхом очищает
подобные эмоции. А они вызываются именно вышеназваным переломом. В «Эдипе»
Софокла вестник приходит объявить Эдипу, кто на самом деле Эдип, и тем
избавить его от страха, но достигается противоположное. При этом страх
может быть вызван в зрителе такой ситуацией, когда трагический герой
не слишком сильно превосходит зрителя, ибо страх зрителя — это страх
за подобного себе. Сострадание же зритель может испытывать лишь к незаслуженно
страдающему герою, поэтому, в трагедии перемены и перелом в судьбе героя
должны происходить не от несчастья к счастью и не из-за порочности трагического
лица, а из-за «большой ошибки». Только так, думает Аристотель,
действие может вызвать в душах зрителя страх (трепет) и сострадание
— только путем отождествления себя с героем. Поэт в трагедии доставляет
зрителям удовольствие — это «удовольствие от сострадания и страха
через подражание им» (XIV, 1453 в, с. 133).
Это-то действие трагедии па зрителей и характеризуется как очищение
— катарснс. К сожалению, Аристотель не расрывает этого подробнее, хотя
и обещает, но пояснение до нас не дошло. Аристотелевский трагический
катарсис породил массу гипотез. Наиболее вероятно то, что трагическое
действие, заставляя слушателей переживать страх и сострадание, встряхивает
их души и освобождает их от скрытых внутренних напряжений. Но существуют
и другие истолкования катарсиса.