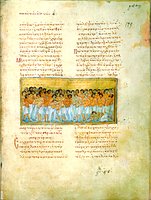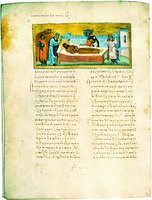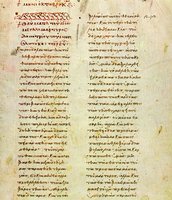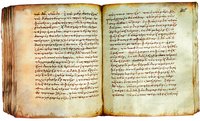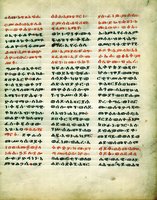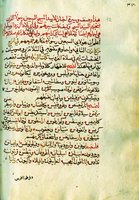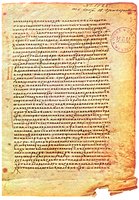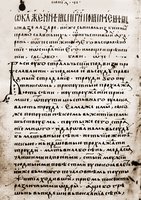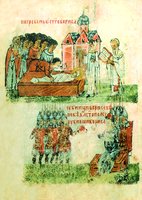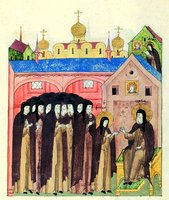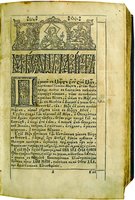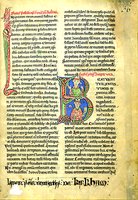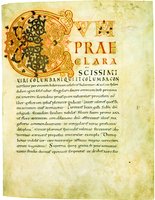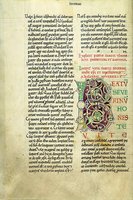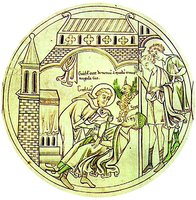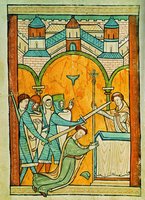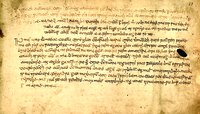Е. М. НЕЁЛОВ*
Петрозаводский
государственный университет
СКАЗКА И ЖИТИЕ
Влияние фольклора на древнерусскую
агиографическую литературу очевидно. Еще В. О. Ключевский пришел к выводу,
что “определяя… участие письменных источников в литературе житий приблизительно,
глазомером, едва ли ошибемся, сказав, что им должно отвести второстепенное место
перед изустными”1. Вместе с тем фольклорные и прежде всего фольклорно-сказочные
элементы в житиях столь заметны и постоянны, что их трудно объяснить лишь естественным
и бессознательным фольклоризмом, присущим вообще всей древнерусской литературе.
Это обстоятельство позволяет предположить некоторые общие моменты в поэтике фольклорной
волшебной сказки и поэтике литературного агиографического жанра, позволяющие функционировать
процессу взаимодействия этих, казалось бы, совершенно противоположных явлений нашей
древней словесности.
Действительно, как различия,
так и сходство жанров, что называется, бросаются в глаза. С одной стороны, волшебная
сказка и житие святого максимально удалены друг от друга. Содержание первой в глазах
средневекового человека скорее языческое, “низкое”, причем реализующееся в сфере
вымысла, второго же — христианское, “высокое”, утверждающее свою безусловную
достоверность.
С другой стороны, на фоне этого
максимального удаления тем более заметны некоторые общие принципы структурной организации
и сказки, и жития. Попробуем отметить хотя бы самые главные черты, обнаруживающие
сходство в несходном.
Первое и самое общее —
это твердость и даже жестокость фольклорного канона сказки и литературно-этикетного
канона жития. Это сходство не является, конечно, специфическим, ибо более или менее
жесткая каноничность присуща
______
*© Неёлов Е. М.,
1998
1 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как
исторический источник. М., 1871. С. 412.
62
всему древнему искусству, однако
показательно, что сказочный и житийный каноны в структурном отношении в ряде важных
и безусловно специфических моментов совпадают.
Такое совпадение заметно уже
в общем ходе действия волшебной сказки и жития. Бесспорно, композиционная формула
сказки, открытая и обоснованная В. Я. Проппом, трудно применима к житию,
но ее модификации — вполне. Одну из модификаций осуществил С. Д. Серебряный, найдя возможность
интерпретировать пропповскую формулу “в более широких терминах”2. По
мысли исследователя, “всю сказку как целое можно вкратце выразить формулой примерно
такого вида (используя символы, введенные В. Я. Проппом):
А—Г—Сп,
где:
А — начальное вредительство, создающее сказку,
Г — ответные действия героев,
Сп (“Спасение”) — благополучный исход,
восстановление разрушенного порядка вещей, часто на более высоком уровне… Такую
трехэлементную структуру можно считать простейшей, исходной, атомарной формулой
сказки”3.
Вообще-то, с этим можно спорить,
ибо подобное обобщение формулы В. Я. Проппа делает ее, конечно же, неоправданно широкой и об этом
мне уже доводилось писать4. Однако в контексте идей “Морфологии сказки”
в обобщении С. Д. Серебряного открывается действительно исходная коллизия сказочного
действия, которую можно, воспользовавшись пропповскими терминами, обозначить так:
“недостача” — “ликвидация недостачи”. Именно эта коллизия определяет ход
волшебно-сказочного действия и именно она вполне применима к ходу действия в агиографическом
произведении. Герой жития, как и герой сказки, в начале своего пути претерпевает
ситуацию “недостачи”, и, хотя содержание “недостачи” у каждого из них, безусловно,
различно, нам важно сейчас структурное подобие соответствующих текстов.
Впрочем, в этих текстах легко
можно найти и содержательные переклички. Так, “Житие Феодосия Печерского”, повествуя
о детстве святого, с одной стороны, сообщает, что “отроча
______
2 Серебряный С. Д.
Интерпретация формулы В. Я. Проппа (в связи с ее приложением к
индийским сказкам) // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей
памяти Владимира Яковлевича Проппа. М., 1975. С. 294.
3 Там же. С. 229.
4 Неёлов
Е. М.
Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л., 1986. С. 150.
63
же ростяше, кърмимъ родителема
своима, и благодать Божия съ нимъ, и дух святый измлада въселися въ нь”5
(и это есть собственно агиографическое), с другой же — житие подчеркивает,
что герой “изволи быти яко единъ от убогыхъ”6, что “вьси же съврьстьнии
отроци его ругающеся ему”7 (и это, вполне соответствуя житийному канону,
в то же время весьма напоминает положение “недостачи”, в котором мы застаем сказочного
Ивана-дурака в начале действия).
“Ликвидация недостачи” или Г —
Сп (“Спасение”)8 занимает весь ход действия сказки и жития и является
его итогом. Другими словами, в сказке и в житии обязателен благополучный финал.
Содержание этого благополучного финала в наших жанрах опять-таки противоположно:
в сказке — свадьба героя, в житии — благочестивая смерть святого и последующие
чудеса9 но нам вновь важно отметить структурное подобие, выражающееся
в том, что сказка и житие — единственные в нашей словесности жанры, где благополучный
финал (при всем несходстве его идеологического смысла в фольклорной и агиографической
традициях) ЖАНРОВО ЗАКРЕПЛЕН и не зависит от воли сказителей или авторов. Это утверждение,
на первый взгляд, может вызвать возражение: ведь известно, что в новое и новейшее
время появляются жанры, в которых благополучный финал тоже привычен. Такие жанры
обычно относятся к массовой литературе. Однако, по тонкому замечанию Ю. М. Лотмана,
“хороший конец в сказке и бульварном романе имеет принципиально иной характер. В
сказке хороший конец — единственно возможный. Плохой конец для сказки просто
не конец, а свидетельство того, что повествование должно быть продолжено. В массовой
литературе читатели допускают возможность плохого конца, более того, только
______
5 Житие Феодосия Печерского // Памятники литературы Древней
Руси. Начало русской литературы. XI —
начало XII века.
М., 1978. С. 306.
6 Там
же. С. 308.
7 Там же. С. 312.
8 Попутно отметим, что
фольклористический термин “спасение”, используемый для обозначения финальных
эпизодов волшебной сказки, более чем уместен при характеристике действия в
житии: совпадение фольклорной и агиографической терминологии в этом случае
весьма знаменательно.
9 Противоположность
сказочной “свадьбы” и житийной “смерти” при этом носит не абсолютный, а
относительный характер. Это становится ясным, если вспомнить архетипическое
тождество “смерть=свадьба”.
64
на фоне этого ожидания и значима
поэтика happy end”10. Поэтому не может быть волшебной сказки, в
которой Змей съел бы Ивана-царевича и оказался в финале победителем (это уже антисказка),
и не может быть жития, в котором бесы одолели бы святого и он в конце концов стал
бы грешником (это уже антижитие).
Кроме того, следует учитывать,
что те жанры современной литературы, где happy end распространен, некоторые
исследователи возводят (в их эволюции или функциональном подобии) либо к сказке,
говоря о повседневном “сказочном мышлении”, связанным с “безмолвным предрешением
хорошего конца”11, либо к средневековой агиографии, отмечая, что, “как
и читатели житий, современный, так называемый массовый читатель, прежде чем открыть
книгу, уже может пересказать ее общие контуры” вплоть до обязательного благополучного
финала12. Память традиции столь крепка, что даже современные жанры, в которых работает поэтика хорошего финала,
так или иначе сохраняют в себе нечто житийное или сказочное.
Ход действия от “недостачи”
до ее “ликвидации” в волшебной сказке обязательно строится на мотиве (шире —
идее) пути героя. Этот мотив пути характерен и для жития. В наших жанрах реализуется
общее для средневекового сознания представление о географии как “разновидности этического
знания”13. Собственно, обязательность и подобие пути сказочного героя
и героя жития уже отмечены. Так, Н. В. Давыдова в современном
учебном пособии по агиографии, подчеркнув, что “категория пути — важнейшая
в древнерусской житийной литературе”14, не случайно выделяет раздел “Пути-дороги
в сказке и житии”. И в этом разделе она опять-таки не случайно замечает о “пути
Богочеловека Иисуса Христа,
______
10 Лотман Ю. М. Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю. М.
Избранные статьи: В 3 т.
Т. III. Таллин, 1993. С. 388.
11 Bausinger H. Möglickeiten des Märchens in der Gegenwart // Märchen, Mythos. Dichtung. München,
1963. S. 19.
12 Берман Б. И. Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и
традиции его восприятия) // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 162.
13 Лотман Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых
текстах // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т.
Т. I. Таллин, 1993. С. 408.
14 Давыдова
Н. В. Путь на
Маковец: читаем “Житие Сергия Радонежского” Епифания Премудрого. М., 1993. С. 6.
65
который подобно герою сказки
тоже странствует по свету…”15. Естественно, цель пути святого (особенно
в своем внешнем выражении) иная, нежели у сказочного героя, но нам важно вновь отметить
структурное подобие жанров. Правда, формулировка различий, которую предлагает Н. В. Давыдова, у фольклориста,
несомненно, вызывает возражения. Она пишет: “Если герой сказки готов принести в
жертву всех, даже собственных братьев, лишь бы получить царскую дочь и полцарства
в придачу, то Иисус Христос добровольно идет на страшную мученическую смерть на
кресте ради спасения людей от смерти…”16 В этом сравнении двух путей
сказочный герой оказывается столь неприглядным, что это полностью уничтожает нравственный
смысл сказки. Подобные утверждения в фольклористике можно было встретить приблизительно
сто лет назад17, сегодня же их произвольность и даже нелепость не стоит
доказывать. Следует лишь задуматься — отчего же, восхищаясь путем Христа, автор
так ополчается на сказку? Думается, оттого, что пути сказки и пути жития оказываются
структурно столь схожи, что это пугает православно, но в то же время прямолинейно
мыслящего автора, и он, добросовестно отметив сходство, спешит его тут же уничтожить.
Между тем еще одна общая черта
волшебной сказки и жития заключается в том, что они представляют собой единственные
(или почти единственные) жанры нашей словесности, где обязательно присутствует чудо.
В других жанрах, например, в былинах, чудо может быть (и тогда, кстати, как в былине
о Садко, есть смысл говорить об известной сказочности и одновременно агиографичности
текста), но может и отсутствовать18. В сказке же и житии чудо жанрово
обусловлено.
______
15 Там
же.
16 Там же.
17 Ср.: герой “женился ради того, что она (героиня. — Е. Н.) королевская дочь, богатая и пр.” (Маркевич А. И. Очерк сказок, обращающихся среди одесского простонародья //
Юбилейный сборник в честь Всеволода Федоровича Миллера, изданный его учениками
и почитателями. М., 1900. С. 179).
18 Ср.: “В большинстве случаев появление в былинных текстах
мотива чуда с точки зрения сюжетосложения явно факультативно, хотя и неизбежно,
поскольку обусловлено христианским мировоззрением сказителей. В девяти
вариантах былины “Добрыня и змей”, опубликованных в сборнике А. Ф. Гильфердинга,
чудо присутствует только в двух” (Николаев О. Р., Тихомиров Б. Н.
Эпическое православие и русская культура // Христианство и русская литература.
СПб., 1994. С. 12).
66
Функции, характеры и смысл сказочных
и житийных чудес различны19, но сам факт присутствия чуда в этих жанрах
обязателен.
Таким образом, даже при самом
поверхностном взгляде легко обнаруживаются формально-поэтические переклички жанровых
структур, традиционно, казалось бы, противостоящих друг другу. Выяснение причин
этих перекличек требует специального исследования, но, думается, можно полагать,
что формально-поэтическая общность всегда есть следствие и некоторой общности содержательной.
В самом деле, и сказки, и жития —
жанры, в высшей степени абстрагирующие действительность. Конечно, стремление к абстрагированию
и символике относится к общим чертам всей древней словесности, но Д. С. Лихачев не случайно подчеркивает,
что это “стремление к художественной дедукции, к подведению жизненных явлений под
единый нормативный идеал, естественно, с особой силой сказывалось в житийной литературе”20.
То же самое, и тоже — естественно — относится и к фольклорной волшебной
сказке. И там, и там изображается не конкретный характер, а человек “вообще”, заключающий
в себе черты “отвлеченного идеала”21. Причем и там, и там этот отвлеченный
идеал вполне строго определен: и путь святого, и путь сказочного героя представляют
собой путь, на котором борются силы Добра и Зла. На вопрос “О чем говорят народные
сказки?”, действительно, можно дать простой, “детский” и в то же время точный и
конкретный ответ: “Сказки говорят о борьбе Добра и Зла, причем Добро всегда
______
19 Укажем, в качестве примера, лишь на одно различие. М. Люти, рассматривая сказочное чудо как “характернейшую
форму преувеличения”, пишет: “Лентяю в сказке стоит лишь подумать, что ему
хочется иметь замок или принцесса должна иметь ребенка, и уже то и другое
становится действительностью” (Luthi M. Freiheit und Bindung in Volksmärchen // Märchen,
Mythos, Dichtung. München, 1963. S. 4). Чудо
в сказке, таким образом, отличается легкостью,
в противовес житию, где чудо в этом смысле затруднено.Вероятно, это связано с тем, что житийное
чудо совершается в “мире естества” (Берман
Б. Читатель жития. С. 166),
а чудо сказочное происходит в мире “сказочной реальности”, требующей разделения
(и часто противопоставления) точек зрения “изнутри” (глазами персонажа) и
“снаружи” (глазами слушателя). О противопоставлении этих точек зрения см.: Неклюдов С. Ю.
Чудо в былине // Труды по знаковым системам. Т. IV.
Тарту, 1969. С. 146—158.
20 Лихачев Д. С.
Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 104.
21 Дмитриев Л. А.
Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв. Л., 1973. С. 5.
67
побеждает”. Но точно так же
“по-детски” (и тоже — точно) можно охарактеризовать и проблематику агиографического
произведения. Более того, семантика Зла в сказке и в житии (при всей бездне идеологических
различий в толковании этой семантики) одинакова. Все религии, говорит современный
богослов, “призывают на борьбу с духовным злом. И этим “последним врагом”, по слову
апостола Павла, является — смерть”22. Именно с этим “последним врагом”
и сражается святой. Но ведь и в сказке Зло тоже есть смерть (особенно ярко это воплощается
в образе Кощея Бессмертного). Герой сказки отправляется в путь совсем не для того,
чтобы, как наивно-реалистически полагает Н. В. Давыдова, получить “царскую
дочь, власть, богатство, раздобыть все эти блага любыми средствами — силой,
обманом и жить в свое удовольствие весело и богато”23; путь сказочного
героя — это путь гармонизации мира, становящегося после победы над смертью
единой всеобщей Семьей24.
Словом, не удивительно, что
“русские сказочные образы как-то совершенно незаметно и естественно воспринимают
в себя христианский смысл. В некоторых сказках это превращение представляется вполне
законченным; в других мы видим пестрое смешение христианского и языческого… Христианству
не может не быть близко сказочное искание вечной молодости и живой воды. И “молодильные
яблоки”, и “вода целящая” суть как бы языческие, мифологические предварения величайшего
из христианских откровений”25.
С другой стороны, и христианское
учение может вдруг окутываться сказочной дымкой, о чем, к примеру, специально предупреждает
в самом начале своего популярного руководства протоиерей Серафим Слободский: “В
наше время необходимо избегать рассказывать Закон Божий в форме наивной сказки (как
говорят, “по-детски”), ибо ребенок и поймет его как сказку”26.
______
22 Кураев
Андрей, диакон. Новомодные соблазны // Новый мир. 1994. № 10. С. 127.
23 Давыдова Н. В.
Путь на Маковец. С. 6.
24 Подробно см. об этом: Неёлов Е. М.
Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1989.
25 Трубецкой
Е. “Иное царство” и его искатели в русской народной сказке
// Литературная учеба. 1990. № 2. С. 114—115.
26 Слободский
Серафим, протоиерей. Закон Божий для семьи и школы. Нью-Йорк,
1987. С. 5.
68
Однако наивное детское понимание,
как это неоднократно подтверждалось в истории культуры, имеет свой резон. Вот как
“наивно”, по-детски заявляет известный исследователь мифологии и знаменитый писатель-сказочник
Дж. Толкиен: “Евангелия заключают в себе волшебную историю, либо
нечто более широкое — то, что охватывает сущность всех волшебных историй”27.
Дж. Толкиен замечает по поводу своих слов: “Это серьезная и рискованная
тема. С моей стороны даже касаться ее — самонадеянность…”28.
И мы, разделяя это мнение писателя, лишь отметим, что все сказанное дает основание
полагать, что жанровые пространства (учитывая и их структуру, и смысловые поля)
Сказки и Жития пусть и неполно, но в некоторых моментах пересекаются.
Христианские и пред-христианские
элементы в русской волшебной сказке, обеспечивающие это пересечение, обусловлены
тем, что натурфилософия сказочного жанра, вырастающая из древних мифологических
представлений, о которых писал В. Я. Пропп в “Исторических корнях волшебной сказки”, наполнилась
к XIX веку новым смыслом. Этот смысл
может быть понят как народная трансформация (“народная вера”) евангельских идей.
Концентрированно и рационально эту фольклорную трансформацию евангельской традиции
выразил на рубеже XIX—XX веков Н. Федоров в своей известной “Философии общего дела”. Именно
главные сказочные идеи (на уровне жанрового содержания) легко узнаются в основных
сюжетах федоровских размышлений. Это идеи (если пользоваться терминологией Н. Федорова) родственности,
регуляции природы и патрофикации. Они так или иначе и определяют волшебно-сказочную
натурфилософию29.
Поэтому в житиях, где фольклорно-сказочный
аспект особенно заметен, христианская аксиология приближается к той трактовке, которую
позднее придаст евангельской традиции Н. Федоров и которую можно
назвать сказочно-федоровской. Так, например, говоря о житии Сергия Радонежского,
исследователи особо подчеркивают, что “не борьба с язычеством
_____
27 Толкиен
Дж. О волшебных сказках // Утопия и утопическое мышление.
М., 1991. С. 298.
28 Там же.
29 Подробно см. об этом: Неёлов Е. М.
От волшебной сказки к литературе: фольклорная трансформация евангельской
традиции в учении Н. Ф. Федорова о воскрешении // Евангельский текст в русской
литературе XVIII—XX
веков. Петрозаводск, 1994. С. 262—273.
69
превращает Сергия в аскета,
а борьба с природой пустыни”30, что “здесь бесы являются носителями темных
враждебных сил природы, окружавшей подвижника”31. Мотив борьбы с природой —
один из излюбленных русской волшебной сказкой, причем в соответствии с федоровской
идеей регуляции речь идет не о победе над природой, а об удалении из нее злого (смертоносного)
дьявольского начала. Именно так поступает не только герой сказки, делая природу
доброй, но и герой сочинения Епифания Премудрого: на месте леса, населенного дикими
зверями и бесами, возникает чудесный монастырь. Ярко проявляется сказочно-федоровская
идея регуляции и в “Слове о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим”. Как замечает
Л. А. Дмитриев, “бес по повелению святого преображается в коня.
Это — бытовая реалия и вместе с тем сказочный образ”32. Первое здесь
можно оспорить (конь, доставляющий святого в Иерусалим, мало похож на крестьянскую
лошадку), второе же совершенно справедливо. Подчеркнем, что в момент превращения
“злой” бес становится “добрым” сказочным помощником, преодолевающим, как в сказке,
огромные природные расстояния. Отзвук сказочной мечты о преодолении и присвоении
безбрежных пространств (это входит в федоровское понятие “полноорганного чело- века”)
ясно чувствуется в этом эпизоде агиографического текста.
Соотносимость жанровых структур
Сказки и Жития, их неполная, но все же перекличка делает возможным органическое
соединение фольклорно-сказочного и этикетно-агиографического канонов в рамках уже
собственно литературной традиции. Впервые такое соединение в русской литерату- ре
происходит в знаменитой “Повести о Петре и Февронии”. О фольклорных элементах в
этом произведении написано уже немало33, однако речь, как правило, идет
именно о фольклорных элементах (мотив змееборства, сюжет “мудрой девы”), в целом
же обычно считают (и это мнение широко тиражируется в популярных изданиях), что
“определяющим в разработке сюжета оказалось воздействие устного источника, более
всего связанного с жанром новеллистической сказки.
______
30 Грихин В. А.
Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV—XV вв.
М., 1974. С. 34.
31 Переверзев В. Ф.
Литература Древней Руси. М., 1971. С. 133—134.
32 Дмитриев Л. А.
Житийные повести русского Севера… С. 157.
33 Обзор библиографии см.: Дмитриева Р. П.
Повесть о Петре и Февронии. Л., 1979.
70
Влияние народного предания о
муромском князе и его жене на Ермолая-Еразма оказалось столь велико, что он, образованный
церковный писатель, перед которым была поставлена цель создать жизнеописание святых,
написал произведение, по существу далекое от житийного жанра”34.
Внимательный и непредубежденный
анализ текста мог бы показать, что “Повесть о Петре и Февронии” далека не от житийного
жанра, а, скорее, от сугубо практических требований, предъявляемых церковью к этому
жанру. Это становится ясно, если рассматривать главных персонажей — Петра и
Февронию — как образующих вместе единую фигуру святого. (Героев двое —
Петр и Феврония, а святой — один, святой — это они вместе). Кроме того,
обычное (даже входящее в школьные пособия) отнесение фольклорно-сказочного плана
“Повести” к жанру новеллистической сказки тоже может быть оспорено. “Повесть о Петре
и Февронии” в целом соотносится прежде всего с волшебной сказкой, и даже можно указать —
с какой. В ее основе лежит трансформированная, но бесспорно узнаваемая сюжетная
схема “Царевны-лягушки”. Не случайно исследователи, говоря о фольклорных элементах
в тексте “Повести”, так или иначе вспоминают примеры именно из этой волшебной сказки.
Особенно показательно в этом смысле «чудесное превращение Февронией “крох” со стола
в ладан и фимиам, подобно тому как царевна-лягушка превращает остатки еды в луга
и сады, в озера, по которым плавают лебеди»35.
Анализ “Повести о Петре и Февронии”
в аспекте соотнесенности агиографического канона с натурфилософией и сюжетикой волшебной
сказки, выразительным примером которых и является “Царевна-лягушка”, мы предполагаем
осуществить в специальной работе36, а пока же отметим лишь один момент,
связанный с пересечением сказочного и агиографического жанровых пространств.
“Царевна-лягушка” начинается
тем, чем другие сказки заканчиваются: свадьбой героев. Вообще-то ситуация “после
______
34 Словарь писателей Древней Руси // Литература в школе.
1994. № 2. С. 22.
35 Шайкин А. А. Фольклорные традиции в “Повести о
Петре и Февронии Муромских” // Фольклорные традиции в русской и советской
литературе. М., 1987. С. 31.
36 См. предварительную публикацию: Неёлов Е. М. “Повесть о Петре и Февронии” и
“Царевна-лягушка” // Рябининские чтения’95. Петрозаводск, 1997.
71
свадьбы” не сказочная, а —
стоит вспомнить толстовскую “Анну Каренину” — романическая. Но все дело в том,
что начальная свадьба в “Царевне-лягушке” носит, так сказать, предварительный характер,
совмещаясь с “недостачей”, и лишь в конце действия, во втором его “ходе”, становится
окончательной. Та же ситуация “после свадьбы” и в “Повести о Петре и Февронии”,
и точно так же повесть заканчивается как бы второй, настоящей, окончательной свадьбой,
когда герои соединяются уже после смерти. В финальном эпизоде повести очень выразительно
и естественно сливаются в одно целое два, казалось бы, противоположных в рамках
своих жанров “хороших финала”: сказочная “свадьба” и житийная “смерть”. Их противопоставление
снимается. Они сливаются в одном образе-символе, после которого развитие действия
уже невозможно, ибо — в полном соответствии с канонами и волшебной сказки,
и жития — время тут отступает и начинается вечность.
Все сказанное позволяет думать,
что снятие оппозиции волшебно-сказочного и житийного канонов, их взаимодействие
и даже синтез в рамках теперь уже единого жанрового пространства образует весьма
плодотворную традицию, которая начинается в древнерусской литературе и сохраняется
и в более поздние времена, вплоть до современности.
Изучение этой традиции было
бы, можно полагать, весьма интересным, но даже беглая ее характеристика выходит
за рамки данной статьи. Поэтому в заключение опять-таки отмечу лишь один момент.
Писатель XIX—XX веков, естественно, волен
обращаться (как это сделал, например, А. Куприн в “Олесе”) или
не обращаться к данной, как и любой другой традиции. Но в литературе новейшего времени
появляются жанры, в которых интересующая нас традиция жанрово закрепляется, носит архетипический характер и не зависит уже
от воли автора. Это жанры — и это, я думаю, не случайно — массовой литературы.
В качестве осторожного предположения
я бы указал в этом смысле на жанровую обусловленность и непременное присутствие
интересующей нас традиции в детективной литературе. В самом деле, если о сказочности
детектива уже писали (работы И. Ревзина, Я. Меркулан), то элементы агиографии, житийности (прежде всего
в фигуре Великого Детектива — стоит вспомнить, скажем, Шерлока Холмса), кажется,
никем не отмечены. Думается, что взаимодействие и трансформация волшебно-сказочных
и житийных структур, отчетливо заметная
72
в классических детективных произведениях,
во многом определяет своеобразие этого популярного жанра массовой литературы (потому,
собственно, и популярного) и объясняет появление таких, на первый взгляд, невозможных,
но принципиально точных фигур, как сыщик-священник (патер Браун у Честертона). Однако,
повторю, изучение интересующей нас традиции в литературе нового и новейшего времени —
дело будущего.
Введение
В сегодняшнее время, довольно жестокое, когда на нашей планете практически нет государств, не воевавших друг с другом, а еще хуже — не воюющих между собой сейчас. В эпоху, казалось бы, научного и технического прогресса общество идет назад: взгляды и отношения людей возвращаются к представлениям первобытного человека.
Культ наживы, насилия и бездуховности, пришедший к нам вместе с западной цивилизацией, достиг своей цели. В настоящее время не может не вызвать тревоги тот факт, что современное общество погрязло в грехах. Проституция, наркомания, агрессия, нетерпимость к окружающим вытесняют из сознания молодого поколения память о родной культуре, народных традициях, понятия о морали, нравственности, истинной вере в христианские идеалы добра и справедливости. Все, что происходило за последние 50 — 60 лет (войны, смена власти, борьба правительства с церковью, как следствие, атеизм в России), привело не к развивающейся личности, а к деградирующей (особенно, если обратить внимание на подрастающее поколение). А ведь именно ему вести Россию в будущее, строить и развивать нашу страну, поэтому в нем должны воспитываться чувство прекрасного, нравственное и духовное начала посредством искусства слова — литературы.
Русская литература, начиная со времен Древней Руси, на первый план всегда выдвигала духовно-нравственные вопросы, пыталась дать нравственный ориентир человеку в жизни. В современном литературном контексте, в эпоху господства постмодернизма, взгляд на мир с точки зрения вечных религиозных истин особенно актуален.
В нашей работе мы обратились к одному из жанров древнерусской литературы, агиографии (житиям святых). Жития святых были и остаются животворящим источником, многосодержательным чтением для всех и каждого. Истинная вера помогала святым Древней Руси переживать все невзгоды и трудности, особенно это ощутимо в житиях юродивых, которые, выбрав такой способ служения Богу, уже пошли по пути вечных тягот и лишений.
Юродивый показывает, что «именно мир культуры является миром ненастоящим, миром антикультуры, лицемерным, неправильным, не соответствующим христианским нормам… он действует и говорит «невпопад», но как христианин, не терпящий компромиссов, он говорит и ведет себя как раз так, как должно по нормам христианства. Он живет в своем мире… Юродивый видит и слышит то, о чем не знают другие» [Лихачев 1987: 344 — 345].
В русской литературе ХХ – ХХI веков мы можем найти героев-юродивых, которые помогают людям найти себя; показывают и подчеркивают все недостатки политической, общественной и социальной среды; вводят в нашу жизнь православную веру, способствующую выбору верного пути и ведущую, оберегающую человека в трудных жизненных ситуациях.
Возможно, именно те художественные произведения, которые содержат в себе черты житийности, будут способствовать духовному росту и обогащению современного социума, поколения NEXT – молодежи XXI века.
Сказанное выше дает возможность обозначить актуальность нашей работы, посвященной рассмотрению развития агиографического жанра и особенностей юродства в Древней Руси, их влияния, проявления основных черт и традиций в русской литературе XX — XXI веков.
Объектом нашего исследования является произведение современной женской прозы.
Предмет исследования: агиографические традиции в произведении русской литературы XXI века.
Материалом послужили жития святых-юродивых (блаженных) из сборника житий русских святых, составленного монахиней Таисией, а также роман Л.Е. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» (2007).
Цель работы: выявить традиции житийной литературы в произведении Л. Улицкой.
Цель исследования определила постановку следующих задач:
· на основании агиографической литературы выявить основные черты жанра жития;
· на материале данных о блаженных и юродивых составить традиционный портрет подвижника Христа ради;
· рассмотреть роман «Даниэль Штайн, переводчик» с точки зрения преемственности житийного жанра;
· выявить основные черты юродства у героев романа Улицкой;
Нами использовались историко-генетический, сравнительно-сопоставительный методы исследования, а также метод целостного анализа художественного текста.
Научная новизна. В работе предпринята попытка провести параллели между жанром древнерусской литературы (агиографией) и современной прозой, выявить традиции агиографии в литературе XXI века (на примере романа Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик».
Структура работы определяется поставленной целью и задачами, а также характером исследуемого материала. Учебно-исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Глава 1. Агиография в историко-литературном процессе
-
Жанр жития в истории русской литературы
Из литературы, предназначавшейся для чтения, в Древней Руси наибольшее распространение получила житийная (агиографическая) литература, посредством которой церковь стремилась дать своей пастве образцы практического применения отвлеченных христианских положений.
Сам термин «жития святых» болгарский, так как христианство не было однородно по составу, выражалось в нескольких системах, а по мере развития изменялось, приобретало дополнительные, часто сторонние элементы, то и жития святых не являются идеологически и тематически однородными. В некоторые периоды средневековья жития пересматривались правящими органами церкви со стороны «подлинности», в результате чего одни тексты относились к истинным, другие к ложным (отреченным, «апокрифическим»).
Жития, как особый род литературы, имеют свою историю, связанную с общим ходом развития христианства. Христианство первых веков не знало житий. Возникли они позже в связи с преследованиями христиан, которые в первые три века нашей эры подвергались преследованиям со стороны римских властей и привлекались к суду, как государственные преступники. Церковно-литературная традиция указывает огромное количество таких фактов, но здесь вымысла от исторической правды не отличить. Одно только можно сказать, что уже со II века начали появляться произведения, в которых описывались мучения и смерть христиан, пострадавших за свои убеждения. Это так называемые мартирии – мученичества.
С 313 года начинается новое направление в жизнеописании святых. Мучеников не стало, изменилось само представление об идеальном христианине. Блестящий церковный оратор, энергичный строитель церквей и монастырей, аскет и юродивый сменили мученика. И в связи с этим перед автором, поставившим своей целью описать жизнь человека, чем-либо выдающегося из общей массы христиан, встали новые литературные задачи, задачи биографа. Так возникли жития.
Если мартирии являлись рассказами о последних днях жизни мученика и о его смерти, то житие ставило своей целью дать описание всей жизни святого. Автор-агиограф, вдохновляемый чувством благоговения перед подвижником, нередко – своим учителем, ставил основной задачей обязательное прославление его, поэтому не историческая достоверность сообщаемых им фактов, а их литературная сторона была для автора на первом плане.
Житийная схема определяла в основных чертах характеристику идеального святого, стиль и композиционные элементы жития. Начиналось оно обычно предисловием. В нем авторы житий, преимущественно монахи, считали необходимым смиренно говорить о недостаточности своего литературного образования и таланта для описания жизни человека столь большой святости. Непосредственно за этим приводились доводы, побуждавшие автора «попытаться» или «отважиться» писать житие. Далее, чтобы придать больше авторитета своему труду, автор рассказывал, как он собирал сведения для жития: ходил по местам подвигов святого, беседовал с благочестивыми людьми, помнившими его, записывал эти показания.
Главная часть жития, посвященная почти исключительно личности святого, также изобиловала общими местами. Обычно она строилась по следующему плану: сведения о родителях и родине святого; рассказ о поведении будущего святого в детстве, о его тяге и способностях к образованию, об отношении к браку; описание подвижнической жизни в монастыре или пустынном уединении; в конце шли предсмертные наставления, кончина святого, чудеса, происходившие после его смерти, заключение. По этому плану излагались не конкретные и достоверные биографические сведения о святом, а только такие черты его биографии, которые соответствовали обобщенному и канонизированному типу христианского героя: уже в раннем детстве святой обнаруживает все признаки благочестиво настроенной натуры, затем он проявляет исключительную одаренность в учении, отказывается от брака, обладает способностью творить чудеса, входить в непосредственное общение с ангелами и бесами. Кончина святого большей частью бывает мирная и тихая: святой безболезненно отходит в иной мир, и тело его после смерти издает благоухание; у гроба и на могиле умершего происходят чудесные исцеления: слепые прозревают, глухие получают слух, больные исцеляются. Заканчивается житие обычно похвалой святому.
Выдающимся образцом жития, распространенного в начальную пору агиографии, является «Житие Антония», принадлежащее перу Афанасия Александрийского (IV век) и сыгравшее большую роль в дальнейшем развитии житийной литературы.
Русская средневековая агиография стоит в тесной связи с византийской житийной литературой, передававшейся на Русь непосредственно или через южных славян. Стиль русских житий менялся не один раз. Произведения Нестора Чтение о Борисе и Глебе, Житие Феодосия Печерского написаны с большим вкусом, очень эмоциональны, но не биографичны. Во многих эпизодах видна литературная зависимость от византийских образцов.
Поздние жития в большей мере именно следовали традиции, стремились выработать особый способ, стиль повествования, сознательно украшали древние тексты, фиксировали устоявшиеся представления. Цель позднего жития – не только прославить святого, рассказать о его жизни, но и следовать определенным филологическим и богословским критериям.
Таким образом, чем меньше исторических сведений о святом, чем позже было написано житие после смерти святого, чем более поздние рукописи попадают в распоряжение редактора-переписчика, тем меньшую историческую ценность представляет собой памятник, тем сильнее развиваются сказочные легендарные мотивы, литературные заимствования, заменяя собой недостаток реального исторического материала.
1.2. Юродство – проявление святости
В Византии жития старались сделать как можно более торжественными, часто на основе древнего неукрашенного текста выпускники риторических школ создавали пышный памятник, увлекаясь «плетением словес» и тщательно изгоняя индивидуальные черты святости, которые могли бы покоробить благочестивого читателя, особенно это заметно в древнерусских житиях юродивых.
С юродивыми новый чин святости (юродство или подвижничество Христа ради) входит в русскую церковь, приблизительно, с начала XIV века. Его расцвет приходится на XVI столетие, несколько запаздывая по отношению к монашеской святости: XVII век еще вписывает в историю русского юродства новые страницы. Подвиг юродства не является особенностью русской церкви. Греческая церковь чтит шестерых юродивых. Из них двое, святой Симеон (VI век) и святой Андрей (IX век), получили обширные и очень интересные жития, известные и в Древней Руси.
Греческие жития дают в своем богатом материале ключ к пониманию юродства. Напрасно мы стали бы искать в русских житиях разгадку подвига. И это ставит перед исследователем русского юродства трудную проблему.
Редко находим мы для русских юродивых житийные биографии, еще реже биографии современные. Почти везде неискусная, привычная к литературным шаблонам рука стерла своеобразие личности. По-видимому, и религиозное благоговение мешало агиографам изобразить парадоксальность подвига. Многие юродивые на Руси ходили нагие, но агиографы стремились набросить на их наготу покров церковного благолепия. Читая жития греческого юродивого Симеона, мы видим, что парадокс юродства охватывает не только разумную, но и моральную сферу личности. Здесь христианская святость прикрывается обличием не только безумия, но и безнравственности. Святой совершает все время предосудительные поступки: производит бесчиние в храме, ест колбасу в страстную пятницу, танцует с публичными женщинами, уничтожает товар на рынке. Русские агиографы предпочитают заимствовать материал из жития святого Андрея, в котором элемент имморализма отсутствует. Лишь народные предания о Василии Блаженном и скудные упоминания летописей показывают, что и русским юродивым не чужда была аффектация имморализма. Жития их целомудренно покрывают всю эту сторону подвига стереотипной фразой: «похаб ся творя».
Итак, юродство – сложный и многоликий феномен культуры Древней Руси. Оно занимает промежуточное положение между смеховым миром и миром церковной культуры. Можно сказать, что без скоморохов и шутов не было бы юродивых. Связь юродства со смеховым миром не ограничивается «изнаночным» принципом (юродивый создает свой «мир навыворот»), а захватывает и зрелищную сторону дела. Но юродство не возможно и без церкви: в Евангелии оно ищет свое нравственное оправдание, берет от церкви тот дидактизм, который так для него характерен.
В чем сущность юродства? Пассивная часть его, обращенная на себя, – это аскетическое самоуничижение, мнимое безумие, оскорбление и умерщвление плоти. Юродство – добровольно принимаемый христианский подвиг из разряда так называемых «сверхзаконных», не предусмотренных иноческими уставами. Активная сторона заключается в обязанности «ругаться миру», то есть жить в миру, среди людей, обличая пороки и грехи сильных и слабых, не обращая внимания на общественные приличия. Именно презрение к общественным приличиям составляет нечто вроде привилегии и непременного условия юродства. Две стороны, активная и пассивная, как бы уравновешивают и обусловливают одна другую: добровольное подвижничество, полная тягот и поношений жизнь дает юродивому право ругаться горделивому и суетному миру.
Внешний вид юрода – открытое вызывающее представление того, чего в обществе больше всего опасаются – нищеты, безумия и отверженности. Его тело, одежда, слова, действия – нестерпимый антимир для благополучной социальной жизни.
В христианском юродстве, по словам А. Панченко, царит нарочитое безобразие, кажущееся безумие, бунтарское разрушение косных форм религиозных отношений.
Таким образом, кратко мы можем показать вышесказанные моменты, соединяющиеся в этом парадоксальном подвиге (юродстве), следующим образом:
1. Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей.
2. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру.
3. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой Духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством.
Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Прозрение духовных очей, высший разум и смысл являются наградой за попрание человеческого разума подобно тому, как дар исцелений почти всегда связан с аскезой тела, с властью над материей собственной плоти.
В русском юродстве вначале преобладает первая, аскетическая сторона, в XVI столетии уже, несомненно, третья: социальное служение.
Жития юродиевых занимают незначительное место в агиографической литературе Древней Руси, однако оказывают большое влияние на русскую литературу как XIX, так и ХХ веков.
Глава 2. Система персонажей в романе Л. Улицкой
«Даниэль Штайн, переводчик»: агиографический аспект
2.1. Трансформация житийного предисловия в романе
«Даниэль Штайн, переводчик»
Роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» – это колоссальный проект, основанный на реальных событиях. В новом романе писательница рисует образ праведника, еврея Даниэля Штайна, и выступает от его лица за слияние христианских церквей и иудаизма в одну единую.
Роман посвящен реально жившему и скончавшемуся в 1998 году монаху-кармелиту, брату Даниэлю Освальду Руфайзену. Будучи евреем, умудрившимся обмануть гестапо, он принял католицизм. Израиль, как известно, отказывает в репатриации тем иудеям, кто принял иную веру, но брат Даниэль из принципиальных соображений судился с родным государством за право в паспорте именоваться евреем. Ему и гражданство готовы были предоставить – через натурализацию, но предприимчивый монах непременно хотел формального признания себя евреем в документах через закон о возвращении, как рожденный от еврейской матери («Я считал, что имею право приехать в Израиль по закону о возвращении… евреем считался каждый, кто рожден от матери-еврейки и считает себя евреем. Молодой чиновник, увидев мою рясу и крест… сообразил, что христианин… Это и было началом длинной истории, которая вылилась в бесконечный судебный процесс… Процесс я проиграл… Они не дали мне гражданства как еврею, но мне обещано гражданство «по натурализации». Так что скоро стану израильским гражданином, но без права называть себя евреем в Израиле» [Улицкая 2007: 109 – 110]).
В романе огромное количество персонажей, почти все они – евреи: Эва Манукян, Авигдор и Даниэль Штайн, Эстер и Исаак Гантман, Рита Ковач и Павел Кочинский…
Основное место действия – Израиль. Людмила Улицкая воссоздает национальный еврейский характер, любуясь его природным скептицизмом и стремлением внедрять толерантность в умы.
Название романа, «Даниэль Штайн, переводчик», можно интерпретировать по-разному. Даниэль Штайн – это главный герой романа. Интерес представляет для нас уточнение – переводчик. Даниэль во время войны с Германией служил в белорусской полиции, а затем в гестапо переводчиком. В мирное, послевоенное время, он стал католиком, принял монашеский сан. И всю свою жизнь вел людей к вере и Богу, помогая найти себя. То есть стал «переводчиком» слова Божьего для мирян.
Композиция «Даниэля Штайна» довольно необычна: в нем нет четкой последовательности событий, перед нами то 1983 год, то 1959, но все происходящее взаимосвязано. По этому поводу автор пишет так: «…книга эта не роман, а коллаж. Я вырезаю ножницами куски из моей собственной жизни, из жизни других людей и склеиваю… «живую повесть на обрывках дней»» [Улицкая 2007: 624].
В романе нет и повествователя, читатель узнает о произошедших или о происходящих событиях из писем героев, записей из дневников, статей из газет, различных протоколов. Видимо, это связано с тем, что при написании произведения Людмила Улицкая изучила много литературы о Даниэле Руфайзене, евреях, войне, беседовала с родственниками и близкими Даниэля («…я полностью отказалась от документального хода, хотя все книжки-бумажки, документы, публикации и воспоминания сотен людей выучила, как полагается рабу документа, наизусть… Вообще я довольно много использовала сведений, почерпнутых из книг, написанных о нем… Я попыталась написать сама, поехала в Израиль… встречалась с его братом, многими людьми из его окружения» [Улицкая 2007: 163; 657]). Она и сама встречалась с ним в Москве в 1992 году, причем, весь разговор был записан на диктофон, эту запись в дальнейшем использовала в своей работе над романом Людмила Евгеньевна: «…в августе 92-го… Даниэль Руфайзен вошел ко мне в дом… Мы ели, пили и разговаривали. Ему задавали вопросы, он отвечал. К счастью, кто-то включил диктофон, и потом я смогла прослушать весь разговор. Он частично использован в этой книге» [Улицкая 2007: 656 – 657].
Таким образом, на наш взгляд, достигается эффект документализма в романе, что в некоторой степени позволяет проводить параллель с «Повестью временных лет» и летописями, где о происходящем сообщал летописец-монах. Кроме того, своеобразное сходство наблюдается и в том, что каждая глава начинается с даты и места, например: «1984 г., Хайфа. Из разговора Даниэля и Хильды». Помимо этого, элемент летописности мы встречаем внутри самого романа: записи Исаака Гантмана по годам. Впервые о них упоминает Эстер Гантман, а затем в первых трех частях романа читатель узнает о прошлом именно из записок Исаака («…я решилась прочитать записи Исаака… Собственно, он писал книгу, но урывками, откладывал «на потом»… Бумаги Исаака в идеальном порядке, записи разобраны по годам» [Улицкая 2007: 22 – 23]).
Говоря о традициях житийной литературы в «Даниэле Штайне», отметим следующее: предисловие, которое мы привыкли видеть в житии, в романе Улицкой тоже есть, однако здесь нельзя говорить о традиционном житийном предисловии. В конце каждой части (их 5) идет письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович, все письма отправлялись после написания той или иной части. В своих посланиях писательница сообщала о том, как начинала писать роман, как шла работа над частью, что она собирается написать дальше, какие герои ждут своей очереди («…еще в ноябре… я поняла, что больше всего хочу написать о Даниэле. Ни увлекательный мифологический сюжет, ни «Зеленый шатер», который уже отчасти существует, – ничего этого. Только о Даниэле… Весь огромный материал толпится, все просят слова, и мне трудно решать, кого выпускать на поверхность, с кем подождать…» [Улицкая 2007: 163; 320]).
Автор-агиограф ставил своей задачей прославление святого, поэтому не историческая достоверность фактов, а их литературная сторона была важна для него. Аналогичное явление мы находим и в письмах Улицкой к Костюкович: автор сама говорит о том, что не все в романе соответствует действительности («Те живые люди, которых я видела рядом с живым Даниэлем, были другие, мои – придуманы. И сам Даниэль отчасти придуман. Тем более не было никакой Хильды… Не было ни Мусы, ни Терезы, ни Гершона. Все они фантомы» [Улицкая 2007: 623]). Также Людмила Улицкая прославляет Даниэля, называет его учителем: «В душе я чувствую, что прожила важный урок с Даниэлем… весь урок сводится к тому, что совершенно не имеет значения, во что ты веруешь, а значение имеет только твое личное поведение» [Улицкая 2007: 661].
Таким образом, в романе Л.Е. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» мы видим трансформированное, иное, житийное предисловие. Однако жанровые особенности и черты позволяют нам отнести письма писательницы, следующие после каждой части, именно к агиографическим предисловиям. Следовательно, мы можем говорить о том, что уже в этом проявляются традиции житийного жанра в романе.
2.2. «…каждый человек должен искать свой собственный путь к
Богу. Этот путь – личный…»: духовные искания героев романа
«Даниэль Штайн, переводчик»
В романе «Даниэль Штайн, переводчик» Людмила Евгеньевна Улицкая показала нам различные способы служения Богу и пути героев к нему. Даже эпизодические персонажи представлены в ключе поиска истины и Всевышнего. Обратиться к вере их заставляют жизненные обстоятельства.
Проследить агиографические традиции мы можем в образе монаха Рафаила, о котором узнаем из дневника Хильды, встретившей его в 1972 году: «Поставили машину… Поднялись выше – арабская деревня… на отшибе не то дом, не то конура… И вылез такой дряхлый кузнечик с большой костлявой головой…» [Улицкая 2007: 307]. Уже при первом описании старика в памяти всплывает образ юродивого из житийной литературы. Даниэль после встречи с ним рассказывает своей помощнице о Рафаиле. Его рассказ только подтверждает предположения о юродстве старца. Причем, жизнь его полностью соответствует описанию жизни святых и юродивых агиографии.
Рафаил уходит из отчего дома в юности, как и святые герои («…Рафаил родился в Иерусалиме… Был пятнадцатым сыном в семье и сбежал к иезуитам. Воспитывался в католическом училище, стал монахом…» [Улицкая 2007: 309]). Дальше Даниэль говорит: «…он… очень умный. Он вообще один из самых умных людей…» [Улицкая 2007: 309], – в романе опускается факт пристрастия Рафаила к учебе в юности, но, по всей видимости, это так и было, если Даниэль Штайн говорит о высоком уме монаха.
Однако самой яркой характеристикой, позволяющей отнести старца Рафаила к юродивым являются следующие слова: «…он ходит босой и в рваной одежде и моется, когда идет дождь и много воды в корыте набирается, и потому никто не желает видеть ни его ума, ни его образования» [Улицкая 2007: 309]. Внешний вид полностью соответствует характерным чертам блаженных.
В образе Рафаила Улицкая показала истинного святого, пришедшего к вере еще в юные годы. Может быть, его толкнуло на обращение к Богу обстановка в семье: много детей; по-видимому, и бедное существование.
Ольга Исааковна Резник – героиня, которую Даниэль крестил уже перед смертью, через шесть лет после обращения Ольги Исааковны.
В 1978 году Даниэль получил письмо от незнакомой женщины, просившей о крещении. А приняла она такое решение после операции на сердце ее сыну Давиду, во время которой он умер, а затем ожил. В этот момент молилась жена Давида, именно тогда Ольга Исааковна почувствовала присутствие и помощь Всевышнего («Когда Давиду делали операцию, Вера закрыла дверь и молилась… я чувствовала… как будто дул сильный ветер… в три часа у него остановилось сердце, и врачи стали его оживлять… Но в тот день, я знаю, Христос спас моего сына» [Улицкая 2007: 392]). Но Ольга Исааковна говорит и том, что во сне к ней пришел Господь и позвал к себе: «Я видела Его во сне, он мне говорил – иди, иди сюда!» [Улицкая 2007: 464]. Перед нами картина общения с Высшей силой, что мы находим и в житиях. Умерла Ольга Исааковна мирно и спокойно, во сне, как самая настоящая праведница.
Но настоящим святым среди эпизодических героев романа, на наш взгляд, является старец Абун, о котором узнаем из письма Федора Кривцова отцу Михаилу: «Вот привел меня Господь в такое место, о котором молил. Старца нашел настоящего» [Улицкая 2007: 545]. Абун был самым настоящим отшельником, вел аскетический образ жизни, служил Богу вдали от людей. Федор пишет: «Кормится чем – не знаю… Травы там, сныти или какой другой нет, одни каменья. Ворон ему носит, или ангел питает – не знаю… Он в светлое время читает, в темноте молится. Лежанки нет у него – есть камень вроде сиденья, на нем и спит… Когда я к нему на скалу подымаюсь, Дух во мне воспаряет…» [Улицкая 2007: 545 – 546], – вот она истинная святость, истинное служение Господу в традициях агиографической литературы.
И когда Даниэль отпевал старца Абуна в его пещере, «на площадку хлынуло солнце, такое сильное, как будто рядом огонь заполыхал» [Улицкая 2007: 556]. В этом фрагменте писательница показывает невероятное явление, происходящее после смерти Абуна. Это служит еще одним доказательством святости и приближенности к Богу. Да и сам Даниэль Штайн считает, что старец «вознесен выше ангелов» [Улицкая 2007: 554].
Таким образом, можно говорить о том, что влияние житийной литературы прослеживается даже в «маленьких» персонажах «Даниэля Штайна».
Образы Риты Ковач и Хильды Энгель вызывают интерес тем, что героини не давали обетов служения Богу. Рита на протяжении всей своей жизни была ярой атеисткой, только в старости она крестилась. Хильда – помощница Даниэля в храме Илии у Источника. Однако в этих женщинах можно проследить черты святых агиографии.
В годы войны с фашистской Германией Рита Ковач была одной из узниц Эмского гетто, но в августе 1942 года бежала с другими евреями в Черную Пущу, имея сына и будучи беременной. И в партизанском отряде родила дочь. Позже Эва пишет о матери: «Она была одержимой коммунисткой. Витека родила она в львовской тюрьме…В жизни я не встречала женщины, менее склонной к материнству, чем моя мать» [Улицкая 2007: 9]. В последствии, в 1943 году дети Риты оказываются в приюте, где умирает Витек, а Эву она забирает в 1954. Отношения у матери с дочерью не заладились, Эва была даже разочарована, когда увидела Риту и узнала, что та – ее мать («Она пришла прямо в палату. Некрасивая. Плохо одетая. Сухая… я заплакала – от разочарования» [Улицкая 2007: 86]). Описание внешнего вида женщины сразу привлекает внимание – на лицо наличие одной из характеристик юродивых.
Немаловажным является и то, что Рита Ковач не была избалованна бытом: «…матери моей ужасающая нищета казалась нормальной жизнью. Может, она и в сталинских лагерях неплохо себя чувствовала» [Улицкая 2007: 15], – еще один признак юродивости.
После волнений в Польше, в конце 60-х годов ХХ века, она уехала в Израиль, где жила в приюте. Только в преклонном возрасте Рита поняла, что всю жизнь ее предавали, а она верно служила партии и сидела в лагерях и тюрьмах. Почему она не верила в Бога? Наверное, дело не только в том, что коммунистическая власть не признавала его, атеизм был единственной «верой», но и в беззаветной преданности молодой женщины. Рита Ковач верила, что, отдавая себя партии, она делает мир лучше. Именно партия была для нее в то время и мужчиной, и Богом («Я свою любовь отдала не мужчинам, а делу. Партия тоже не безгрешна… Но здесь одно из двух – или она свои ошибки осознает и исправит, или она перестанет быть той партией, которой я отдала свое сердце, свою любовь и свою жизнь» [Улицкая 2007: 95]). С одной стороны, это тоже вера, хотя и несколько ошибочная, даже жестокая.
Прогресс виден после инсульта и операции, когда Рита лежала и восстанавливала силы, она сказала Павлу Кочинскому: «…лежу почти как труп… Это самая ужасная мука, которую только Бог может выдумать. Я думаю-таки, что Он есть. Но скорее – черт» [Улицкая 2007: 259]. Может быть, данное обстоятельство и было очередным испытанием для Риты, но уже для того, чтобы в будущем привести ее к истинной вере.
Это произошло через год после операции. Она стала читать Евангелие, еще через год – крестилась. Причем, Рита приходит к осознанию того, что ее жизнь подготовила такой поворот событий: она прошла множество испытаний – война, тюрьмы, лагеря, болезни, – перед нами череда испытаний, которые были пройдены, чтобы найти истину. Здесь тоже можно говорить о сходстве со святыми житий.
В последнем письме П. Кочинскому Рита пишет: «Я очень сожалею, что моя ВСТРЕЧА произошла так поздно, но, пока человек жив, никогда НЕ ПОЗДНО» [Улицкая 2007: 539]. В этих словах заложена, возможно, одна из главных истин, к которой пришла некогда безбожная коммунистка.
В романе Улицкая не дает описание смерти Риты Ковач, она только сообщает, что смерть наступила ночью. Можно предположить, что во сне. Следовательно, перед нами мирная кончина героини – традиционное завершение жизненного пути святыми и юродивыми.
После встречи с Всевышним поменялись не только взгляды Риты, но и ее внешность: «У моей матери оказалось прекрасное лицо. В конце жизни она его заслужила! То напряженно-подозрительное выражение, которое ей было всю жизнь свойственно, сменилось на покой и глубокую удовлетворенность» [Улицкая 2007: 540].
На примере Риты Ковач автор показала, что к вере может обратиться любой, даже самый закоренелый атеист. И это происходит не по воле человека, а готовится ходом всей его жизни.
В жизни Хильды Энгель не было кардинальных изменений в религии. Она была немкой, католичкой, в детстве ходила в церковь, позже закончила курсы приходских служащих, где готовили помощников священников и социальных работников. Можно сказать, что вера в Бога была с ней в течение всей жизни, служба ее заключалась в помощи Даниэлю Штайну и нуждающимся, обращавшимся в их приход за помощью.
О Хильде мы узнаем из ее же письма Даниэлю, где она просит о приеме в общину, чтобы помогать брату Даниэлю. Здесь же содержится информация о семье, детстве Хильды и том, что побудило приехать в Израиль. Молодая девушка пишет: «Когда мне было четырнадцать лет, мне в руки попала книга Анны Франк. Я и до этого не знала об уничтожении евреев… эта книга разбила мне сердце… я поняла, что хочу посвятить свою жизнь помощи евреям. Конечно, историческая вина немцев огромна, я как немка разделяю ее. Я хочу работать теперь на государство Израиль» [Улицкая 2007: 117 – 118], – перед нами поворотный момент в жизни девушки. В агиографии ангелы, святые или Бог приходили к герою и направляли на путь веры, но путь Хильды был несколько иным: ее предназначение – помогать еврейскому народу во имя искупления вины фашистов. Поэтому указателем на дороге жизни стала книга пострадавшей от нацистов еврейской девочки-подростка (Анна Франк «Убежище. Дневник в письмах: 12 июня 1942 – 1 августа 1944» – С.К.).
Вероятно, не только книга Анны Франк повлияла на выбор Хильды. Так как она была единственной дочерью у матери, вышедшей второй раз замуж и родившей двух сыновей, девочка, по всей видимости, была обделена вниманием и лаской («…никогда у нас с тобой не было… сердечных отношений… в юности мы были очень далеки, я была очень одинокой девочкой» [Улицкая 2007: 166 – 167; 195]). В 1996 году Хильда призналась Эве Манукян: «Излишний рост и недостаток любви – вот диагноз, который я поставила себе много лет спустя» [Улицкая 2007: 195], – может быть, она осознала и то, что именно этот «диагноз» стал главной причиной для принятия решения поступить на курсы помощников церковнослужителей и социальных работников, уехать в Израиль и посвятить себя евреям. Таким образом Хильда могла избавиться от достаточно продолжительного одиночества и «недостатка» любви: в церкви всегда много людей, приближенность священника уже избавляет от нехватки добра. Помогая другим, в частности евреям, она не только искупала вину своих дедов, но и отдавала себя таким же одиноким, как и сама.
Сопоставляя два диаметрально противоположных стремления, Риты Ковач и Хильды Энгель, помогать людям, мы отмечаем разные цели и задачи: одна служила партии и помогала, как она считала, советскому народу, затем воевала и спасала чужие жизни, но не отдавала свою любовь этим людям, так как любовь была без остатка подарена коммунистическим идеалам. Хильда тоже служила на благо людям, но это было вызвано не чувством патриотизма и идеологией, а чувством вины.
Говорить, что Хильда святая, конечно же, нельзя. Одной из причин является ее связь с арабом Мусой, встречи с которым прекращаются после того, как Давида, среднего сына Муссы, сбила машина. Хильда молилась о спасении Давида, находящегося в коме. В разговоре с Эвой Манукян она говорит о решении, которое приняли они оба на тот момент: «Я приняла обет, что с Мусой никогда больше ничего у меня не будет. И он тоже принес обет в этот же самый час. Мы не сговаривались. Оба поняли, что надо это отдать. Выжил мальчик» [Улицкая 2007: 205]. Почему на долю нашедшей свое счастье женщины выпало такое испытание? Скорее всего, это был знак свыше, напомнивший, что сама она однажды потеряла внимание и любовь матери, а сейчас лишала других того же самого – любви.
Хильда, по сравнению с Ритой, была не настолько сильна духом. После смерти Даниэля приход распался, видимо, не хватило сил или желания продолжить начатое этим евреем-католиком. Мы можем только предположить, что, если бы Рита не умерла, она пришла бы к Даниэлю в приход и продолжила его дело. А Хильда так и осталась «немкой, оплакивающей помрачение и жестокость своих предков» [Улицкая 2007: 280].
Противоречива в романе фигура Федора Кривцова. С одной стороны, это человек, ищущий истину и свое место в религиозном мире, а с другой – грешник, соблазнивший некогда молодую девушку и убивший человека в поисках «великой тайны» и «истинной веры».
Об этом герое мы впервые узнаем из письма матушки Иоанны отцу Михаилу: «Ходит к нам монашек молодой Федор… жил пять лет в Пантелеймоновом монастыре на Афоне, потом из него вышел и пришел сюда…на начальство жаловался» [Улицкая 2007: 434]. Мы видим, что верующий человек жалуется на священнослужителей, казалось бы, не должен так поступать христианин. Однако Федору было проще найти виноватых среди других, а не искать первопричину в себе. Перед нами первое свидетельство того, что данный персонаж, может быть, несколько неправильно представляет себе служение Господу.
И далее, в ответном письме, отец Михаил рассказывает о Федоре: «Он человек оригинальный, искатель истины… он уже побывал в буддистах, но у Будды истины не нашел. Обратился в православие… мечтал о монашестве… поселился у нас в Тишкине, а потом соблазнил здешнюю девушку и сбежал» [Улицкая 2007: 439]. Как мог молодой человек, стремившийся стать монахом, совершить такое? Помимо этого, даже после случившегося оставить девушку? Видимо, все-таки мало было в Федоре веры, долга, ответственности, или его кто-то соблазнил на данное грехопадение. Тогда возникает вопрос «почему?». Вероятнее всего, сложившиеся обстоятельства должны были показать ему, что монашество или другой путь служения Богу не для него, но Федор Кривцов этого не понял. Вот еще одно искаженное понимание истины и веры.
Через два года после первого упоминания о Федоре, в 1984 году, он находит место, о котором «молил». Это была пещера старца Абуна, у него герой и остался жить, уверив себя, что наконец-то нашел истину. После смерти Абуна Федор обвинил евреев в том, что они «бросили миру пустышку христианства, оставив у себя и великую тайну, и истинную веру… украли нашего Бога» [Улицкая 2007: 673]. Может ли верующий такое изречь? Конечно, нет. В очередной раз герой винит кого-то, не обращая внимания на себя. И в своих поисках он отправился в храм Илии у Источника к Даниэлю Штайну («…этот маленький еврей, прикидывающийся христианином, знает тайну» [Улицкая 2007: 673]). Будучи пойманным глухим сторожем Юсуфом в кабинете Даниэля за «поисками» той самой тайны, Федор его убивает. Нож стал не только орудием убийства, но и средством для поисков тайны, которую теперь ему не суждено найти («И теперь не сможет он, Федор, добыть эту треклятую еврейскую тайну» [Улицкая 2007: 676]). Вот оно окончательное духовное падение человека. Причем, по всей вероятности, не считавшего себя виноватым, преступником, ведь он, по его мнению, искал истинную веру.
В образе Федора Кривцова мы можем увидеть одну из черт юродивых – неопрятный внешний вид: «…мы увидели длинную фигуру на дороге. Я сначала подумала, что бедуин. В тряпки замотан» [Улицкая 2007: 554]. Так описала его Хильда.
Таким образом, можно сказать, что Людмила Улицкая в романе «Даниэль Штайн, переводчик» показала нам совершенно разных героев в их духовных поисках. Одни приходили к Богу через трудности, другие хотели искупить грех предков, а некоторые шли к нему всю жизнь, но так и пришли. Обратиться к вере может не только глубоко верующий человек, но и тот, кто прожил долгое время атеистом, а вот потерять найденное может даже монах.
2.3. Герои-праведники в романе «Даниэль Штайн, переводчик»
Говоря о Ефиме и Терезе Довитас, о Даниэле Штайне, мы можем утверждать, что эти персонажи романа являются истинными святыми. Однако и их жизненные пути не были лишены трудностей. Каждый из героев прошел испытание на прочность – моральную, душевную и духовную.
Итак, о Терезе Бенда мы узнаем впервые из дела оперативной проверки (Док. « 117/934). «Доброжелатели», как это водилось во времена советской власти, написали заявление о том, что «Бенда Тереза Кшиштофовна злостная католичка и приваживает в дом много людей…» [Улицкая 2007: 323]. И из рапорта лейтенанта Гуськова становится ясно, что Тереза является тайной монахиней, принявшей постриг в 1975 году. Монашеский сан героини уже относит ее к праведникам.
Судьба у Терезы была достаточно сложной: отец умер рано, в девять лет она потеряла мать, и на воспитание девочку взяла тетя. Об определенности судьбы говорит то, что в юном возрасте Тереза тянулась к вере («Мне… с самой ранней юности, едва ли не с детства, открылось существование духовного мира, и это открытие отдалило меня от сверстниц» [Улицкая 2007: 336]). Вот она особенность. И ведь только девочка нашла связь с Господом, как сразу стала отличаться от других, в ее жизни появляется одиночество и отчужденность. В это время происходит и другое удивительное явление с Терезой. Она жила в одной комнате с тетей и ее мужем, людьми, которые постоянно предавались плотским утехам, что вызывало отвращение у юной героини. Однако Тереза в такие минуты начинала молиться Божьей Матери. И что же происходило? Тереза пишет так Валентине Фердинандовне: «…и тогда я начала слышать музыку. Это было ангельское пение, и оно меня укутывало, как в плащ, я утихала и засыпала…» [Улицкая 2007: 336]. Аналогичное происходило и в студенческие годы, когда соседки по общежитию отдавали себя во власть страсти, и вновь молитва и прекрасная музыка спасали молодую Терезу.
Но связь с Богом не ограничивалась только тем, что героиня слышала музыку, она «ощущала присутствие Того, Кто есть Источник Жизни» [Улицкая 2007: 336]. И через два года после окончания университета Тереза принимает обеты. Ей, как настоящей праведнице, жилось легко и радостно в монастыре. Казалось бы, девушка пришла к Богу, победив все прелести жизни, однако самые страшные и серьезные испытания были еще впереди.
Позже Терезу попросили покинуть монастырь, обвинив ее в связи с сатаной, который на самом деле искушал героиню. Из письма Терезы Валентине Фердинандовне: «Однажды, когда я стояла на молитве, со мной произошло следующее: как будто упругий и горячий воздух охватил меня, ласкал меня всю и бессловесно просил согласия отдаться ему… я ответила отказом. Но ласки продолжались… Тогда, словно очнувшись, я воззвала к Господу, и немедленно услышала шипящую брань и легкий щелчок» [Улицкая 2007: 339]. Об этом Тереза поведала настоятельнице и духовнику, которые и сочли ее бесноватой. Хотя именно духовник сказал: «…таким путем идут святые…» [Улицкая 2007: 341]. Что имел ввиду под этими словами? Быть может, Тереза шла по настоящему пути святости? Ведь святой человек не может постоянно жить в мире с собой и Богом, он же должен бороться за свою веру, преодолевая проделки дьявола, доказывая таким образом свою предопределенность. Заслугой верующего является не только его смиренный образ жизни и молитва Господу, но и подавление различных искушений.
Тереза смогла доказать, что по праву может называться истинной верующей.
Единственным другом ей стал Ефим, еврей, тянувшийся к православию. В его образе мы видим своеобразную проекцию Даниэля Шайна, но в другой плоскости. Оба были евреями, обратившимися в христианскую веру: Даниэль стал католическим монахом, а Ефим Довитас – православным священником. Связующим стал тот факт, что они уехали на свою историческую родину – в Израиль.
Но до того как стать православным священником, Ефим должен был жениться – традиция РПЦ. Поэтому он предлагает Терезе заключить фиктивный брак, чтобы получить согласие Господа, они вместе молятся («Мы с Ефимом стали на молитву и молились почти до самого рассвета… каждый из нас должен был принести свою жертву: я – поменять вероисповедание, перейти в православие, он – взять на себя ответственность за меня…» [Улицкая 2007: 347]). В итоге, Ефим и Тереза обвенчались и переехали на Святую Землю.
Довольно долго они жили в духовном браке, но все изменил Даниэль Штайн, посоветовавший родить им детей.
Говоря о традициях житийной литературы в образах Ефима и Терезы, можно отметить следующее: они оба предсказали рождение своего будущего сына («А вчера приснился странный, очень неприятный сон. Как будто у меня раскрывается живот… разделяется на лепестки, и из середины вылетает дракон, но ужасно красивый…Я рассказала Ефиму… он… сказал, что видел нечто похожее… у него распался живот на четыре части и вышел разноцветный большой пузырь…» [Улицкая 2007: 503 – 504]). Но почему такие странные образы видели супруги? Видимо, это были предзнаменования необычности ребенка. Действительно, сын родился с синдромом Дауна, о котором чета Довитас узнала в середине беременности. Имя мальчику дали Ицхак, что означает «он будет смеяться».
Тереза пишет о сыне Валентине Фердинандовне так: «Наш мальчик говорит, но язык его не понятен людям. Речь ангелов – его язык. Он произносит какие-то неведомые нам слова над засохшим цветком, и через несколько дней цветок оживает. От ребенка идет удивительное излучение» [Улицкая 2007: 591 – 592]. Нам кажется, что эти слова в большей степени вызваны родительским чувством. Не может же каждый ребенок с синдромом Дауна быть ангелом. Да, эти люди особенные, они помечены Богом, но это не делает их «высшими существами». Об этом скажет и Валентина Фердинандовна: «Он трогателен и бесконечно мил, но ваши предчувствия и упования на то, что именно он и есть… Тот, Кто Обещан… мне кажутся обольщением глубоко любящих родителей» [Улицкая 2007: 596]. В дальнейшем это стало одним из поводов для того, чтобы Ефим запретил общаться жене с подругой.
Конечно, здесь он поступил далеко не как верующий человек, но это на совести Ефима. Нехорошо поступил православный еврей, когда написал донос на Даниэля, с которым не разделял взгляды на религию. Однако чувство благодарности за сделанное евреем-католиком в жизни семьи Довитас не покинуло Ефима («…он сыграл большую роль в жизни нашей семьи, помог осуществиться нашему браку с Терезой… и чудо рождения нашего Сына свершилось с его благословения. Но взгляды Даниэля представляются мне совершенно неприемлемыми» [Улицкая 2007: 600]).
Тем не менее, на наш взгляд, Терезу и Ефима можно отнести к праведникам. Они прошли достаточно испытаний, чтобы обрести счастье и найти свое место в жизни и вере. Но, по всей видимости, в какой-то момент трактовка духовных ценностей была ими воспринята не совсем правильно. Валентина Фердинандовна сказала и об этом: «Ваша героическая и даже подвижническая жизнь меня восхищает. Путь, который вами избран, достоин глубочайшего уважения. Конечно, я понимаю, что путь каждого человека единствен и каждый пробивает свою дорогу к Истине. Но почему так много людей, озабоченных исключительно поиском Истины, идут в совершенно противоположных направлениях?» [Улицкая 2007: 597].
Образ главного героя романа, монаха Даниэля Штайна, сложен и противоречив. Он может вызвать много споров у читателя, разногласий по этому поводу достаточно и в самом романе.
Жизнь Дитера (имя в документах) Штайна в произведении излагается «не по порядку». Да, мы видим детство и взросление героя, тягу к учебе, приход к Богу, но жизнеописание его построено по композиционной модели неправильного жития – хронология событий нарушена. Однако это не мешает нам проанализировать данный образ с точки зрения агиографической литературы, проследить в нем влияние житийного жанра и выявить некоторые черты юродства.
Итак, родился Даниэль в деревне в Южной Польше. Из рассказа Авигдора, брата Даниэля, мы узнаем основные моменты детских лет главного героя романа. Уже с юных лет Даниэль Штайн был другим, не таким, как все («Он с детства чем-то отличался от других. Раньше я думал, что он был такой особенный, потому что всегда говорил «да»» [Улицкая 2007: 43]). Вот та черта, которая сразу позволяет нам проводить параллели с житийным жанром. Герой, говорящий «да», всегда поможет в трудный момент, он придет на помощь к любому, кто об этом попросит. Безотказность – отличительная черта характера Даниэля Штайна.
По агиографической традиции, будущий подвижник выделялся среди сверстников тягой к знаниям и способностями, аналогичное мы видим и в Даниэле-мальчике, что подтверждается словами его брата: «…было видно, что у Дитера большие способности. Они очень рано проявились. В детстве мы были очень похожи, совсем как близнецы, но брат отличался от меня большими талантами» [Улицкая 2007: 49]. Эта одаренность стала причиной того, что в семилетнем возрасте Даниэля забирает к себе тетя, «чтобы он мог ходить в хорошую еврейскую школу» [Улицкая 2007: 50]. Можно сказать, что таким образом Улицкая показала уход из отчего дома, который мы встречаем в житиях. Однако маленький Дитер приезжает к родителям на летние каникулы, Л. Улицкая довольно оригинально трактует данный ход древнерусской литературы. По окончании начальной школы Даниэль поступает в Государственную школу, считавшейся одной из лучших, именно здесь он начинает посещать религиозные дисциплины. У Дитера Штайна были хорошие преподаватели, но встреча с главным учителем была впереди («Осознанно молиться начал лет в восемь, и просил у Бога, чтобы он послал мне учителя, который научил бы меня правде. Я представлял себе учителя… с длинными усами… Такого усатого учителя я не встретил, но Тот, Кого я встретил и Кого называю Учителем, долгое время разговаривал со мной… на языке чудес» [Улицкая 2007: 127]).
Будучи ребенком Даниэль уже желал правды, он общался с Господом. Снова перед нами картина, которую можно видеть в житиях святых, – еще в юные годы будущий святой начинает разговаривать с Богом. В четвертой части романа, в последней беседе Даниэля Штайна с фрайбургскими школьниками, мы находим еще одно доказательство предопределенности его пути: «Я с детства ощущал присутствие Божественной Силы, которая держит наш мир. И когда это чувство ослабевало, я получал свидетельства и подтверждения того, что человек не одинок в мире» [Улицкая 2007: 610].
В школьные годы проявляются и выдающиеся лингвистические способности Даниэля. Он знал много языков, из дневника Хильды мы узнаем: Даниэль говорит, что «хорошо знает три – польский, немецкий и иврит. А другие, на которых он разговаривает, знает очень плохо» [Улицкая 2007: 284]. Но тут же Хильда пишет: «…это не так: он водит группы на итальянском, испанском, греческом, французском, английском, румынском, говорил при мне с чехами, с болгарами и с арабами на их языке… Мне кажется, что у него тот самый дар языков, который был послан когда-то апостолам» [Улицкая 2007: 284]. Конечно, в этом заслуга и самого Даниэля, которого можно назвать настоящим подвижником Божьим, ведь он через свою полиязычность нес учение о правде и истине в мир. Знание языков сыграло большую роль не только в жизни Даниэля, но и тех многих людей, которых он спас в годы войны с Германией, начавшейся, когда ему было семнадцать лет.
Начало войны стало страшным испытанием в жизни семьи Штайн: в это время родители расстаются со своими детьми, и разлука эта будет вечной; позже судьба… или война разделяет братьев на долгие годы. Авигдору удается перебраться в Палестину, а Даниэль остается в Вильнюсе, который вскоре после начала русско-германской войны оказывается во власти немецких войск. И тогда начинается самое страшное – вступают в силу антиеврейские законы, происходят массовые аресты и расстрелы еврейского народа. Во время очередной облавы Даниэлю удалось спрятаться от преследователей в кладовой для овощей, и немецкие солдаты не нашли его, хотя были близки к цели. Здесь мы можем ссылаться на помощь Всевышнего, который спрятал свое чадо, чтобы в будущем дать ему возможность помогать другим и нести слово Божье в народ. Даниэль сказал в беседе со школьниками: «Никогда еще я так горячо не молился Богу» [Улицкая 2007: 130]. И на протяжении всей войны, во всех трудностях Господь поддерживал и указывал верный путь Даниэлю Штайну. И в конце-концов это привело к тому, что он принял католичество, крестился, а после войны стал монахом. Конечно же, очевидна избранность героя, его приближенность к Богу.
После такого чудесного спасения Даниэль решил стать поляком с немецкими корнями, и это ему удалось, ведь в документах значилось истинно немецкое имя – Дитер Штайн. Судьба? И позже он обосновывается в одной белорусской деревне, где был сапожником, учителем немецкого, а завершилось все тем, что Даниэля Штайна приняли на службу в полицию переводчиком. Трудное решение, принять которое мог только очень сильный человек («…тогда мне пришло в голову, что, работая с Семеновичем, я наверное, смог бы спасти кого-то из тех, за кем охотится полиция. Сделать хоть что-то для людей, нуждающихся в помощи» [Улицкая 2007: 136]). Именно с этого поступка берет начало дальнейшая деятельность Дитера Штайна по спасению белорусов, которые подвергались наказаниям из-за того, что не понимали, чего от них требуют; поляков, но, к сожалению, в облаве на польский народ спасся всего один человек, остальные не поверили предупреждению Даниэля. Но самым главным и ключевым поступком стала организация побега евреев из Эмского гетто, за что Даниэль чуть не поплатился жизнь, однако все в руках Божьих.
В Эмске Дитер Штайн служил в гестапо. Даниэль так говорит о полезности своего выбора: «И все-таки мне довольно часто удавалось помочь людям, на которых соседи писали доносы. Большую часть разбирательств я вскоре стал вести самостоятельно, и мне удавалось защитить невинных… способствовать справедливости. Я постоянно искал случая сделать что-нибудь для людей – это было единственное, что давало мне силы прожить день с утра до вечера [Улицкая 2007: 237]. Молодой человек, рисковавший собственной жизнью ради других, отважившийся на организацию побега из гетто и веривший в себя и Бога, поистине праведник («…я чувствовал, что несу ответственность за многих людей. Брать ответственность на себя важнее, чем исполнять приказ. Я благодарен Богу, что он наградил меня этим качеством» [Улицкая 2007: 271]).
Роковая ночь с 9 на 10 августа 1942 года изменила жизнь не только спасшихся евреев, но и Даниэля. Двадцатилетний парень организовал масштабный побег, эвакуацию, обреченных на смерть евреев. Эстер Гантман так говорит об этом: «На самом деле все организовал один еврей, молодой парнишка, Дитером его звали» [Улицкая 2007: 18]. Исаак Гантман вспоминает о весне 1945 года: «…мы с Эстер первым же поездом выехали из Белоруссии в Польшу, с нами ехал молодой еврей Дитер Штайн, который сыграл решающую роль в спасении части людей из Эмского гетто. То есть это был тот человек, который спас нам жизнь» [Улицкая 2007: 111]. Вот они свидетельства героизма главного героя романа, его любви к ближнему.
На следующий день тайное стало явью, и Даниэль был арестован, однако ему удалось сбежать из заключения. А убежищем для него стал женский монастырь, где он знакомится с Новым Заветом, позже одна из монахинь крестила его. Чтобы оградить сестер от полиции, Даниэль Штайн уходит из монастыря и попадает в партизанский отряд, где к нему приходят мысли о монашестве («Меня очень удручало положение женщин в отряде… Мне было очень жалко женщин… Наверное, именно тогда я стал думать о монашестве» [Улицкая 2007: 359]).
В записках Исаака Гантмана мы встречаем следующее: «Штайн представлял собой странный казус: с одной стороны, Штайн – герой войны, совершивший подвиг; с другой – ему еще пришлось и оправдываться, что он служил в гестапо…» [Улицкая 2007: 113]. Действительно, довольно интересное стечение обстоятельств, подобное мы уже встречали в другом романе Л. Улицкой – «Казус Кукоцкого». Павел Алексеевич Кукоцкий – врач-гинеколог, выступал за легализацию абортов. Прослеживается общность в образах Павла Алексеевича и Даниэля Штайна – помогать людям вопреки устоявшимся нормам, ломать определенные стереотипы и доказывать, что аборты и служба в гестапо не делают человека плохим.
На протяжении всей послевоенной жизни Даниэль помогал людям, приходившим к нему с самыми различными просьбами и проблемами. Из разговора Авигдора Штайна с Эвой Манукян: «А эти все его люди – беспомощные, потерянные. И брат стал при них социальным работником – бумаги им писал! Учиться устраивал» [Улицкая 2007: 156]. Он принимал у себя и бездомных, и наркоманов, некоторые из которых становились на ноги и начинали новую жизнь. В трудный момент Даниэль поддержал забеременевшую девочку Дину Коген, после рождения сына с диагнозом гидроцефалия, помог найти врача и собрать деньги на операцию.
Был в жизни Даниэля и другой пример, когда он стал соучастником убийства, когда под угрозой расстрела каждый десятый житель одной деревни. Выход нашли: вывели лесника, который доносил немцам на партизан, и семнадцатилетнего умственно отсталого парня («…обоих расстреляли – лесника и дурачка. Дом лесничего сожгли. Но только один дом, а не всю деревню. Потом я узнал, что у лесника было одиннадцать детей. И дурачок, ни в чем не повинный…» [Улицкая 2007: 616]). В данном случае мы можем проводить параллель с киноповестью Д. Соболева «Остров». Однако разница между отцом Анатолием, совершившим убийство во спасение собственной жизни, и Даниэлем, спасшим целую деревню (250 человек), велика. Они искупили свои грехи молодости служением Богу, молитвами и помощью нуждающимся.
Перед автокатастрофой Даниэль вспомнил большое количество смертей, увиденных им в жизни. Но «есть две смерти, которые никуда не ушли, эти двое справа и слева стоят, тощий огромный лесник и слабоумный мальчишка, которых отправил на расстрел в 42-м году… Сказал – вот эти. Лжесвидетель. И двадцать молодых и здоровых мужиков были спасены, а предатель был расстрелян, а вместе с ним деревенский дурачок, ни в чем не повинный… Что же я сделал? Что я сделал тогда? Еще одного святого для Господа, вот что я сделал…» [Улицкая 2007: 668]. Сам себе отец Даниэль так и не простил проступка молодости, но он верил, что тот мальчик, стал приближен к Богу – стал святым, который, может быть, постоянно был рядом с ним и оберегал от зла, помогал найти нужное решение в определенной ситуации.
Таким образом, мы можем говорить о том, что Даниэль Штайн – праведник. Мать Иоанна сказала, что «святой – существо тихое, незаметное, спит под лестницей, одет неприметно» [Улицкая 2007: 550]. Эти слова полностью подходят к Даниэлю, и сама матушка так отозвалась о нем: «Он у нас человек неприметный, всю жизнь где-то под лестницей живет» [Улицкая 2007: 551].
Характеристика «всю жизнь где-то под лестницей живет» довольно интересна, и у нас в одночасье возникает ассоциация с юродивыми и даже с Веничкой из поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки». Однако понятно, что мать Иоанна употребляет это выражение в переносном смысле, показывая читателю, что Даниэль Штайн не был избалован бытом. Это черта блаженных Христа ради.
В романе мы находим еще несколько характеристик, позволяющих говорить, что в образе Даниэля присутствуют черты юродивости. Эстер Гантман в разговоре с Эвой Манукян произносит следующие слова: «Он сел на пенек и начал говорить о Христе… Я думаю, он помешался немного» [Улицкая 2007: 18]. Почему она так решила? Все просто, Эстер удивилась, как можно рассуждать о Боге в войну, да еще когда рядом немцы. Подобное отмечает и Эфраим Цвик в письме к Авигдору Штайну: «Дитер, конечно, сумасшедший, но не в том смысле, как мы это обычно понимаем… в голове у него – чистое безумие, именно на божественной почве» [Улицкая 2007: 34].
Внешний вид Даниэля тоже был необычен: он не носил рясу, а ходил в мирской одежде. Вещи донашивал после Авигдора и не любил новые («…он вначале ходил в этом облачении, а потом снял, ходил как все люди. Очень любил после меня одежду донашивать. Он новую одежду не любил» [Улицкая 2007: 62]). Павла Кочинского встречает в растянутом свитере и соломенной шляпе. Странное одеяние для монаха.
Как и юродивые Даниэль Штайн не отвечал злом на зло и критиковал папскую власть. Вот традиционный житийный ход – противопоставление себя окружающим и церкви.
Следовательно, Даниэль был праведником с некоторой долей юродства.
Современная литература, как мы видим, несмотря на свои, на первый взгляд, принципиальные отличия от древнерусской литературы, продолжает развивать традиции последней и дает возможность по-новому оценивать произведения русской классики и современных авторов.
Заключение
Сегодня происходит возвращение к духовным и культурным ценностям прошлого, что говорит об «очеловечивании» современного общества. Конечно, это всего лишь капля в море, тем не менее, всевозрастающий интерес к церкви, христианским обычаям и традициям приводит к тому, что человек «добреет». Русская литература только этому и учила, начиная с древних времен.
Традиции в нашей литературе достаточно сильны. Хорошо это видно даже в произведениях нового времени, когда и в них мы находим влияние древней русской литературы, и вдвойне приятно, что в современных текстах можно найти влияние достаточно сложного жанра жития.
Говорить, что современная проза точь-в-точь следует агиографическим традициям, конечно же, нельзя. Спорен вопрос и о том, думал ли писатель о житийных канонах, когда писал произведение. Почему?
Л. Улицкая не дает прямых отсылок к агиографическим источникам, послужившим фундаментом для ее произведения, не говорит о связях с древнерусской литературой, поэтому проводить параллели с жанром жития мы можем только с нашей точки зрения. Но это представляется нам возможным и актуальным именно сейчас.
Таким образом, рассмотрев произведение современной литературы, мы можем сказать, что в романе Л.Е. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» прослеживаются не только традиции агиографической литературы, но и их трансформация.
Список использованной литературы
-
Апухтина, В.А. Современная советская проза (60-е – начало 70-х годов) / В.А. Апухтина. – М.: Высш. школа, 1977. – 176 с.
-
Архимандрит Лазарь. Грех и покаяние последних времен. М.: Издательство Сретенского монастыря, 1998. 114 с.
-
Безумием мнимым безумие мира обличившие. Блаженные старицы нашего времени (XIX – XX вв.). – М.: Русскiй Хронографъ; Паломник, 2006. – 386 с.
-
Бобровская, И.В. Агиографическая традиция в творчестве В.М. Шукшина: дис. … канд. филол. наук / Бобровская Ирина Викторовна. – Барнаул, 2004. – 205 с.
-
Богданова, О.В. Постмодернизм и современный литературный процесс: дис. … д-ра филол. наук / Богданова Ольга Владимировна. – СПб., 2003. – 481 с.
-
Большая литературная энциклопедия / Красовский В.Е. и др. М.: Филол. о-во «СЛОВО»: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. 845 с.
-
Бородич, Е.А. Формирование нравственных ценностей подростков на материале уроков литературы / Е.А. Бородич // Особенности духовно-нравственного формирования личности в современных условиях: сборник докладов Всерос. науч.-практ. конф. г. Михайловка Волгоградской области, 22 – 24 октября 2008 г. – Волгоград: Издательство «Бланк», 2008. – С. 45 – 49.
-
Бугрова, Н.А. Роман Ю.В. Трифонова «Старик»: творческая история создания. Поэтика. Литературные традиции: дис. … канд. филол. наук / Бугрова Наталья Александровна. – Волгоград, 2004. – 232 с.
-
Водовозов, Н.В. История древней русской литературы / Н.В. Водовозов. М.: Просвещение, 1972. 383 с.
-
Воронков, Д.А. Трансформация смеховых древнерусских традиций изображения действительности в современной литературе / Д.А. Воронков // XI региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области. г. Волгоград, 8 – 10 нояб. 2006 г.: тез. докл. – Напр. 13 «Филология». – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2007. – С. 26 – 28.
-
Георгиевский, А.С. Русская проза малых форм последней трети XX века: духовный поиск, поэтика, творческие индивидуальности: дис. … д-ра филол. наук / Георгиевский Алексей Сергеевич. – М., 2004. – 336 с.
-
Гольденберг, А.Х. Фольклорные и литературные архетипы в поэтике Н.В. Гоголя: автореф. дис. … д-ра филол. наук / Гольденберг Аркадий Хаимович. – Волгоград, 2007. – 44 с.
-
Гудзий, Н.К. История древней русской литературы / Н.К. Гудзий. М.: Просвещение, 1966. 544 с.
-
Егорова, Н.А. Проза Л. Улицкой 1980 – 2000-х годов: проблематика и поэтика: автореф. дис. … канд. филол. наук / Егорова Наталья Александровна. – Астрахань, 2007. – 24 с.
-
Ермошина, Г. Людмила Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света [Электронный ресурс] / Г. Ерошина // Знамя. – 2000. – № 12. Режим доступа: http://magazines.russ.ru.
-
Жирмунский, В.М. Теория литературы: поэтика, стилистика / В.М. Жирмунский. – Л.: Наука, 1977. – 314 с.
-
Лейдерман, Н.Л. Современная русская литература: 1950 1990-е годы: в 2 т. Т. 2. 1968 1990: учеб. пособие / Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 688 с.
-
Лукьянчикова Н.В. Трансформация агиографической традиции в произведениях Н.С. Лескова о «праведниках»: дис. … канд. филол. наук / Лукьянчикова Наталья Владимировна. – Ярославль, 2004. – 169 с.
-
Маркова, Т.Н. Формотворческие тенденции в прозе конца XX века (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин): автореф. дис. … д-ра филол. наук / Маркова Татьяна Николаевна. – М., 2004. – 46 с.
-
Мелетинский, Е.М. Литературные архетипы и универсалии / Е.М. Мелетинский. – М.: Просвещение, 2001. – 350 с.
-
Ребель, Г. Людмила Улицкая: еврейский вопрос? [Электронный ресурс] / Г. Ребель // Дружба Народов. – 2007. – № 7. Режим доступа: http://magazines.russ.ru.
-
Ремизова, М. Казус Людмилы Улицкой / М. Ремизова // Континент. – 2002. – № 112. – С. 402 – 405.
-
Русская проза конца ХХ века: учеб. пособие / В.В. Агеносов [и др.]; под ред. Т.М. Колядич. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 424 с.
-
Русские святые: 1000 лет русской святости / Жития собрала монахиня Таисия (Татиана Георгиевна Карцева). СПб.: Азбука-классика, 2001. 752 с.
-
Улицкая, Л.Е. Даниэль Штайн, переводчик / Л.Е. Улицкая. М.: Эксмо, 2007. – 704 с.
-
Федотов, Г.П. Святые Древней Руси / Г.П. Федотов. М.: Московский рабочий, 1991. 290 с.
13
-
Исторический факт и художественный образ в древнерусской литературе.
Литература
долгое время, вплоть до XVII
в., не допускала литературного вымысла.
Древнерусские авторы писали и читали
только о том, что было в действительности:
об истории мира, стран, народов, о
полководцах и царях древности, о святых
подвижниках. Даже передавая откровенные
чудеса, они верили в то, что это могло
быть, что
существовали фантастические существа,
населяющие неведомые земли, по которым
прошел со своими войсками Александр
Македонский, что в мраке пещер и келий
бесы являлись святым отшельникам, то
искушая их в образе блудниц, то устрашая
в облике зверей и чудовищ. Рассказывая
об исторических событиях, древнерусские
авторы могли сообщить разные, порой
взаимоисключающие версии: иные говорят
так, скажет летописец или хронист, а
иные — иначе. Но это в их глазах было
всего лишь неосведомленностью
информаторов, так сказать, заблуждением
от незнания, однако мысль, что та или
иная версия могла быть просто придумана,
сочинена, и тем более сочинена с чисто
литературными целями, — такая мысль
писателям старшей поры, видимо, казалась
неправдоподобной. Это непризнание
литературного вымысла также в свою
очередь определяло систему жанров, круг
предметов и тем, которым могло быть
посвящено произведение литературы.
Вымышленный герой придет в русскую
литературу сравнительно поздно — не
ранее XV
в., хотя и в то время он долго еще будет
маскироваться под героя далекой страны
или давнего времени.
Откровенный
вымысел допускался лишь в одном жанре
— жанре аполога, или притчи. Это был
рассказ-миниатюра, каждый из персонажей
которого и весь сюжет существовали лишь
для того, чтобы наглядно проиллюстрировать
какую-либо идею. Это был рассказ-аллегория,
и в этом заключался его смысл.
В
древнерусской литературе, не знавшей
вымысла, историчной в большом или малом,
сам мир представал как нечто вечное,
универсальное, где и события и поступки
людей обусловлены самой системой
мироздания, где вечно ведут борьбу силы
добра и зла, мир, история которого хорошо
известна (ведь для каждого события,
упоминаемого в летописи, указывалась
точная дата — время, прошедшее от
«сотворения мира»!) и даже будущее
предначертано: широко распространены
были пророчества о конце мира, «втором
пришествии» Христа и Страшном суде,
ожидающем всех людей земли.
-
Влияние фольклора на древнерусскую литературу.
Древнерусская
литература появляется с возникновением
государства, письменности и основывается
на книжной христианской культуре и
высокоразвитых формах устного поэтического
творчества. Наибольшую роль играет в
ее формировании народный эпос: исторические
предания, героические сказания, песни
о воинских походах. Княжеские дружины
в Древней Руси совершали многочисленные
воинские походы, имели своих певцов,
которые слагали и пели песни-славы в
честь победителей, величали князя и
воинов его дружины. Фольклор для древней
литературы был основным источником,
который давал образы, сюжеты, через
фольклор проникали в нее художественные
поэтические средства народной поэзии,
а также народное понимание окружающего
мира.
Фольклорные
жанры входили в состав литературы во
все периоды ее развития. Письменность
обращалась к таким жанрам народного
творчества, как предания, пословицы,
славы и плачи. И в письменности, и в
фольклоре, особенно в летописании,
использовались старые традиционные
образные выражения, символы, иносказания.
Многие предания в летописи по своим
мотивам близки к былинным, в них
используются, как и в народном эпосе,
поэтические образы врагов-великанов,
страшных чудовищ, в поединок с которыми
вступают герои, образы мудрых женщин.
Даже в исторических жанрах призывы,
прославления, плачи близки к народной
поэзии. Характерна для литературно-фольклорных
связей и близость к героическому
эпосу. Образ Бояна, пение славы князьям,
песенность и ритмичность строя,
использование повторов, гипербол,
родство образов героев с былинными
богатырями, широкое использование
народнопоэтической символики
(представление о битве как о посеве,
молотьбе, о свадебном пире) характерно
для древнерусской литературы. К
символическим образам близки сравнения
героев с кукушкой, горностаем, Буй-Туром.
Природа в древней литературе, как и в
народной поэзии, печалится, радуется,
помогает героям. Характерен мотив
превращения героев, как в сказках, в
животных и птиц. Используются одинаковые
выразительно-изобразительные средства:
параллелизмы («солнце светит на
небесах — Игорь князь в русской земле»),
тавтология («трубы трубят», «мосты
мостить»), постоянные эпитеты
(«борзый конь», «черная земля», «зелена
трава»). Иносказательна речь героев,
символичны картины видений. Наличие
художественных средств в отдельных
произведениях говорит об их близости
к народнопоэтической системе. Связь с
фольклором ощутима почти в каждом
произведении древней литературы, где-то
они более заметны, где-то менее. Некоторые
жанры близки к песенным лирическим
жанрам народной поэзии — это славы и
плачи, в них народный язык, народные
образы и интонация («о, светло светлая
и красно украшенная»).
В
XVI и особенно в XVII веках древняя литература
все более сближается с народным
творчеством. Это объясняется как общими
социально-историческими факторами
развития русского государства, так и
своеобразным характером литературы
этого времени. Появляется новый
демократический читатель — селянин,
мужик, купеческий сын, служилый человек.
Сама литература становится более
демократичной и отходит от сдерживающих
ее развитие канонических норм. В ней
развивается светское начало. Писатель
теперь обладает большей свободой
художественного творчества, правом на
вымысел. Появляются новые жанры: бытовые
и сатирические повести, новые темы,
новые герои. Древние книжники в своих
произведениях используют живой
разговорный язык и более широко обращаются
к фольклору. Сатирические бытовые
повести представляют обработку сказочных
сюжетов, близки к народному поэтическому
творчеству в обрисовке действующих
лиц, комических ситуаций, напоминающих
сказочный комизм.
Близость
к фольклору сказывается и в обрисовке
действующих лиц. Так, имя Ерша Ершовича
напоминает сказочные имена —
Ворон-Воронович, Сокол-Соколович,
Змей-Змеевич. Как в народных сказках, в
древней литературе представлен образ
бедного, но находчивого и хитрого мужика,
обманувшего судью («Повесть о Шемякином
суде»). Также в литературе этого времени
сюжет произведения берется из народных
русских лирических песен («Повесть о
Горе-Злочастии»), где Горе преследует
замужнюю женщину или доброго молодца.
Само название народное. Образы Горя
и Молодца создаются в традициях народного
творчества: те же художественные приемы
— параллелизмы, постоянные эпитеты,
сравнения, что присутствуют в фольклорных
произведениях. Стих близок к былинному.
Многие
древние писатели были весьма близки к
искусству устного слова. Древнерусская
повествовательная литература соотносилась
с жанрами народного творчества.
В
средние века фольклор дополнял литературу,
это были, по словам В.П. Адриановой-Перетц,
«две тесно спаренные области». Система
литературных жанров дополнялась рядом
фольклорных, существовала параллельно
с фольклорными жанрами. Однако между
фольклором и древней литературой
существует и более глубокая связь:
традиционные образы, сравнения, метафоры
восходят к общим генетическим корням.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
История вопроса
Литература, посвященная народному почитанию святых в различных его аспектах, чрезвычайно обширна. Научный интерес к фольклору на самой ранней стадии его изучения не мог не обратиться к особенностям народной религиозности в ее отношении к «официальной» религии и к народной культуре в целом, как она виделась в соответствующие эпохи. В этой связи возникает, получает крайне широкое распространение и долгую жизнь идея о преемственности культа языческих божеств и христианских святых. Отдельные главы, посвященные этому, находим в «Поэтических воззрениях славян на природу» А. Н. Афанасьева [Афанасьев, 1994. т. 1, 469–487], где автор утверждает: «Как Илья-пророк сменил в народных поверьях и мифических сказаниях Перуна, так точно древнее поклонение языческой богине весенних гроз и земного плодородия — Фрее или Ладе — было перенесено на пречистую Деву Марию» [Там же, 483]. С легкостью, свойственной эпохе и научной школе, к которой автор принадлежал, А. Н. Афанасьев настаивает на преемственности почитания Богородицы по отношению к культу малодостоверной (точнее сказать — вымышленной) древнеславянской «богини», относя на этот счет все сюжеты, мотивы, обряды и верования, которые, как кажется, не могут быть объяснены собственно исходя из традиций христианства.
Эта идея оказалась крайне продуктивной и популярной, ее не обошли в своих исследованиях и позднейшие ученые, хотя и более взвешенно подходившие к подобным отождествлениям. Так, в капитальном труде, посвященном культу св. Георгия, А. Н. Веселовский крайне осторожно утверждает, что в кавказских обрядах жертвоприношения быка, посвященных этому святому, усматривается связь с легендой о змееборчестве, которая, в свою очередь, может быть связана с древнеиранской мифологией [Веселовский, 61–70].
В советский период по вполне очевидным причинам концепция преемственности между языческими и христианскими культами стала едва ли не единственно возможным ракурсом исследования народного христианства, будучи одновременно использованной и в антирелигиозной пропаганде. Следование этой концепции позволяло вообще хоть в какой-то мере сделать христианские культы предметом научного рассмотрения. В 30-е гг. весьма успешно занимался исследованиями народного православия, в том числе и полевыми, Н. М. Маторин, в частности, посвятивший целую монографию народному культу св. Параскевы Пятницы и Богородицы. По утверждению автора, св. Параскева, равно как Богородица, Ксения Петербургская и ряд других женских христианских персонажей переняли в народном почитании черты и функции женских божеств [Маторин-1931]. Сопоставление, которое дает этнограф, имеет крайне широкий характер, привлекаются разнообразные мифологии других народов, правда, далеко не всегда оправданно и мотивированно: «Легенды о преследовании Пятницы или Богородицы лешим, дьяволом, наконец, пастухами примыкают к разбираемым нами сюжетам. Наиболее древним является первый вариант (леший-преследователь), который сопоставляется с мифом об Аполлоне, преследующем Дафну, и с украинской легендой о девушке, спрятавшейся в липу, подобно древнегреческой дриаде, древесной нимфе. Дьявол — уже элемент христианизации в легенде. Пастух сменяет закономерно охотника, который виден в Актеоне или даже Аполлоне, поражающем змея Пифона. Уже для христианского Востока интересен охотничий и пастушеский святой Созонт, которого в заклинаниях часто смешивают с Сисинием. Созонт был пастухом, назывался Тарасом или Тарасином и в крещении назван Созонтом. […] Охотники молились Созонту, оттягивая лук; пастухи чаяли от него “множество и здравие во стадех и кипение млека и сыры благоядный” [sic. — А. М.]». Вероятно, Созонт — наследник какого-либо местного героя, оставившего христианскому святому и свои реликвии. Обращаем внимание на сходство культа Созонта с нашими северными обычаями вешать на дереве пастушеский кнут, как это было в Пюхтице и Ильешах. Пастушеский кнут на дереве, посвященном Пятнице (береза), а впоследствии Богородице, сменившему ее христианскому божеству, означает ту «пугу», плеть, которой снабжен Перун, небесный пастух» [Там же, 94–95]. Если Богородица и женщины-святые соотносятся с женским божеством (женщина-небо, женщина-дерево, женщина-вода) [Там же, 23–32], то почитание других святых или обряды, исполняемые в связи с этим почитанием, являются продолжением, развитием, переосмыслением почитания других божеств и языческих обрядов [Маторин-1930, 16–28]. При этом Н. М. Маторин отказывается от термина двоеверие, полагая его неточным и научно, и идеологически как работающий на попов, отстаивающих свое, «чистое» православие от языческих примесей, в то время как никаких примесей нет. Православное богослужение есть, по утверждению исследователя, та же жреческая церемония. «Православие на русской или финской почве уже не то, какое оно было под греческим небом. Но и древние народные верования не исчезли начисто. Магические и анимистические представления старого язычества слились, амальгамировались с подобными же элементами христианского мировоззрения». На этом основании автором предлагается использование термина православное язычество [Маторин-1931а, 5–6].
Концепция преемственности отражена и в труде Б. А. Успенского, посвященном исследованию связи в народном культе св. Николая Мирликийского и восточнославянского языческого божества Волоса/Велеса [Успенский]. Рассматривая черты народного почитания святителя Николая, ученый видит в них признаки поклонения скотоводческому божеству, останавливается подробно на почитании изображений святого и приписывания им свойств изображаемого (что напоминает идолопоклонство), усматривает в легендарных сюжетах, связанных со св. Николаем и рядом других святых, черты «основного мифа», причем эта преемственность отнюдь не понимается как исключительно восточнославянская или даже общеславянская. «Мы должны предположить […], что уже греческий образ данного святого заключает в себе определенные предпосылки, способствующие подобному отождествлению, в результате чего в процессе усвоения христианства на той или иной конкретной территории св. Николай и может ассоциироваться с тем языческим богом, который генетически связан с мифологическим противником Громовержца, воспринимая те или иные специфические признаки и функции этого бога и выступая как его христианский заместитель; на восточнославянской почве таким богом и был, как мы видели, Волос ~ Велес. В этом случае сходная рецепция св. Николая в разных культурных и этнических ареалах объясняется не только генетически, но также и типологически» [Успенский, 117].
Многочисленные попытки соотнесения особенностей почитания отдельных святых, черты разнообразных народнохристианских верований и обрядов с дохристианскими, «языческими» и т. п. верованиями и ритуалами обладают разной степенью достоверности. Исследователи часто прибегают к этому методу при описании культов отдельных святых. Так, в работах П. Ф. Лимерова, посвященных почитанию св. Стефана Пермского (в фольклорных текстах Степана) у коми и его народной агиографии [Лимеров-2008, Лимеров-2008а], напрямую устанавливается связь между почитанием этого святого и коми мифологией: «Существенным фактором для обожествления было влияние языческой мифологии на образ Степана. Утверждаясь в неокрепшей еще христианской религиозности пермян XVI–XVII вв., образ Степана так или иначе подвергался мифологизации, принимал черты культурного героя. Можно предположить, что на начальном этапе он воспринимался как бог-медиатор, типа Мир-Сусне-Хума обских угров, обеспечивающий посредничество между миром людей и небом. Есть несколько точек соприкосновения между этими, казалось бы, разными образами. Как и Степан, Мир-Сусне-Хум является небесным посланцем на землю, он — “ народ созерцающий человек”, ходатай за каждого из людей перед небесным Богом» [Лимеров-2008, 14]. Существенными аргументами для автора оказываются совершенные святым чудеса, которые соотносятся с чудесами самого Христа, а также культуртрегерская деятельность святого, соотносимая с деятельностью коми божеств. Не ускользает от внимания ученого и то, что в фольклорных нарративах о крестителе перми он именуется богом: «Основной сюжетный мотив в приведенном тексте — топонимический, репрезентирующий происхождение названия дер. Ляли, но рассказчик многократным повторением мотива плавания как бы смещает смысловой ракурс текста на неординарный образ самого путешественника, так что вопрос собирателя: “А кто он такой?” звучит вполне закономерно, он подготовлен рассказыванием. Кроме того, закономерен и ответ информатора: “Бог!”, вопрос был ожидаем, поскольку к такому ответу и было имплицитно направляемо повествование» [Там же, 13]. Далее автор пускается в рассуждения, что Христос и святые в коми картине мира представляют собой иерархию языческих богов. При этом автор, кажется, забывает, что записи, о которых он говорит, сделаны в наше время, а не во время крещения коми или канонизации Стефана, и не учитывает, что то же наименование дается святым и в русском языке, причем едва ли употребление слова бог применительно к святым или их изображениям может свидетельствовать о сохранившемся на протяжении тысячелетия рефлексе политеизма, существование которого у славян вообще под большим вопросом. Скорее, здесь следует говорить о языковом освоении пространства сакрального, использовании корня бог- в качестве маркера для разграничения сакрального и мирского (ср. бог — икона; божница — красный угол, место, где держат богов в упомянутом только что значении этого слова; божественная старушка — богомольная; убогий, небога — нищий странник, воспринимаемый как носитель сакральной информации, и проч.).
Этот же подход распространен и в западной науке. При рассмотрении народного культа отдельных святых ученые в той или иной степени отсылают читателя к существовавшим на описываемой территории языческим мифологиям: античной греко-римской, кельтской, германской. Например, по утверждению одного из первых исследователей, занимавшихся культом апостола Иакова в Галисии, — Гарольда Пика, — связанное с культом Сант-Яго (св. ап. Иакова) почитание мегалитических сооружений восходит к языческим верованиям местных крестьян, которые, будучи номинально христианами, по-прежнему поклонялись идолам, так что, когда в VII в. в Испанию пришли сарацины, местные жители с легкостью приняли ислам, столь же номинально, сколь и христианство [Peake, 212]. О Pico Santo — священной скале, на которой, согласно легенде, был погребен Сант-Яго, как месте более древних языческих культов пишет Г. Хаус, продолжая исследования Г. Пика [Howes, 138–139]. При этом он, настаивая на доисторическом времени начала почитания соответствующего места (Pico Santo и расположенный на нем дольмен), отказывается от попытки отделить языческое от христианского и говорит о подмене прежнего, друидского смысла почитания камней более поздним, христианским [Там же]. Следы древней языческой мифологии склонна видеть в почитании Сант-Яго и Рут Партингтон. Она обращается к процессии, идущей к собору Сантьяго-де-Компостелла в дни почитания святого, в которой участвуют ряженые великаны Коко и Кока (Coco, Coca), и, сопоставляя с великанами других процессий в испанской традиции, выстраивает их связь с великанами древних мифов, из которых они могли быть позаимствованы: «Goliath, the enemies of Zeus in the Gigantomachia, the giants of Germanic legend who could not bear to hear the name of Christ, all represent the pagan, the defeated enemy, the old order whether human or divine» [Partington, 361]. В частности, по мнению автора, они соотносятся с драконом, обитающим на Pico Santo и стерегущим тамошние сокровища, поскольку слово coca вообще в испанском языке обозначает змея из процессий ряженых [Там же].
Несколько более осторожно пишет на эту тему Дж. Добл, утверждая, что в культе святых сами языческие верования встречаются редко, но практики, на них основанные, очень распространены. Они переносятся на почитание святых с почитания природных объектов: озер, источников и т. п. «Age-old practices continued to be observed there, though the veneration had been transferred to the saint» [Doble, 329–330].
Дж. Соверффи, исследуя культ трех святых женщин (of the Holy Women) в Ирландии, также видит в его основе культ природных объектов, прежде всего источников, но также пытается усмотреть в нем и следы языческих культов нескольких божеств женского пола, например парок, и найти им параллели в кельтской мифологии [Szövérffy, 116]. Таким же образом Илья пророк в греческом фольклоре оказывается наследником Зевса [Варвунис, 177].
В своей не очень известной, но весьма интересной книге, посвященной народному культу святых в Савойе, этой проблемы коснулся A. ван Геннеп. Описывая в отдельных главах народное почитание разных святых, систему сакральных локусов, с ними связанных, обряды и формы поклонения им, этнограф пытается соотнести обряды поклонения некоторым из этих святых с древнеримскими языческими культами. Так, в частности, он настаивает на перенесении на св. Антония черт культа языческих (римских) богов, покровителей скота, посевов и проч. [van Gennep, 45–59], а в почитании св. Клары видит остатки культа Меркурия. Эти замечания ученый делает основываясь на патронажных функциях соответствующих святых [Там же, 84–85].
В польской науке большая роль в изучении народного культа святых принадлежит Владиславу Барановскому. В статье, специально посвященной квазисвятым, он размышляет о причинах крайне сильно развитого в польской народной традиции почитания христианских подвижников. При этом этнограф замечает, что польский народный католицизм скорее может быть назван политеизмом, чем монотеизмом [Baranowski-1979, 43-44]. Популярность культа святых как политеистической религии способствует и возникновению новых имен и персонажей, не почитаемых официально как святые. Вместе с тем B. Барановский не склонен абсолютизировать этот подход и несколько ранее в другой статье, посвященной дню Петра Паликопы (день Поклонения веригам апостола Петра), замечает, что отнюдь не обязательно народные культы основаны на языческих обрядах и верованиях и что в их основе могут лежать и куда более поздние исторические, культурные и религиозные явления [Baranowski-1969, 897].
Одним из немногих оппонентов теории преемственности выступил А. В. Попов. Внимательно рассматривая взаимосвязь народного почитания святых с церковной книжностью, он находит корни многих фактов народного православия не в язычестве, а в особым образом понятом и интерпретированном христианстве. Правда, автор в своем исследовании не избежал обратной тенденциозности: пытаясь показать «влияние церковного учения и древнерусской духовной письменности на миросозерцание русского народа», он часто выдает желаемое за действительное [Попов-1883].
Понимание того, что язычество не есть единственное и обязательное объяснение отклонений народного почитания святых от форм и рамок, предлагаемых Церковью и принимаемых как канонические (хотя сам канон тоже крайне размыт), постепенно становится все более распространенным, и все больше появляется работ, в которых наряду с попытками связать «неканонические» проявления культа святых с дохристианскими верованиями высказываются гипотезы об иных путях и источниках таких «отклонений». Так, в работе, посвященной святым-целителям, Роберто Лионетти утверждает, что хотя лечебные практики, связанные со святыми, опираются на дохристианские верования и практики, все же целительские функции атрибуируются святым на основании интерпретации их житий и имен [Lionetti, 138]. Примерно то же утверждает Дороти Брэй, автор единственного, кажется, указателя мотивов житий святых. По ее мнению, хотя, несомненно, сюжеты, связанные с ирландскими святыми, имеют корни в ирландской языческой традиции, но в значительно большей мере они базируются на христианской культуре и ориентированы на ранние иудео-христианские источники [Bray, 16]. О влиянии фольклора (собственно, сказок), которые не вполне обосннованно приписываются язычеству, на формирование агиографического корпуса текстов пишет А. Я. Гуревич: «В отношении ирландских агиографических текстов в научной литературе выяснена значительная роль народных преданий и сказок в их генезисе. Темы сказок и темы житий подвергались бессознательному смешению, языческие мотивы усваивались в житиях и легендах о святых, образуя причудливый сплав» [Гуревич, 80]. Логичнее было бы, правда, говорить о взаимосвязи фольклорной и агиографической нарративных моделей, поскольку, с одной стороны, агиография по сути своей в большей или меньшей мере опирается на устную традицию и склонна к использованию «бродячих» сюжетов и заимствованию мотивов из других, как агиографических, так и неагиографических, текстов. С другой же стороны, фольклор тоже охотно использует заимствования из книжных житийных источников.
И все же теория преемственности настолько жизнеспособна, что отказаться от нее или ограничить широту ее применения оказалось непросто. Необходимость найти и установить корни народного почитания святых через возведение его корней к малоизвестному, давно ушедшему, но столь привлекательному древнему язычеству по-прежнему ощущается многими исследователями. При этом ярлыком язычества может быть отмечен не только факт, хоть в какой-то мере достоверный, но и любой конструкт, существующий исключительно в сознании автора: «Персонажи агиографических чудес и миракул часто действуют в местах, милых сердцу язычника или, другими словами, маркированных для мифомагического сознания: у камней, деревьев, источников, которые и сами становятся объектами их чудес, в частности обретают целительную силу. В истории почитания реликвий есть, например, плоды с деревьев, растущих у могил святых» [Арнаутова, 364]; «В связи местных святых с местными водными и растительными культами, камнями и землей сказываются языческие корни почитания в святом волхва и целителя» [Шеваренкова-2004, 63].
Едва ли можно отрицать значимость источников, деревьев или могил для неких не вполне определенных язычников, но столь же сложно и признать, что эта значимость есть принадлежность культуры и мифологии именно этих самых язычников — в понимании номинальном, а не оценочном. В работах, ориентированных на выявление языческих корней почитания святых в народной культуре, далеко не всегда учитывается специфика собственно народного восприятия сакрального (христианского), зачастую обусловленная вовсе не реликтами древнего язычества, а просто ментальными особенностями и механизмами традиционной культуры, способами рецепции и интерпретации сложных богословских понятий (к каковым, в частности может быть отнесена и святость) через их связь с конкретными и осязаемыми вещами. Было бы неправильным отрицать возможность какой бы то ни было преемственности между дохристианскими верованиями и «народным христианством», однако и не стоит ее преувеличивать.
Как бы то ни было, большинством исследователей признается наличие специфики не только в народных обрядах почитания святых, но и в самом фольклорном понимании святости. Время от времени в литературе даже возникает термин народный святой применительно не к каким-то особым почитаемым именно в народе, т. е. неофициально, святым, но к тем, которые были канонизированы Церковью, однако в жизни которых либо не усматривается ничего такого, что могло бы послужить причиной их прославления как святых, либо сведения о жизни которых вовсе отсутствуют. К таким святым относят Иоанна и Логгина Яреньгских, Варлаама Керетского, Вассиана и Иону Пертоминских, Кирилла Вельского, Артемия Веркольского [Дмитриев, 256], Параскеву Пиринемскую [Лавров, 217], Иоанна и Иакова Менюшских, Иакова Боровичского и др. Почитание части из них началось с необычного обретения тела (нетленного или чудесным образом появившегося), как в случае с Иаковом Боровичским. Это дало исследователям возможность соотнести их с категорией заложных покойников и подчеркнуть значимость нетления мощей для народной культуры именно в связи с крайне распространенными и активно бытующими представлениями о заложных покойниках и о связанных с ними демонологических персонажах [Иванов, 255; Левин, 166–168; Панченко-2006, 224, Панченко-2012]. При этом называются такие признаки святых, как видимость, физическая активность, нетление тел и др. [Иванов, Измирлиева, 48; Панченко-2012, 95–211].
Ю. Е. Арнаутова охарактеризовала связь культа святых с почитанием умерших в средневековой западноевропейской культуре: «Многие исследователи склонны рассматривать культ святых и их мощей как прямое продолжение культа мертвых. Этот взгляд не лишен серьезных оснований. О. Г. Эксле показал, в частности, что подобие правовых статусов “рядового покойника” и святого, выражающееся прежде всего в признании полной правоспособности и дееспособности их как субъектов правовых отношений, свидетельствует о том, что культ святых вырос из культа мертвых, а именно из разных форм поминовения мертвых — из memoria живых о мертвых.
В практике поклонения святым много общего с дохристианским культом мертвых не только в социально-правовом отношении, но и в ритуальном. Объектами поклонения становятся не только останки святых, но и их вещи, гробница, даже пыль с нее. Платок, полежавший на священной гробнице, сам становится чудотворным, чаша, которой пользовался святой при жизни, его посох, орудия пыток, от которых претерпевали страдания мученики, и более мелкие реликвии — все это, как считалось, способно было творить чудеса и, прежде всего, возвращать здоровье страждущим» [Арнаутова, 245–246].
Иначе, исходя, скорее, из богословских позиций, нежели из этнографических или культурологических, объясняет это явление для Средневековья Л. П. Карсавин: «Через тело святого, живого или мертвого, через тело священника метафизическое переходит на и в другие объекты, особенно если человеку дано его много. Все соприкасавшееся с носителем благодати сохраняет ее. Оттого и полезно купаться в Иордане или прикасаться к могиле святого. Оттого и хранят сандалии сожженного префекта, а плащ Петра Мартира изгоняет из желудка больного большого двухголового червя, покрытого черными волосами» [Карсавин, 59].
Между тем параллелизм в народном почитании святых и культе покойников усматривается и на более глубоком, практическом уровне. Известно, что в народной культуре ряд болезней может быть излечен с применением предметов, бывших в соприкосновении с покойником (например, мыло, которым его обмывали) или даже частей тела покойного (так называемую мертвецкую/навью кость — костный нарост на теле — лечат потиранием кости с могилы неизвестного покойника [Попов-1903, 285]; в Англии веревкой от казненного через повешение исцеляли эпилепсию, для избавления от жировика или зоба рукой покойника, желательно казненного преступника, рекомендовали провести по ним 7 или 9 раз крест-накрест [Peacock, 268-269].
Однако в некоторых случаях подобная практика приобретет черты христианского церковного культа. Так, в Палермо большой популярностью пользовалась Chiesa dei Decollati (церковь обезглавленных), в которой хоронили известных преступников, тела которых было запрещено выдавать родственникам. В эту церковь приходили молиться казненным (decollati), приносили туда вотивные изображения, читали молитвы погребенным там покойникам и ждали от них ответа на просьбу, исполнения желаний, знака того, что молитвы услышаны [Peacock, 275; специальное исследование, посвященное этой церкви — Hartland].
О соотнесенности и, в известной степени, сходстве почитания определенного типа святых — «святых без житий» (определение С. А. Штыркова [Штырков-2001]), то есть тех, о земной жизни которых ничего не известно и почитание которых начинается с обретения их мощей, — с отношением к покойникам (заложным, то есть умершим внезапной или насильственной смертью, а также к забудущим, то есть чужим, забытым) пишет А. А. Панченко, указывая на это сходство как на почву, основание для наполнения фольклорного мотива ATU 1343* (Дети играют в убийство кабана) агиографическим содержанием [Панченко-2012, 143–186].
Вместе с тем, естественно, святость в народной интерпретации есть особая категория, складывающаяся из ряда признаков и черт, крайне важных для фольклорной картины мира, но несколько отличающихся от церковного понимания. Прежде всего рядом исследователей отмечается, что для носителей народной культуры она не есть следствие праведной жизни или христианского подвига. «Основание святости заключалось не в том, как жили святые, но в том, как они могли оказывать покровительство своим почитателям» [Левин, 174–175]. О том же пишут болгарские исследователи П. Иванов и В. Измирлиева, замечая, что святые, по народным представлениям, избраны, а не стали такими, заслужив это [Иванов, Измирлиева, 45], то же утверждает С. Гьюдман [Gudeman, 710] и др. При этом неоднократно констатировалось, что почитание святых обычно связано с ожиданием покровительства или чуда [Левин, 174–175], поэтому в основном народные нарративы преимущественно сконцентрированы на описании чудес, а круг почитаемых в народе святых составляют в основном чудотворцы [Иванов, Измирлиева, 45], но не мученики. Македонский ученый Т. Вражиновский отмечает еще одну особенность, лежащую в основе народного почитания святых, — связь с местом их земного пребывания и населяющими его людьми: они служат посредниками между Богом и той общиной, в которой почитаются [Вражиновски, 272]. Впрочем, это утверждение похоже на натяжку, поскольку, как видно из многочисленных примеров и исследований, святые в народных верованиях скорее могут выступать как субституты Бога, чем как посредники. А. Я. Гуревич, описывая статус святого в средневековой народной культуре, так объясняет его: «Святой — сверхъестественное существо, находящееся в непосредственной связи с высшими силами и обладающее магическими способностями. Эти способности святой применяет для того, чтобы помогать своим поклонникам, верным, облегчать их жизнь, исцелять от болезней, отвращать угрожающие им природные или социальные бедствия, освобождать “маленьких людей”, обездоленных и беспомощных, от угнетения и притеснения. За благодеяния, расточаемые им при жизни или, по большей части, после кончины, святой требует повиновения, поклонения и подарков в пользу опекаемого им церковного учреждения. Отказ от выполнения прихожанами этих обязательств либо небрежение ими влекут за собой жестокие кары со стороны святого патрона. Как мы видели, святой, будучи образцом смирения и непротивления, в то же время оказывается суровым и безжалостным карателем и мстителем» [Гуревич, 128]. В этой характеристике, начав с роли посредника, автор переходит на роль святого как самостоятельного актора, имеющего собственную власть, силу, волю. Таким образом, автор постулирует самостоятельную (а не посредническую) роль святого.
Соотношение Бога и святых в народном христианстве тоже вызывало интерес исследователей, по-разному воспринимавших и описывавших его. Так, сербский ученый Л. Раденкович, анализируя народный культ св. Саввы Сербского, пишет о сходстве и даже контаминации его с Богом [Раденковић-2001, 93]. Часто отмечается тождество или изофункциональность Бога и святых в народных легендах [например, Щепанская-2003, 434]. Однако некоторые исследователи все же пытаются разграничить функции Бога и святых, основываясь, впрочем, скорее не на реальном фольклорном материале, а на некоторой заранее созданной ими самими модели [Вражиновски, 272, 277; Арнаутова, 335]. То же замечает и E. Чупак, правда, из его рассуждений неясно, говорит ли он о книжной, церковной традиции или о народной, поскольку применительно и к житиям, и к фольклорным легендам он пользуется общим термином legenda [Ciupak, 54].
Главная функция святых — это покровительство человеку и помощь ему в сложных жизненных обстоятельствах. Церковная репрезентация святого может перестраиваться в соответствии с этими ожиданиями. Если в книжном агиографическом каноне святой предстает как борец или жертва борьбы за веру, на основании его деяний, память о которых хранится, то в традиционной культуре этот начальный импульс переработан так, чтобы отвечать модели защитника и помощника [Детелић, 125]. На этом ожидании помощи основан крайне широко распространенный в христианстве, и не только народном, институт патронажа. Попытки понять механизм, по которому тем или иным святым делегируются определенные функции, занимают значительную часть всей литературы, посвященной народному культу святых. Наиболее очевидным основанием для какой-либо «специализации» святых часто называются житийные тексты и/или основанные на них легенды, а также иконография [Попов-1883, 112–116; Левин, 91; Baranowski-1970, 56; Muzur, Rotschild, Skrobonja, 31–32, Tomicki, 45; Lionetti, 138 и др.]. Однако определенно существуют и иные механизмы, более сложные и менее очевидные. Один из них, крайне продуктивный, хотя и никак не оправданный с точки зрения официальной Церкви, — народная этимология, когда функция приписывается святому на основании паронимической аттракции ее названия к имени святого. Эту тему одним из первых затронул И. Делеэ [Delehaye, 32–33], затем к ней обращались многие ученые [van Gennep, 84–92; Muzur, Rotschild, Skrobonja, 35; Lionetti, 138; Варвунис, 180 и др.].
Значительный вклад в исследование языковых механизмов почитания святых внес болгарский ученый Рачко Попов. В ряде своих работ он показал на южнославянском материале, как из разнообразных интерпретаций имен святых и названий праздников, отмечаемых в их память, возникают не только функции соответствующих святых, но и целые тексты, описывающие их квазибиографию и квазиродственные связи с другими святыми [Попов-2004; Попов-2002, 77–78; Попов-2009]. На русском материале эта тема хорошо разработана А. Ф. Некрыловой [Некрылова-2002; Некрылова-2004; Некрылова-2004а]. При этом рядом ученых отмечалось, что святые и календарные дни их памяти могут отождествляться, и часто, говоря о празднике, носители традиции говорят о нем как о святом и наоборот. Наиболее детально эта тема разработана в монографии С. М. Толстой «Полесский народный календарь» [Толстая-2005, 377–384], а также в упомянутых уже работах Р. Попова и А. Ф. Некрыловой.
Важная составляющая фольклорного концепта святости — сходство святых с колдунами. Оно может проявляться как на уровне ожидаемой помощи или вреда (святые в народной культуре бывают злы и мстительны [Lionetti, 138]), так и на уровне языка, которым описываются действия святого [Карсавин, 255–256; Шеваренкова-2004, 62; Лимеров-2008, 3]. Об этом же пишет и А. Я. Гуревич: «Не сливались ли подчас в сознании простого народа святой и колдун? Различие между амулетами, строго запрещенными духовенством, и святыми реликвиями не было понятно большинству населения. Почему считалось греховным применение зелья, но рекомендовалось бить в колокола, чтобы отогнать грозу? Священники осуждали средства, применяемые гадателями и знахарями для лечения больных, но соглашались с тем, что пыль с алтаря или мешочек с прахом, взятым с гробницы мученика, обладали целительными свойствами. Магия была допущена церковью в свою практику и ритуал, и грань, отделявшая христианскую магию от того, что осуждалось как malefi cia, была неопределенна и подчас ускользала от прихожан. Церковь не во всех случаях способствовала прояснению противоположности идолопоклонства христианскому культу» [Гуревич, 108–109].
Отношения между святыми и людьми выстраиваются посредством исполнения обрядов. Исследования этой обрядности тоже проводились давно и плодотворно. Во многом они повторяют основные вехи в изучении самого восприятия святых в народной культуре и в известной мере служат основанием для дальнейших обобщений. В этой связи одним из наиболее исследованных аспектов можно считать соотношение обрядов и ритуальных практик почитания святых с традиционными народными обрядами, выявление их корней в культе святых. Основная тенденция в этом направлении исследований заключается в попытке показать связь традиционной (не — или дохристианской) обрядности, культа языческих богов, сил природы или природных объектов с культом святых. В особенности привлекает внимание исследователей почитание источников, камней, деревьев, пещер, курганов и проч. Обрядовые практики у источников: омовение, питье, использование воды из них для дальнейшего окропления дома и хозяйства, выливание нескольких капель воды на землю в момент ее наливания из источников и т. п. — рядом ученых рассматриваются как древний обряд, перешедший в ритуальные формы почитания святых из-за изменения понимания сакрального и объекта поклонения [Маторин-1931, 29; Szövérffy, 113–115]. Подчеркивая значимость почитания источников в народной культуре в целом и в частности для культа святых, Дж. Соверффи вводит особый термин well-lore для обозначения связанного с ними корпуса текстов и верований. Обширная литература существует также о почитаемых камнях, их связи с древнейшими культами и роли в современной народной культуре [Богатырев-1916; Порфиридов; Троицкий и др.].
Вместе с тем неоднократно отмечалось, что связь почитания источников, деревьев, камней и проч. природных объектов с культом святых — нормальная практика, которая может иметь собственные корни и мотивирована самыми особенностями фольклорного отношения к святости [van Gennep, 68; Макаров, 207-208; Макаров, Чернецов, 87–88 и др.]. Это подтверждается и весьма широким распространением эпизодов обустройства колодца или источника, посадки дерева, плавания/молитвенного стояния/сидения святого на камне в житийной литературе.
Большое место роли природных объектов в современных католических обрядовых практиках уделила Мадлен Альбер-Ллорка в своей работе, посвященной обрядам и верованиям, связанным с почитанием чудотворных статуй Богородицы в Каталонии. В этой глубокой и основанной на богатом полевом материале книге исследовательница концентрируется на синхронном аспекте почитания природных объектов и рассматривает их в контексте обрядов и легенд, посвященных Божьей Матери, приходя к выводу, что деревья, камни, пещеры и источники занимают в этих обрядах органичное место и наполнены христианским содержанием (в том виде, в каком оно близко каталанскому сельскому населению) [Albert-Llorca].
Особый интерес в этом направлении исследований представляет книга А. А. Панченко, во многом подводящая итоги изучения так называемых деревенских святынь, к которым относятся перечисленные объекты. Автор не отказывается в полной мере от предыдущего опыта изучения культа камней, деревьев, источников, каменных крестов в диахронном плане, хотя и крайне скептически относится к попыткам усмотреть в них следы древнего язычества. Однако, по его мнению, исключительно диахронный анализ оправдан лишь в работе археологов, внимание которых тоже привлекали почитаемые камни, для этнографа же важен и синхронный план: «Всестороннее исследование локальных комплексов верований и обрядов в связи с показаниями археологии, топонимики, лингвистики и исторической географии может, по-видимому, помочь не только в прояснении вопросов этногенеза и этнической истории восточных славян, но и в определении специфических черт и механизмов развития изучаемого материала.
Поспешные реконструкции инвариантных “общерусских” (или даже “общеславянских”) верований, культов святых и т. д. лишают нас примечательных и зачастую важных деталей» [Панченко-1998, 33].
Сами обряды, совершаемые у почитаемых мест (не только источников, камней, деревьев и проч., но и у поклонных крестов, в часовнях и церквах), также подвергались интерпретации. Не раз отмечалось отождествление святого и его изображения, культового места или времени его почитания. Так, М. Альбер-Ллорка приводит крайне показательный фрагмент интервью, в котором рассказывается о соперничестве двух статуй Богородицы из соседних сел: «Однажды наша Дева [Notre-Dame de Biar] попросила Деву des Vertus [покровительницу соседнего села Villena] пойти разыскать ей воды. Та отказалась, за это наша дала ей пощечину, поэтому голова у нее наклонена немного вбок. В другой раз была ссора с Divina Aurora [покровительницей села Benejma, тоже недалеко от Biar], и она ее толкнула, та упала в корыто, которое было за ней, и больше не смогла подняться» [Albert-Llorca, 112]. Об отождествлении праздников в честь святых и самих этих святых уже было упомянуто выше. При этом наименования календарных дат настолько сами по себе продуктивны в тексто-образовании, что могут заменять полностью сведения о святых как таковых и порождать альтернативную агиографию — квазиагиографию, в сюжетах которой разные святые объединяются в одного персонажа или, наоборот, один святой, в честь которого установлено несколько праздников, может пониматься как несколько святых; между святыми, чьи праздники соседствуют в календаре, в календарной квазиагиографии могут быть установлены родственные или социальные связи [Толстая-2005, 377–384; Попов-1994; Попов-2002; Попов-2004; Попов-2009]. Связь и даже отождествление святого и места его почитания описана гораздо хуже, однако отдельные замечания делали по этому поводу И. Делеэ [Delehaye, 28–29], Э. Дэвидсон [Davidson, 77–89], У. Телфер [Telfer, 333–334], Р. Томицкий [Tomicki, 38] и др., оговаривая, что через такую связь абстрактный и далекий образ делается более конкретным и своим, а наличие связанного с этим образом объекта позволяет одновременно освоить и соответствующее пространство. А. А. Панченко подчеркивает, что эти сюжеты и практики в большой мере связаны именно с аграрными культами и характерны для «природной» среды: «Мне представляется, что упомянутая устойчивость крестьянских религиозных практик к внешним воздействиям аккультурационного типа обусловлена прежде всего инкорпорированностью подобных “локальных религий” в общую стратегию мифологизации пространства и времени, свойственную аграрным культурам католической и православной Европы. Приплывающие по воде, прилетающие по воздуху и являющиеся во сне святые, иконы, каменные кресты и т. п. вряд ли представимы не только в урбанизированном культурном пространстве, но и в тех регионах, где “природная”, не подверженная возделыванию часть ландшафта (будь то лес, степь, горные или водные массивы) отсутствует или очень невелика по размерам» [Панченко-2006, 213].
Важный аспект сакрализации ландшафтных объектов и их почитания в народной культуре затрагивает Т. Б. Щепанская. Она описывает комплексы деревенских святынь, привязанных к отдельным населенным пунктам, как «кризисную сеть» [Щепанская-1995]. Посещение святых мест автор рассматривает как особую коммуникативную ситуацию, актуализируемую преимущественно в момент кризиса, индивидуального или коллективного (болезни, эпидемии, погодные катаклизмы и проч.), показывает, как взаимодействуют святыни различных населенных пунктов, регионов и этнических групп. С семиотической точки зрения Т. Б. Щепанская исследует такие обряды, как принесение святостей как информации о посещении святых мест [Щепанская-1995, 127], и вотивную практику как средство передачи информации о кризисной ситуации, приведшей паломника к святыне [Щепанская-2003, 311]. Будучи одновременно и жертвой, приношения к святыням устанавливают двустороннюю коммуникацию человека с сакральным миром. Приношения, однако, могут быть и нематериальными. В качестве существенного вида приношений называется время: «В случае общедеревенских неприятностей, например пожара, давали обет в этот день не работать, а праздновать — так получались “заветные” праздники: на нужды коммуникативной деятельности уделялось время. Да и само паломничество было передачей времени в кризисную сеть» [Щепанская-1995, 131]. То же замечается и о труде, который тратится во время паломничества [Там же, 124].
Некоторым итогом изучения сельских святынь на сегодняшний момент можно считать работу Ю. М. Шеваренковой. Нижегородская исследовательница отмечает: «Культ природных святынь выражен:
1. Акционально — системой регулярных и окказиональных ритуалов, прославляющего, поминального, метеорологического, апотропейного, продуцирующего и медицинского характера.
2. Нормативно — совокупностью устных предписаний, разрешающих и ограничивающих а) поведение человека в самом святом месте, б) его действия со святой водой, камнями, песком, травой как в святом месте (правила их набора), так и за его пределами (правила хранения, преумножения и использования святостей).
3. Текстуально (вербально) — циклами нарративов о происхождении и чудесных свойствах природного объекта. […]
4. Набором поверий — сведениями о святыне, не являющимися сюжетными художественными повествованиями, выраженными зачастую одной утвердительной фразой и отражающими разнообразную информацию о статусе, силе и структуре природного объекта (химическом составе святой воды, “степени” ее святости, об отношении к нему того или иного героя или святого…» [Шеваренкова-2004, 86-87].
Существует значительное количество работ, посвященных народному культу отдельных святых. Авторы этих работ останавливаются на различных аспектах их почитания: сюжетах легенд, обрядовых действиях, связи того и другого с житийной литературой и фольклорной традицией, роли в жизни социума и индивида и т. д. Именно этот корпус работ в совокупности позволяет говорить об известной степени изученности проблемы и вместе с тем о необходимости обобщить и систематизировать наработки. При общем взгляде на эту литературу не может не броситься в глаза идеологическое и методологическое различие в подходе западных и славянских ученых. Для западной науки характерно заметно большее внимание к городскому народному христианству, обрядам, санкционированным Церковью, как, например, паломничества, процессии карнавального типа, почитание реликвий и др. Среди таких работ можно назвать публикации Итало Сорди о св. Петре Веронском [Sordi], Марианны Белай о месте св. Антония Падуанского в религиозной практике одного человека [Belaj], ряд статей о культе св. апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостелла [Peake; Howes; Partington], книгу А. ван-Геннепа о культе святых в Савойе [van Gennep] и др. Отчасти той же тенденции подвержены и польские этнографы. Например, Ян Курек, исследователь культа св. Станислава Щепановского в Кракове, подробно описывает обряды и верования, связанные с почитанием этого святого, уделяет много внимания сакральным объектам: деревьям, водоемам, мощам и проч., но говорит обо всем этом как о единой традиции почитания святого, не различая церковную и народную [Kurek-1989]. При этом в ряде исследований к слову ‘культ’ применяется эпитет народный (popular, populaire, popolare, ludowy и т. п.), однако под ним часто не понимается ‘народный’ в привычном для нас значении ‘фольклорный’, ‘неофициальный’. Скорее, в таких случаях имеется в виду ‘широко распространенный’, ‘массовый’, таким образом, авторы пытаются игнорировать различие между официальным и вернакулярным культами. Впрочем, ряд ученых видит и отмечает эту дистанцию. Несколько интересных работ на эту тему принадлежит польскому этнографу Владиславу Барановскому. В частности, именно через взаимоотношение церковной практики и народной культуры он анализирует историю возникновения польского (а в действительности также украино-белорусского) народного культа св. Петра Паликопы — персонифицированного праздника Поклонения честным веригам апостола Петра. В этот день (1-го августа), согласно народным верованиям, бывают грозы, и если работать в поле, то святой покарает, направив молнию в копны сжатого хлеба, — отсюда происходит имя Паликопа. Несмотря на прозрачную этимологию и вполне самостоятельно значимое ограничение человеческой сельскохозяйственной деятельности на это время (распространение запрета подтверждается множеством параллелей, ср. аналогичные запреты в Ильин день), по мнению автора, этот культ был навязан крестьянам Церковью и мотивируется тем, что 1-го августа был день уплаты крестьянами десятины в ее пользу, так что недовольство людей смиряли угрозами гнева со стороны святого [Baranowski-1969].
Напротив, в русской, болгарской и сербской науке в очень большой мере заметно стремление отделить официальный культ от народного. Это, вероятно, можно объяснить не только давней научной традицией понимать под народной исключительно крестьянскую культуру и говорить о ней отдельно, противопоставляя ее то городской, то книжной, то официальной церковной — в зависимости от объекта изучения, но и многолетним запретом на изучение религий вне контекста «народных суеверий», действовавшим по совершенно разным мотивам в XIX и в XX вв. Впрочем, это разграничение крайне оправданно. Первые серьезные исследования на эту тему появляются в последней трети XIX в. и посвящены двум наиболее чтимым не только у славян, но и вообще в христианском мире святым — Георгию и Николаю. Показательны названия работ А. И. Кирпичникова и вторящего ему Е. В. Аничкова — «Св. Георгий и Егорий Храбрый» [Кирпичников] и «Микола угодник и св. Николай» [Аничков]. В широком контексте, сопоставляя различные версии житий, апокрифов, легенд, духовных стихов, песен и сказок об этих святых у разных народов, авторы пытаются выявить, как возникают их культы, в чем причина столь широкой популярности, каково происхождение отдельных эпизодов и мотивов, связанных с их почитанием, что в их культе имеет фольклорное, а что книжное происхождение. Так, по мнению А. И. Кирпичникова, «народный культ святого обусловливается главным образом или письменным преданием, как признанным церковью, так и апокрифическим, или художественным преданием, которое так или иначе связано с литературным, или временем празднования, или наконец — именем. В отношении народного культа Георгия действуют все эти четыре мотива, как это часто случается; но первое место между ними, на мой взгляд, занимает время празднования» [Кирпичников, ч. 3 (CCI, февраль), 230].
Мнение А. И. Кирпичникова, подвергнув его критике по части работы с источниками, значительно углубил А. Н. Веселовский [Веселовский], найдя в культе св. Георгия значительно более глубокие элементы и проследив путь, каким этот культ мог формироваться. Одновременно он делает замечания о связи культа святого с более древними обрядами, о пути развития этого культа, а также ряд крайне важных попутных замечаний о параллелизме, родстве или даже тождестве св. Георгия и других святых: Димитрия Солунского, Феодора Тирона и Феодора Стратилата — в народных верованиях и легендах, в том числе и литературного происхождения [Веселовский, 5].
Много исследований на эту тему появилось в последние десятилетия. В основном они посвящены святым, чье почитание не имеет широкого распространения, а ограничено этнически или даже регионально. При этом внимание авторов останавливается на ряде существенных тем, таких, как соотношение устной нарративной и книжной традиции, соотношение связанных со святым верований и фольклорной мифологии и обрядности, происхождение и функционирование сюжетов легенд о святых и механизмы текстопорождения. Например, сербский ученый Л. Раденкович, изучая народный культ св. Саввы Сербского, приходит к выводу о его отождествлении с Саваофом, отчасти на основании созвучия имен [Раденковић-1996, 96–98].
Особый интерес представляет собой ряд публикаций, описывающих традицию почитания святых в месте их рождения, подвига, смерти или обретения мощей. Для таких локальных традиций святые являются как бы «своими», а осознание пространственной близости к проявлению сакрального, как явствует из ряда исследований, способствует активности бытования традиции и возникновению большого количества новых текстов. Среди первых работ на эту тему можно назвать публикации, посвященные свв. Петру и Февронии Муромским. Такая работа была проведена сначала М. О. Скрипилем [Скрипиль], а впоследствии по его следам Р. П. Дмитриевой [Дмитриева]. У обоих ученых общая задача — понять, какие именно фольклорные тексты лежат в основе Повести и как конкретно формировались эти явно вторичные по отношению к устной традиции персонажи. На основании анализа некоторого количества записей легенд о Февронии, сделанных в д. Ласково — месте ее жизни до замужества — и не только, М. О. Скрипиль делает такое заключение: «Писатель древней Руси не всегда непосредственно обращался к исконным фольклорным формам (сказке, песне, былине и проч.), […] между ним и народным творчеством роль связующего звена могла исполнять устная или рукописная легенда» [Скрипиль, 139]. Таким образом, легенда исключается из числа «исконных фольклорных форм» и относится им к рукописной традиции, при том что никаких аргументов в пользу существования таковой не имеется.
Р. П. Дмитриева, продолжая эту тему, отчасти спорит с предшественником в плане поиска конкретного источника Повести, отчасти продолжает развивать его теорию некоего конкретного прототипа, легшего в основу жития. По ее мнению, Повесть не зависит от легенды в тех записях, в которых она известна современному читателю. Легенда сформировалась на основании использования фольклорных мотивов в народных рассказах о почитаемых святых. В Повести же используется новеллистическая сказка, хотя и Повесть, и легенда восходят к местному преданию о лечении князя крестьянской девушкой и к их женитьбе [Дмитриева, 49].
Обе статьи имеют один и тот же методологический недостаток — в них используются принципы текстологического анализа рукописной литературы применительно к устным текстам. Будучи специалистами по древнерусской книжности, оба автора механически переносят принципы работы с рукописями на фольклорные легенды и игнорируют специфику последних. За данность принимается наличие некоего прототекста или нескольких независимых прототекстов, которые сохранились в искаженном виде в разных версиях, в каждой из которых есть свои нововведения. Легенда по умолчанию считается более древней, чем Повесть, по той причине, что должен же был автор на что-то опираться. Фольклорная традиция считается если не неизменной, то бережно хранящей тексты, сюжеты, образы древности. Авторы, по-видимому, вовсе не допускают возможности влияния книжности на фольклор, а также игнорируют возможность существования клишированных элементов текста, не привязанных к конкретному сюжету и жанру. Отсюда предпринятая М. О. Скрипилем попытка установления родства между разными легендами на один сюжет (проклятие святым местных жителей) и датировки легенды по атрибуции проклятия реальному лицу (святому). Логика такова: Феврония проклинает односельчан фразой «Ни бóлеть вам, и ни мéнеть», напоминающей ту, которую в другой легенде митрополит Алексий бросил в адрес обобравших его перевозчиков («будете жить ни бедно ни богато»). Из этого якобы вытекает древний характер самой формулы (какой из двух?). Это уже само по себе надуманное обстоятельство должно, по мнению автора, свидетельствовать о времени существования легенды о Февронии: она восходит к легенде об Алексии, а про ту почему-то предлагается думать, что она возникла во время жизни митрополита, то есть в XIII в. Следовательно, легенда о Февронии могла лечь в основу Повести [Скрипиль, 156–157].
Тем не менее в статьях делается ряд ценных наблюдений относительно народных представлений о святых: упоминается конфликт Февронии с местными жителями, представления о ней как о безумной, говорится о специфике народного отношения к чуду, рассматриваются формулы проклятия местных жителей со стороны святых.
Подобные исследования предпринимаются и этнологами. О. А. Черепанова исследовала соотношение легенд об Иоанне и Логгине Яреньгских и влияние житийной традиции на устную. Она показала, как современные легенды о соловецких святых приобретают черты современной же действительности (святые могут пониматься как беглые заключенные соловецкого лагеря) [Черепанова-2005, 234], а также как происходит подмена представления о святых представлением об их иконах (явления святых воспринимаются как явление икон) [Там же, 234–235]. Формирование устного жития святого за счет народных верований и интерпретации иконографии на примере св. Артемия Веркольского анализирует А. А. Иванова, очень убедительно показывающая, как недостающие в житии и основанных на нем легендах мотивации достраиваются за счет бытовых и мифо-ритуальных представлений [Иванова-2008]. Похожее исследование посвящено народному культу св. Иоанна Кронштадтского [Фадеева]. Основной задачей автора было показать, как печатные издания влияют на формирование фольклорного образа святого и как они взаимодействуют с еще живыми воспоминаниями об этом подвижнике и с уже сложившимися фольклорными представлениями. Специфика и интерес этого материала и этого исследования заключаются в том, что святой здесь близок носителям традиции не только в пространственном, но и во временнóм отношении, а также тем, что он был канонизирован РПЦ в 1990 г., хотя почитался как святой еще при жизни.
Большое исследование народному почитанию св. Стефана Пермского и его соотношению с книжной традицией посвятил П. Ф. Лимеров. Автор настаивает на том что Степан коми преданий и житийный Стефан Пермский «два совершенно разных образа, созданные примерно в одно и то же время двумя разными традициями: древнерусской письменной традицией и устной фольклорно-мифологической традицией новокрещенных коми. Разница между образами огромна, как и огромна разница между создавшими их русской христианской и коми (почти еще языческой) культурами» [Лимеров-2008, 3; Лимеров-2008а, 157]. В дальнейшем тексте делается попытка доказать, что в преданиях о Степане, зафиксированных в ХХ в., хорошо отразились коми мифологические (языческие) воззрения XVI в. В обеих публикациях, из которых первая полностью вошла во вторую, автор явно движим идеей найти не просто следы, но отчетливо выраженные языческие представления коми. Он настаивает на независимости преданий о Степане (именно так автор определяет жанр нарративов) от жития и вместе с тем на одновременности их возникновения. Такой подход напоминает упомянутые выше методы исследователей древней литературы при работе с рукописными версиями текста, никак не оправданный при обращении к фольклорному материалу. На наш взгляд, нет ни малейших оснований настаивать на независимости устных текстов от письменных, фольклорные нарративы имеют явно вторичный характер по отношению к сочинению Епифания Премудрого, хотя, естественно, дополняются некоторыми фольклорными мотивами и излагаются с использованием клише, типичных для фольклорных нарративов о сверхъестественном.
Одновременно автор делает важные наблюдения, касающиеся особенностей восприятия святого в народной культуре, роли и функций его как культурного героя, основателя природных и культурных объектов, преобразователя жизни местного населения [Лимеров-2008, 6–12].
Особый интерес представляет несколько работ, посвященных народным верованиям и легендам, связанным со святыми, чей культ возник именно в фольклорной среде или значительно обогащен фольклорной традицией и заметно трансформировался под воздействием фольклорной картины мира. А. А. Панченко принадлежит глубокое и всестороннее исследование текстов, связанных со свв. Иоанном и Иаковом Менюшскими — святыми отроками, из которых один в игре по неведению убил другого, а потом, испугавшись, спрятался в печи вместе с телом убитого брата, после чего они оба были случайно сожжены в печи вернувшимися родителями. Ученый показывает, как бытовой эпизод становится основой сакрального текста и народнорелигиозных верований [Панченко-2006, 223–224], как житийный текст, пересказываемый в крестьянской среде, получает новые детали и интерпретации [Там же, 220] и как в локальной традиции, где распространено почитание святых, общие сюжеты и обряды приобретают особые формы именно в связи с почитанием святых отроков, например, «известно достаточное число рассказов, заканчивающихся возвращением проклятого: чтобы освободить его от власти демонов, нужно накинуть на него нательный крест и пояс, “дать завет на икону”, позвонить в колокол либо прибегнуть к специальной магической практике. Однако помощь святого или святых — мотив, в целом не характерный для таких рассказов. Очевидно, что подобная трансформация этого сюжета в фольклоре Менюши свидетельствует об очень интенсивном воздействии культа отроков Иоанна и Иакова на локальную устную традицию» [Там же, 222–223]. В почитании святых отроков, как и ряда других «святых без житий», то есть святых, почитание которых началось с обретения нетленных мощей, при том что о праведной жизни их ничего не известно, автор склонен усматривать следы почитания заложных покойников [Там же, 224].
В вышедшей в 2012 г. объемистой монографии, посвященной тому же сюжету, автор рассматривает его в значительно более широком этнокультурном контексте и на фоне обширного материала, как славянского, так и европейского. На основании сопоставления множества текстов, прежде всего европейских, на этот сюжет (ATU 1343*) А. А. Панченко приходит к выводу, что малое распространение сюжета на восточнославянской территории и полное его отсутствие в корпусе агиографических сюжетов, с одной стороны, а также достаточное распространение этого и близких сюжетов в Западной Европе — с другой, указывают на то, что сюжет был заимствован новгородской традицией с Запада и под влиянием значительного количества различных обрядов, верований и нарративов (в том числе связанных с отношением к забудущим — неизвестным — покойникам), нарративам и обрядам, связанным с жертвоприношением, и проч. превращается из занимательной, анекдотической, сказочной истории в сюжет жития.
Яркую особенность фольклорной интерпретации житий святых демонстрирует статья Вайолет Алфорд о народном культе св. Агаты. Автор прекрасно анализирует культ этой католической святой, рассматривая ее патронажные функции, обряды, в частности испечение и ритуальное использование хлебов в форме женской груди, так как святая считается покровительницей кормящих матерей, процессии, действия со статуями, верования в ее способность управлять погодой, тушить пожары, наказывать за нарушение запретов и т. п. Многое в культе святой В. Алфорд объясняет более древними фольклорными представлениями, в частности рассматривает соотношение ее с культом мертвых и с языческими божествами [Alford, 162-176]. Особый интерес в работе представляет интерпретация верований, что святая может появляться в облике кошки и в этом виде помогать или наказывать людей. В. Алфорд убедительно доказывает, что такое представление возникло из интерпретации имени святой в его окситанском произношении: Santo Gato, — омонимичного слову gato — кот [Там же, 178]. Этого весьма точного и тонкого замечания, однако, самой исследовательнице недостаточно, и она пытается подкрепить такое предположение отсылкой к преемственности св. Агаты по отношению к Церере, жрицы же Цереры должны были пониматься как ведьмы, способные превращаться в животных [Там же, 179-180], что выглядит явной натяжкой. Как видим, и этот автор не смог удержаться от попытки установить связь между ними и почитанием святых, причем от попытки крайне неудачной в отличие от очень убедительных и точных наблюдений относительно народной этимологии как сюжетообразующего фактора и импульса к возникновению верований.
Похожее в некотором роде исследование принадлежит греческому автору М. Капланоглу, который исследует легенды и обряды, посвященные св. Фанурию. Этот святой, почитаемый официальной церковью, вместе с тем выступает как персонаж народной легенды, известной в славянском мире как легенда о св. Петре и его матери (ATU 804 Мать св. Петра падает в ад). В день памяти св. Фанурия печется специальный хлеб, фануриупита, который относится в церковь в память о матери святого. Этот обряд помимо поминовения матери святого выполняет еще и продуцирующую функцию — помогает выйти замуж, найти пропавший скот или вещи [Kaplanoglou, 56-59]. Функция, приписываемая святому, объясняется через этимологию его имени: фауЕротпс; — ‘показующий’, ‘открывающий’. Сам обряд выпекания особого хлеба и принесения его в церковь, с прочтением при этом молитвы, напоминает, по замечанию ученого, изготовление поминальных блюд и явно восходит к культу мертвых [Там же, 62]. Вместе с тем есть основания считать, что культ св. Фанурия восходит к почитанию св. Георгия и даже сам святой как персонаж восходит к неверно понятому атрибутиву фауЕротпс;, написанному на иконе Георгия, тем более что функции, приписываемые Фанурию, делегируются и свв. Георгию и Мине [Там же, 56]. Таким образом, мы имеем дело с персонажем, обязанным своим происхождением своеобразной игре слов.
Последние две работы косвенно затронули еще один важный аспект народного культа святых — существование в народной культуре квазисвятых, вымышленных, но почитаемых как святые. Специальных работ на эту тему очень мало, но попутно ее касались многие исследователи. Так, например, И. Делеэ отмечал, что в основу культа может лечь, например, открытие неизвестных могил или сюжет (и персонаж) литературного произведения вроде шансон де жест [Delehaye, 87].
Несколько специальных исследований культу несуществующих святых посвятил Владислав Барановский [Baranowski-1971; Baranowski-1979]. Польский этнограф показывает, как из литературных или исторических персонажей на основании сходства их историй с агиографическими сюжетами и народными представлениями о святости появляются новые святые. Так, в качестве святой почитается Геновефа (Женевьева), Брабантская принцесса VIII в., известная в Польше по переводу немецкой легенды. В народе она стала известной благодаря широко распространенным книжкам с изложением ее истории, перешедшей благодаря этим изданиям в народные легенды и народную живопись [Baranowski-1979, 48]; иным образом формируется почитание квазисвятой Халины или Алины: в польской церкви нет святой с таким именем, соответственно, носительницы его не имели патронессы, пока в качестве таковой не была избрана героиня драмы Юлиуша Словацкого «Балладина»: ссора из-за поклонника и убийство одной сестрой другой трансформируется в ссору о вере, а сестра-убийца становится язычницей [Там же, 51]. Еще один пример — святая Зузанна (Сусанна), в образе которой смешаны два одноименных персонажа: так называемая девственница Сусанна дохристианского времени и почитаемая как мученица III в. Сусанна, чья достоверность более чем сомнительна. Более известна первая — героиня книги пророка Даниила. В польском фольклоре эти две Сусанны смешались в одну, чей образ известен из песен [Baranowski-1971, 42–43].
Фундаментальный труд на эту тему принадлежит Жаку Мерсерону, автору «Словаря мнимых и пародийных святых» во франкоговорящей Европе [Merceron]. Собрав несколько сот таких персонажей, часть из которых почитается вполне серьезно, а другая часть представляет собой разного рода шуточные образы, основанные на игре слов, ложной этимологии, персонификации временны́х периодов или просто вымысле, автор словаря не просто посвятил каждому статью, но и описал их происхождение, распространение, функции, открыв тем самым огромное поле для аналогичных исследований на материале других языков.
Изучая народное почитание святых, невозможно обойти стороной вопрос о соотношении книжных житий и фольклорных легенд, посвященных одним и тем же персонажам. Взаимное проникновение этих жанров, первичность книжного или фольклорного текста, первоисточник, пути формирования текстов — вот неполный перечень основных вопросов, затрагиваемых в рамках этой проблематики.
Среди исследователей древнерусской житийной литературы обращение к теме фольклора и его участия в формировании агиографических текстов — явление частое. Выше упоминались работы М. О. Скрипиля и Р. П. Дмитриевой, посвященные фольклорным источникам «Повести о Петре и Февронии». Этот пример показателен в отношении тех методологических просчетов, которые часто допускают авторы, работающие с рукописной традицией. Не имея независимой от жития версии фольклорного текста, относящегося ко времени создания жития, они впадают в соблазн реконструировать его текстологическими методами, вывести из имеющихся в современных записях вариантов. В поисках фольклорного прототипа агиографического сочинения обычно не учитывается ни обратная возможность происхождения легенды от жития, ни тот факт, что фольклорный прототип святого (если он существовал) мог быть серьезно переработан агиографом. Этой позиции придерживается, например, П. Ф. Лимеров, утверждающий, что житие Стефана Пермского и легенды о нем отражают единый некогда существовавший пратекст [Лимеров-2008, 25]. При этом автор датирует возникновение народной легенды о Степане XVI в., не приводя никаких серьезных аргументов в пользу этого суждения [Лимеров-2008а, 157].
В худшем случае при поисках фольклорного прототипа не делается и попыток реконструкции, а просто априори утверждается наличие легенды, народного культа и т. п. исключительно на основании более или менее субъективных ощущений автора. Так, Л. А. Дмитриев утверждает, что на Русском Севере возникали «народные» святые (Артемий Веркольский, Иоанн и Логгин Яреньгские, Вассиан и Иона Пертоминские и др.), «которым приписывался дар чудотворений, и этими святыми были не подвижники христианства, а обычные люди, только с необычной судьбой. […] Легендарные предания об этих святых в тех случаях, когда церковь причисляла их к сонму признаваемых подвижников, облекались в форму житий» [Дмитриев, 259]. О каких именно преданиях идет речь — не сказано, их реальное существование автор ничем не подтверждает. Похожие замечания встречаем у С. А. Иванова (он утверждает, что Житие Василия Блаженного впитало в себя народно-религиозные черты, но какие именно и как — не поясняет) [Иванов, 295], у А. С. Лаврова, употребляющего без объяснения понятие «народные святые» [Лавров, 221]. Обращение исследователей житий к фольклору имеет целью объяснить некоторые не вполне понятные с точки зрения классической агиографии культы через возведение корней почитания этих святых к традиционным верованиям. Е. А. Рыжова, рассматривая истоки культа Артемия Веркольского — отрока, убитого молнией, — объясняет возникновение его культа фольклорными представлениями об убитом молнией как о праведнике или великом грешнике [Рыжова] — обстоятельство, несомненно, существенное для констатации возможного влияния фольклорной традиции на формирование культа святого. Впрочем, по мнению А. А. Панченко, «в сложении его культа первостепенную роль играли не история гибели мальчика, но обстоятельства обнаружения его тела, а также исцеление жителей Верколы от эпидемии. Вполне возможно, что агиографический акцент на смерти Артемия “от грома” связан не с местной устной культурой, а с книжной традицией» [Панченко-2012, 112].
Серьезный, хотя тоже не дающий стопроцентной уверенности в достоверности результатов, но все же основанный на понимании механизмов существования и развития фольклорных текстов метод выявления фольклорных источников в книжном тексте использует, например, Дж. Добл. Он выделяет фольклорные по происхождению элементы на основании сходства отдельных мотивов и способов организации текста в житиях с фольклорными, преимущественно сказочными текстами, и это дает некоторый результат. Не пытаясь найти конкретного прототипа тому или иному эпизоду в сказке, автор утверждает о вероятности заимствования или влияния на основании структурного сходства [Doble, 327–329]. К сожалению, легенды остались вне поля внимания исследователя.
Обратное влияние книжного текста на легенду попадало более в поле зрения фольклористов. Так, например, В. П. Адриановой-Перетц (впрочем, она в равной мере фольклорист и литературовед-медиевист) принадлежит глубокое исследование духовного стиха об Алексии Человеке Божием в сопоставлении с его житийным прототипом и другими жанрами фольклора. Сопоставляя варианты стиха, анализируя отдельные эпизоды и детали, исследовательница приходит к заключению, что помимо жития на формирование стиха заметное влияние оказала былевая поэзия [Адрианова, 350–359; 386–394; 402–404 и др.], сказки [Там же, 375–380; 394–402], иконография [Там же, 437–442].
О влиянии книжности на народные легенды писал и В. Барановский. Упоминание святых в богослужении, церковное почитание реликвий, жития святых, в особенности в изложении Петра Скарги, А. Радзивилла и Яна Лещинского — все это существенно способствовало возникновению народных культов святых, несмотря на малую грамотность крестьянства [Baranowski-1971а]. При этом мощнейшим механизмом формирования народных представлений и легенд о святых является контаминация, вследствие которой одноименные святые превращаются в одного персонажа [Baranowski-1970а, 94, 103, 108–109]. Автор отмечает такое явление, как народная иерархия святых, которая возникла по аналогии с средневековой феодальной и в рамках которой святые располагаются по принципу близости к Христу [Там же, 89].
Ю. М. Шеваренкова обращает внимание на «двойную фольклоризацию» агиографических легенд: из фольклорной среды в книжную, потом из книг обратно (в отличие от новых легенд о местночтимых святых, книжных житий которых не существует; говоря о вторых, она замечает, что «при сохранении и востребованности в региональном фольклоре образа почитаемого старца-лекаря и (или) старца-богомольца, они способствуют продолжению в современной традиции народной агиографической традиции» [Шеваренкова-2004, 61]. Впрочем, книжное влияние на фольклорные легенды не обязательно должно идти по прямой линии — от жития к легендам о том же святом. Устные нарративы (как и тексты книжной агиографии) часто используют повествовательную модель, набор мотивов, сюжетов, образов, связанных с другим персонажем.
Следует отметить, однако, что в работах многих исследователей не делается никакого различия между фольклорными легендами о святых, с одной стороны, и меморатами и фабулатами, на основании которых проводилась канонизация и которые должны были быть использованы в житии при его создании, — с другой. Практика же показывает, что между этими двумя группами текстов существует крайне мало точек соприкосновения и лежащие в основе житийных текстов описания посмертных чудес святого (как и многих прижизненных) обычно не сохраняются в зафиксированной на протяжении XIX–XXI вв. фольклорной традиции. Почему так обстоит — вопрос, пока не решенный, на него еще предстоит ответить. Попытка этого объяснения делается в настоящей работе.
Некоторую сложность для исследования в области народной агиографии представляет отсутствие единой и внятной терминологии, в особенности полная несогласованность в употреблении термина легенда (подробный экскурс в историю, семантику и использование термина легенда см. [Панченко-2012, 249–257]). Разброс в понимании того, что следует именовать этим словом, настолько широк, что речь может идти о совершенно никак не соприкасающихся между собой типах текстов. При этом далеко не всегда дается какое-либо определение жанру и термин легенда используется предельно широко. Так, польский религиовед E. Чупак, рассуждая о социальной природе религиозных культов, вообще не делает никакого различия между житийными текстами и фольклорными нарративами о сакральном, называя и то и другое легендами без каких-либо оговорок и таким образом смешивая тексты книжного и фольклорного происхождения [Ciupak, 71]. Так же подходит к анализируемому материалу Ян Курек. Описывая культ св. Станислава Щепановского, он обращается к текстам, повествующим о чудесах святого, именуя их легендами вне зависимости от того, книжные они или устные, какой степенью историзма они обладают, признаны они или нет официальной агиографией [Kurek-1989, 27–29]. Похожие неточности допускаются нередко в работах, посвященных древнерусской книжности. Хотя среди русских медиевистов не принято называть легендами собственно житийные повествования, однако они склонны некоторые житийные эпизоды или даже целые жития возводить к народным или монастырским легендам без какого-либо обоснования, просто под тем предлогом, что соответствующие эпизоды или тексты целиком не укладываются в существующую концепцию древнерусской литературы. Эта традиция идет еще с XIX в. и, например, в классическом труде, посвященном житиям святых, В. О. Ключевский легко относит к легендам эпизоды, которые кажутся ему наивными и неисторическими. Таково замечание историка о «наивных приемах» эпизода жития Авраамия Ростовского, в котором показана борьба Авраамия не с самими ростовскими язычниками, а с языческим идолом, перед волшебной силой которого изнемогает сначала сам преподобный, то же В. О. Ключевский усматривает и в эпизоде о построении церкви на месте языческой святыни — разбитого идола [Ключевский, 30]. Этот интуитивный критерий определения источника житийного эпизода как легенды остается актуальным. Л. А. Дмитриев в своей монографии «Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв.», хотя написанной явно с оглядкой на В. О. Ключевского, но переводящей разговор о житиях в иное русло (он пишет о них не как об исторических источниках, а как о художественных текстах), продолжает использовать тот же метод: события, не имеющие документальных подтверждений и не выглядящие правдоподобными, определяются как «легенда», «народная легенда» (вариант: «монастырская легенда»), «предание», «легендарное предание», причем эти термины, по-видимому, используются как синонимы. Вот пример такой атрибуции эпизода из жития св. Варлаама Хутынского: «Мораль этого эпизода христиански-аскетическая, но характер рассказа повествовательный, а не отвлеченно-риторический. Видимо, в основу рассказа легла какая-то монастырская легенда» [Дмитриев, 40]. Легендами называются гипотетически существовавшие тексты, содержащие информацию о чудесных событиях, не имеющие литературного источника. Сам по себе вопрос о бытовании таких легенд не ставится — оно предполагается по умолчанию.
Вместе с тем такое отсутствие определенности осознается многими исследователями, так что они вынуждены, затрагивая в той или иной степени тексты легенд, объясняться и очерчивать жанровые особенности нарративов, с которыми они будут работать. С трудностью определения жанра легенды и конкретно легенды о святых сталкивались многие ученые, по-разному обходя возникающие сложности. Реальные тексты не всегда удовлетворяют сложившимся критериям выделения фольклорных жанров, что вынуждает подгонять тексты под критерии или изменять критерии. Один из возможных путей — отказ от жанрового определения. А. А. Панченко в своем исследовании, посвященном деревенским святыням, весьма свободно обращается с жанровыми определениями, называя одни и те же тексты то преданиями, то легендами, то просто народными рассказами [см., например, Панченко-1998, 178-179]. Надо отметить, впрочем, что это нисколько не мешает ему в изложении своих наблюдений и не затрудняет понимания хода мысли и выводов автора.
О. А. Черепанова, рассматривая корпус фольклорных текстов о свв. Иоанне и Логгине Яреньгских, сталкивается с тем, что эти тексты имеют разный характер, они могут быть первичны и вторичны по отношению к житию, недостаточно завершены композиционно и содержательно. Это вынуждает ее описывать такие тексты как «дожанровые», «околожанровые», «постжанровые», именуя их все вместе «житийным “полем”» [Черепанова-2005, 222-227]. Сербская исследовательница Мирьяна Детелич пишет, что святые в качестве действующих лиц появляются во всех фольклорных жанрах, формируя особую категорию текстов, которые она называет серой зоной фольклора (сива зона усмене кмижевности) [Детелић, 123]. Дороти Брэй — автор указателя мотивов житий раннеирландских святых — для обозначения возможных фольклорных источников житий — фабулатов о святых, не восходящих к книжной традиции, — вводит специальный термин Christian lore [Bray, 19].
Показателен спор между А. Н. Власовым и П. Ф. Лимеровым в отношении того, как следует определять жанр фольклорных нарративов о св. Стефане Пермском. А. Н. Власов приходит к тому же заключению: тексты о святом не имеют четких жанровых границ и могут быть отнесены то к историческим преданиям, то к топонимическим легендам, легендам об основании церквей, то к рассказам о колдунах [Власов, 47]. При этом он описывает эти тексты, используя указатель сюжетов и мотивов севернорусских преданий Н. А. Криничной [Криничная, 278–294]. Тем самым, не оговаривая этого специально, он относит эти тексты, скорее, к жанру предания. П. Ф. Лимеров спорит с такой точкой зрения, исходя из позиции, что «тема святости Стефана Пермского эксплицитно или имплицитно проходит сквозь все устные тексты о нем. […] В качестве жанрового критерия берется “историзм” личности Стефана и его эпохи, поэтому тексты о нем относят к жанру исторического предания [Власов, 4–58]. При этом не учитывается религиозная составляющая этих текстов, хотя все они описывают события первокрещения» [Лимеров-2008а, 155]. Согласно принятому большинством исследователей определению легенды, сформулированному В. Я. Проппом, под ней следует понимать «прозаический художественный рассказ, обращающийся в народе, содержание которого прямо или косвенно связано с господствующей религией» [Пропп, 271]. Таким образом, А. Н. Власов и П. Ф. Лимеров рассматривают одни и те же тексты в разных контекстах и с разных позиций: если святость Стефана Пермского и вытекающие из нее чудеса святого, а также общая событийная канва христианизации коми позволяют по признаку христианского содержания отнести эти тексты к легендам, то приуроченность к некоему историческому этапу, а также связываемое в этих текстах с пребыванием Стефана возникновение ландшафтных особенностей, топонимов и т. п. вполне характерны именно для преданий, как они понимаются в русской фольклористике. Согласно определению, предложенному С. Н. Азбелевым, предание — это «устное прозаическое повество вание о реальных событиях или лицах прошлого либо реально возможных, но не отобразившихся в дошедших до нас письмен ных источниках, или даже о несомненно вымышленных; повествование, вошедшее в традицию (а не исходящее непосредственно от очевидца или участника событий) и по содержанию близкое, по крайней мере в основном, отображению жизненной реальности (т. е. без преобладания фантастики в художественном вымысле)» [Восточнославянский фольклор, 275].
Эта полемика крайне показательна, поскольку отражает сложности с четким разграничением фольклорных жанров вообще и относящихся к несказочной прозе в частности. Случай с рассказами о св. Стефане Пермском, естественно, не уникален, как не уникален и сам тип таких нарративов о святом. С аналогичными проблемами столкнулась, например, Р. П. Дмитриева в попытке определить жанр народных рассказов о Февронии Муромской. Выделяя два основных типа рассказов по степени соотнесенности с Повестью о Петре и Февронии, автор рассуждает об их жанровых особенностях, замечая, что они обладают чертами и легенды, и предания, и, разумеется, сказки, однако не останавливается на каком-либо термине, используя нейтральное устные рассказы [Дмитриева, 36–39].
Итак, основанное на определении В. Я. Проппа распространенное в российской и не только российской фольклористике[1] понимание жанра народной легенды как рассказа религиозного содержания, в отличие от других жанров несказочной прозы, нуждается в существенном уточнении. Применительно к нашей теме это существенно в плане разграничения легенды и предания, черты которых органично соединяются в народных рассказах о святых, об их пребывании в конкретной местности, взаимоотношениях с населением этой местности, участии в тех или иных событиях.
Отдельное исследование фольклорной легенде посвятил Грант Лумис, который предлагает экскурс в историю этого жанра. По замечанию автора, из всех фольклорных жанров только путь легенды может быть прослежен от начала до конца, с самого ее появления в христианском мире [Loomis, 279]. В основе ее лежит сакральная биография (sacred biography), не связанная с христианством, так что нельзя говорить о том, что легенда обязана своим происхождением именно христианской культуре. Тем не менее автор рассматривает ее именно в этом контексте [Там же, 279–280]. Наиболее важным компонентом легенды (как сакральной биографии) исследователь считает чудо. Собственно, чудо и дает основание для возникновения жанра легенды. При этом, по замечанию автора, важная особенность легенды заключается в том, что из значительного числа чудес любое может быть отнесено к любому святому и практически нет таких, которые были бы связаны с конкретным персонажем [Там же, 292–293]. Более того, значительная часть из них применима и к жизнеописанию супергероя (super-hero) или белого мага (white magician) [Там же, 297]. В качестве примера исследователь предлагает шаблон — легенду о святом Никто (Niemand), состоящую из наиболее типичных эпизодов сакральных биографий [Там же, 293–297]. Из исследования видно, что для американского ученого легенда представляет собой сакрального (или сакрализованного) персонажа, героя, носящего обязательно положительную оценку, содержащее изложение ряда реальных и — главное — ирреальных со бытий. Жизнеописания отрицательных героев, таких как черные маги (black magicians) или знаменитые злодеи и грешники (Пилат, Иуда), могут быть включены в легенды для контраста [Там же, 288–289].
Заметный вклад в исследование легенды принадлежит израильской исследовательнице Хеде Ясон. Она рассматривает в качестве особого жанра легенду о чудотворном (the legend of the miraculous). Легенды о чудотворном представляют собой разновидность более широкой категории текстов — легенды в целом. Разновидности легенд выделяются на основании «модусов»: «В устной литературе термином “модус” нами обозначается отношение человека к окружающему миру. Форма текста (прозаическая или стихотворная) не является определяющей: каждый жанр может быть выполнен в обеих формах (кроме лирической песни). Были выделены три модуса: (1) взаимоотношения между членами человеческого общества — модус Реалистического; (2) модус Сверхъестественного — отношение человека к сверхъестественному и его силам. У этого модуса есть две ветви: (2.1) модус Нуминального и (2.2) модус Волшебного; и (3) Символический модус — представление логических концепций в виде литературных образов» [Ясон, 6]. «Особое свойство Чудотворного — способность совершать чудеса, которые отличаются от творческого изменения. В христианской культуре этот жанр содержит два поджанра: легенда о Священном и легенда о Сатанинском (легенда о дьяволе). Античные и средневековые письменные легенды этого вида могут быть названы “агиографические легенды”» [Там же, 16]. Важная особенность этого модуса заключается в том, что сила Чудотворного проявляется в историческое время/пространство (в отличие от силы Креативного, которая проявляется в не-историческое время/пространство) [Там же, 12]. В качестве примера рассмотрим предлагаемую Х. Ясон характеристику легенд о святых (разновидность легенд о священном наряду с фабулатом о чуде): «Легенда о святых — рассказ, который прославляет: (1) людей, рассматриваемых в качестве святых личностей, т. е. людей верующих, которые, как полагают, ведут исключительно святой образ жизни; и (2) объекты, так или иначе связанные со священной силой (места и объекты поклонения) или физически связанные со святым (например, его одежда, могила, мощи). Идентификация святого человека и святого объекта помещают рассказ в определенное историческое время и место. Для описания жанра не важно, когда святой жил, находится ли легенда о нем/о ней в письменной средневековой литературе или только вчера была записана из устной традиции (и сообщает о каком-то местном святом человеке или объекте). Прославление святого служит укреплению существующего социального порядка» [Там же, 21]. Как признает сама автор исследования, «предмет нашего интереса здесь — устная народная легенда как литературное произведение, а не как материал для изучения народных поверий и этнографии» [Там же, 5], то есть его интересует собственно теоретический аспект: возможность выделить более или менее универсальные критерии жанра и подразделить его на более частные подвиды. При этом исследовательница фактически отказывается от традиционного жанрового деления фольклорных текстов и предлагает свою, весьма стройную, но сложную, далеко не всегда применимую на практике при анализе корпуса конкретных текстов систему. Приходится признать, что при всех достоинствах предложенной Х. Ясон системы, ее крайне затруднительно использовать в качестве инструмента для анализа конкретных текстов и содержащихся в них верований, что признает и она сама.
Попытки уточнить традиционное, основанное на пропповском определение легенды делались неоднократно. СВ. Алпатов в своей диссертации, посвященной повествовательной структуре легенды, дает такое определение: «Легенда — разновидность устного повествования, сообщающего достоверную информацию о духовно-нравственном устройстве мира и обладающего в связи с этим универсальным охватом реальности. Легенда может быть рассказом о давно прошедших временах (библейские, апокрифические, агиографические сюжеты), и сообщением о только что случившемся факте (обмирание), либо о регулярно происходящем событии (мироточение иконы, чудесные исцеления от нее). Сообщая достоверный факт, рассказчик легенды может любоваться эффектной фабулой (эстетическая модальность), вызывать у слушателей ужас, смех, сострадание (эмотивный аспект), но, в первую очередь, он поучает» [Алпатов, 8]. В таком определении хотя и расставлены некоторые важные акценты, однако все же не обозначены границы, за пределами которых текст уже не может быть назван легендой, что существенно для фольклорных агиографических текстов.
Подробно рассматривает особенности этого жанра болгарская фольклористка А. Георгиева во вступительной статье к изданному ей сборнику легенд. Отказавшись от принятого в болгарской науке подразделения на легенды и предания как на рассказы о мифологическом (доисторическом) и историческом времени соответственно как недостаточно точного и удобного [Георгиева, 9-10], она так очерчивает жанровые особенности легенды в отличие от других жанров:
• Легенда просто описывает события, предание объясняет. Легенда обязательно сюжетна, предание может констатировать факт, причем в констатации будет заложен сюжет, но он может не воспроизводиться.
• Легенды вместе с преданиями противопоставлены сказке по соотнесенности с действительностью: если сказка повествует о частной жизни человека и т. п., то легенды и предания объясняют мир, окружающий человека.
• Предание повествует об истории коллектива, о событиях далекого или близкого прошлого, ставших актуальными благодаря их связи с названием или особенностями местности, участия героической личности в описываемых событиях или благодаря осознанию того или иного факта прошлого как причастного к истории коллектива и значимого по сей день, в то время как легенда описывает события прошлого с иным значением: она содержит не столько историю, сколько философию, идеологию и веру и дает ответы на основные вопросы бытия.
• Легенда — сюжетное повествование, в котором должна заключаться некая «интрига» с конфликтом и развязкой, тогда как предание может ограничиваться лишь констатацией факта, который лишь потенциально содержит в себе сюжет [Там же, 10].
• Легенда разрушается, если из нее изъять рассказ о событиях, поскольку ее сущность в объяснении, а не в констатации факта, объяснение дается через описание поступков героя; в том же заключается отличие легенды от поверья: поверье представляет собой лишь констатацию факта.
• Время, отражаемое в легенде, мифическое: описываются события, которые не просто случились «давно», но произошли в эпоху, качественно отличную от нынешней, во время начала мира, которое ценностно противопоставлено нынешнему времени. При этом А. Георгиева отмечает двойственность времени в легенде, унаследованную от мифа: события прошлого актуальны в настоящий момент, они утверждают нормы и регламентируют современное существование мира (в отличие от легендарного сказочное время закрыто — никак не соотнесено с актуальным временем) [Там же, 11].
• Место действия легенды обычно не конкретизировано и своей неопределенностью напоминает место действия сказки: «в одном месте», «у одного дерева», что объясняется универсальностью легенды, тогда как предание обычно ориентировано на конкретное пространство; в этом смысле арена действия легенды — весь мир [Там же, 12].
• В фокусе легенды всегда находится чудо: необыкновенные время, пространство и персонаж предопределяют необыкновенное действие [Там же, 13]. Чудо свидетельствует о присутствии божественного [Там же, 14] и имеет материальное выражение.
• Легенда воспринимается в традиции как достоверное знание [Там же, 15].
А. Георгиева выделяет три группы легенд: этиологические, этические и эсхатологические [Там же, 16].
Таким образом, автором проводится разграничительная линия не просто по принципу: содержащее — не содержащее христианскую проблематику или сюжетику, но учитывается ряд других аспектов, которые в совокупности вполне позволяют отграничить тексты, которые автор склонна понимать как легенды, от других — преданий, сказок и проч. Сам персонаж тут не будет определяющим, и по этой типологии рассказы о святом, который дал название местности или наказал жителей села за негостеприимство, определенно должны быть отнесены к преданиям.
Похожего принципа придерживается К. В. Чистов. Он выделяет «два типа устных рассказов несказочного характера — рассказы о прошлом (исторические предания и т. п.) и рассказы о том, что продолжает существовать (например, продолжают верить в существование клада в каком-то лесу, в разбойников или лешего, в где-то скрывающегося “избавителя”, в утопическую землю и т. д.). По-русски эти рассказы трудно назвать “преданиями”. Они не просто хранят в памяти людей знание о событиях или явлениях, ушедших из живой традиции, а продолжают развивать и наращивать свои дочерние рассказы» [Чистов, 10]. Именно этот критерий — в основе содержания лежит явление, факт, имеющий значение и существующий в настоящем, — позволяет ученому выделить легенду в отдельный жанр в отличие от преданий и быличек. При этом он замечает, развивая наблюдения К. Сидова, что все жанры несказочной прозы могут существовать в форме «толков и слухов», меморатов и фабулатов, что не влияет на их отнесение к тому или иному жанру [Чистов, 33-34]. Соответственно, исследуемые им тексты К. В. Чистов называет социально-утопическими легендами, вне зависимости от наличия или отсутствия в них христианского содержания, которое не меняет существенно характера этих текстов.
Одна из последних работ, в которых затрагивается интересующий нас вопрос и которая наиболее близка нам по проблематике, — монография Ю. М. Шеваренковой «Исследования в области русской фольклорной легенды» [Шеваренкова-2004]. Исследовательница делает подробный обзор работ, в которых обсуждается терминологический вопрос [Шеваренкова-2004, 13–20]. Сама же она придерживается понимания легенды как «совокупности народных религиозных представлений, выраженных сюжетным повествованием», — в отличие от «разного рода религиозных поверий, представляющих собой не выраженную в сюжете информацию о значимых для человека явлениях и реалиях человеческого и природного мира» [Там же, 20]. Это определение умышленно сформулировано крайне общо, так, чтобы могло охватить предельно широкий круг сюжетных текстов, и в этом стремлении автор все же недостаточно четко обозначила границы: без особой оговорки сюда может быть отнесен и духовный стих, и некоторые другие жанры.
Далее Ю. М. Шеваренкова выделяет в качестве основного вида собственно легенды, называя их «классикой жанра» и подразумевая под таковыми тексты, входящие в один из «трех основных блоков, где мир и человек осмыслены […] в разных аспектах и в связи с разными темами». Имеются в виду 1. «легенды, рассказывающие о происхождении мира, его материальном, “физическом”, внешнем устройстве; то есть космогонические, этиологические и эсхатологические легенды» 2. «легенды, акцентирующие внимание на “внутреннем”, этическом устройстве мира», которые автор также называет своеобразной христианской историей в лицах и к которым относит библейские и агиографические легенды; 3. «христианские легенды, в центре которых не макро-, а […] микромир — “человек”», то есть легенды о грешниках и праведниках, а также о странствующем божестве» [Там же, 24]. Затем автор предлагает выделить промежуточные типы текстов, относящиеся к легендам, но обладающие и признаками других жанров: легенды-«былички» и легенды-«предания». Соответственно, эти жанровые образования имеют черты сходства с собственно быличками и преданиями. В первом случае, как и в быличке, в основе легенды-«былички» лежит «сюжетная ситуация встречи человека с потусторонними силами и взаимоотношения с ними. Разница при этом заключается в том, что быличка апеллирует к демонологическим персонажам, а легенды-“былички” рассказывают о персонажах христианского мира», о контактах «реального [то есть, видимо, конкретного; курсив автора. — А. М.] человека с чудесной силой» [Там же, 41]. Легенды-«предания», напротив, акцентируют внимание «не на субъективных переживаниях и пограничных состояниях реального человека, ставшего объектом воздействия на него святых сил, а на истории того места, края [курсив автора. — А. М.], где он живет» [Там же, 57].
Такое деление нельзя признать окончательно снявшим все вопросы, поскольку оно не отражает ряда особенностей жанра и вариантов текстов (например, руководствуясь им, трудно разграничить в ряде случаев собственно легенды агиографические и легенды-«предания», если речь в них идет, скажем, о святом, контактирующем с жителями определенной местности), однако нельзя не признать за ним практического удобства для работы с текстами, не ставящей перед собой специальной задачи изучения особенностей поэтики фольклора.
Наконец, хотелось бы остановиться вкратце на проблеме указателя мотивов народных агиографических легенд и — шире — текстов агиографического характера. Вышеизложенная проблематика, несомненно, ведет к необходимости создания такого указателя. Вместе с тем его нет и до сих пор не предпринято никаких попыток к его созданию. Исследователи предпочитают пользоваться готовыми наработками на материале смежных жанров (прежде всего преданий и сказок — последние часто — ATU, СУС, Krzyżanowski — включают сюжеты легендарного характера). Попытка создать такой указатель на ином, хотя и близком материале сделана Дороти Брэй, автором указателя мотивов житий раннеирландских святых [Bray]. Указатель составлен в соотношении с национальной героической традицией, поскольку, по мнению составителя, ближайшая параллель житиям святых в Ирландии — это героические сказания (hero tales). Биография героя — формула, рамки, в которых творит рассказчик. Существуют определенные точки внутри нарратива, которых ожидает слушатель: необычное зачатие и рождение героя; воспитание, которое подчеркивает его героическое будущее; карьера и чудесные деяния, включая основной конфликт, в котором он побеждает; необычная или чудесная смерть героя. Большинство этих точек совпадает с биографией святого: зачатие и рождение, сопровождаемые чудесами; обучение и воспитание в вере, где проявляется будущая святость; карьера пастора или чудотворца; смерть, сопровождаемая чудесами [Там же, 14]. Указатель основывается на принципе выделения мотивов, принятом в указателе Томпсона, и, как следует из введения, является избирательным, то есть выделяются «интересные или необычные» (interesting or unusual) мотивы. В таком виде мы имеем дело не с законченным справочным инструментом, а лишь с попыткой создать рамки для дальнейшего изучения житий отдельных святых [Там же, 9].
Второй справочник, который никак не может быть назван указателем сюжетов или мотивов, однако является важнейшим итогом и одновременно инструментом изучения народной агиографии, — это уже упомянутый труд Жака Мерсерона — «Словарь мнимых и пародийных святых» [Merceron]. В нем персонажи расположены по именам в алфавитном порядке, однако предварительно поделены по разделам в зависимости от способа их возникновения и функционирования в культуре и языке.
Перед будущими составителями указателя мотивов народной агиографии стоит ряд серьезных проблем, одна из которых заключается в плохой изученности и главное — в недостаточной фиксации материала. Народные рассказы о святых, в особенности те, которые могут быть сочтены вторичными по отношению к житиям, записаны крайне мало и плохо и еще хуже изданы. Вторая, не менее серьезная проблема заключается в отмечавшейся уже зависимости народной агиографии от книжной, что делает потенциальный круг мотивов практически бесконечным, ибо наряду с традиционными в основе нарративов зачастую оказываются и книжные мотивы. Тем не менее следует признать первостепенную важность этой проблемы и надеяться, что она вскоре найдет своего исследователя.
Агиография в системе жанров древнерусской литературы: методологические проблемы изучения
Реферат
Агиография в системе жанров древнерусской литературы: методологические проблемы изучения
Введение
агиография древнерусский литература
Агиография (от гр. [греч] αγιος «святой» и [греч] γραφω «пишу»), научная дисциплина, занимающаяся изучением житий святых, богословскими и историко-церковными аспектами святости. Агиографические памятники могут изучаться с богословской, исторической, социально-культурной и литературной точек зрения. С историко-богословской точки зрения жития святых изучаются как источник для реконструкции богословских воззрений эпохи создания жития, его автора и редакторов, их представлений о святости, спасении, «обожении» и т.д. В историческом плане жития при соответствующей критике выступают как первоклассный источник по истории Церкви, равно как и по гражданской истории. Филологическое изучение житий предполагает исследование их поэтики. При этом важно отметить, что рассмотрение жития в данном аспекте не может быть полным без исторических и богословских комментариев.
Агиографическая (житийная) литература долгое время была недостаточно изучена, поэтому до сих пор нет научных изданий многих текстов, в современной медиевистике практически нет обобщающих работ по изучению жития как такового, поэтому существует некоторые проблемы в методологии исследования.
В данной работе представляется актуальным многоуровневый подход к изучению агиографических памятников. Жития будут рассматриваться в богословском, историческом и литературоведческом аспектах.
1. Агиография в системе жанров древнерусской литературы
Прежде чем рассматривать агиографию как отдельный жанр, следует остановиться на выявлении особенностей процесса жанрообразования в древнерусской литературе в целом. Так как жанры древнерусской литературы, в отличие от литературы нового времени, не равноправны, а составляют иерархическую своеобразную систему, то они выступают во взаимодействие и поддерживают существование друг друга. Как отмечает Д.С. Лихачев, «Литературные жанры Древней Руси имеют очень существенные отличия от жанров нового времени: их существование в большей степени, чем в новое время, обусловлено их применением в практической жизни. Они возникают не только как разновидности литературного творчества, но и как определенные явления древнерусского уклада, обихода, была в самом широком смысле слова».
Таким образом, в литературе Древней Руси прослеживается «жанровая система», в которой жанры отличны от современной литературы, во-первых, своей практической целью, во-вторых, функциональной значимостью. Так, жития, поучения, проповеди использовались в церковном обиходе, летописи — в дипломатических отношениях, хожения служили практическим целям паломничества и т.д.
Следует отметить, что жанровая специфика древнерусской литературы определяется во многом исходя из особенностей миросозерцания древнерусского средневекового общества, по своей природе она более консервативна, так как ориентирована на каноны, утверждаемые на церковных соборах. Внутри этой системы жанры располагались в определенной иерархической последовательности: Священное Писание, творения отцов церкви, жития, которые в проложной форме относились к богослужебной литературе, а в минейной к четьей. В связи с данной спецификой житий, на изучение агиографических памятников следует обратить особое внимание.
Агиография — один из важнейших жанров в системе средневековой христианской литературы, содержащий повествование о жизни и подвигах людей, признанных церковью святыми. Согласно Краткому словарю агиографических терминов, житие следует признавать не столько биографией святого, сколько описанием «его пути к спасению, типа его святости». В литературной энциклопедии житие рассматривается как «один из основных эпических жанров церковной словесности, расцвет которого пришелся на средние века. Объект изображения жития — подвиг веры, совершаемый историческим лицом или группой лиц (мучеников веры, церковных или государственных деятелей). Чаще всего подвигом веры становится вся жизнь святого, иногда в житии описывается лишь та ее часть, которая и составляет подвиг веры, или объектом изображения оказывается лишь один поступок».
Так как все жития имеют в своем основании христианский контекст, то нам представляется актуальным многоуровневый подход к их изучению. В данной работе жития будут рассматриваться в богословском, историческом, литературоведческом аспектах.
. Многоуровневый подход к их изучению агиографических памятников: богословский, исторический, литературоведческий аспекты
Богословский аспект:
Как уже было сказано, агиографические памятники — произведения, в первую очередь, религиозные, церковные, поэтому их содержательную сторону следует рассматривать в определённом ракурсе христианского мировоззрения, соотнося при этом содержательную сторону памятников с вероучительными истинами Церкви, христианской антропологией и аксиологическими установками. Кроме того, важной содержательной частью житий является понятие святости и его реализация на примере жизни святых. Собственно в этом аспекте, в самом понимании святости, агиография встречается с философией. И святость здесь выступает как практическая философия христианства. Именно она занимала особое место в формировании древнерусской агиографии XI века, которая изначально создавалась в качестве руководства к христианской жизни.
Исходя из того, что житие являлось одной из исторически конкретных форм «биографии», личность в которой представляла читателю высокий христианский идеал и нравственный путь самосовершенствования, следует рассмотреть в качестве философского аспекта агиографии именно христианскую антропологию «об образе и подобии Божием».
В первую очередь, отметим, что жития были призваны на конкретном примере живого человека, показать в литературе православное учение о человеке, стремящемся к достижению христианского идеала, к образу и подобию Христа, к святости. Само понятие «святость» в самом глубоком смысле относится к самому Богу: святым считается то, что причастно Ему. Догматическое богословие относит святость к катафатическим свойствам Божиим: «Бог в Своих стремлениях определяется и руководствуется представлениями об одном высочайшем добре». Из этого следует, что святость есть наличие высших духовных ценностей, которому абсолютно чуждо проявление греховности. Достижение святости, исходя из традиций Священного Писания, является задачей и целью для каждого человека.
Источник святости христиан — в святости Христа. Именно встреча со Христом открывает человеку возможность восстановления его падшей природы, преображения под действием благодати — «обожения», которое «составляет существо святости».
Данное учение о святости подробно рассматривается в относительно новой теологической дисциплине — агиологии, изучающей жития святых «с целью установления типов святости, их духовных особенностей в национальном и историческом аспектах» . В отличие от агиографии, изучающей жития святых как памятники духовной литературы той эпохи, когда они создавались, агиология «сосредотачивает свое внимание на самом святом, на типе его церковного служения и восприятии такого типа святости в различные исторические эпохи».
·Апостолы и равноапостольные
·Мученики
·Преподобные
·Святители
·Благоверные
·Юродивые
·Праведные
Такие различные пути и способы подражания Христу, закреплённые в византийской традиции, были перенесены в готовом виде в древнерусскую агиографию, однако житийная традиция на русской почве повлекла за собой особую трансформацию. Как отмечает С.В. Минеева, данные изменения заключались в «соединении общественного, нравственного и религиозного идеалов в единый и неразделимый сплав, когда религиозные христианские идеи в русском национальном сознании воспринимались в особой степени как личностные и моральные, идеи политические — как религиозные и нравственные, а идеи общественного служения сближались с идеями личной святости и религиозного мученичества». Таким образом, в основе «русской святости» лежал не столько мистический созерцательный идеал, сколько активный идеал «освящения жизни» в миру.
Исторический аспект:
Агиографический текст помогает определить важные моменты в подвиге подвижника для времени написания жития, просмотреть изменения в восприятии деятельности святого, если рассматривать разные по времени и месту написания редакции одного и того же агиографического произведения, провести параллели и выявить сходства и различия, исходя из географических и социальных особенностей. Агиограф может убирать или добавлять эпизоды, изменять трактовку отдельных поступков, заменять и объяснять отдельные слова и высказывания. Все это может послужить в качестве косвенных исторических данных для ученого. Жития не очень подходят для объективного исследования, как исторические произведения, в них для этого слишком мало фактов. В этом замечается их сходство с произведениями о героях войны, которые имеют весьма схожую структуру.
Несмотря на то, что жития не всегда точны в передаче биографических черт в жизни святого, они точнее других источников передавали сам смысл подвига в том виде и тем языком, каким он представлялся для современников и, в свою очередь, формировали воззрения верующих последующих поколений на подвиг. Нравственное начало всегда было необходимо в общественной жизни. Нравственность, в конечном счете, едина во все века и для всех людей. Честность, добросовестность в труде, любовь к Родине, презрение к материальным благам и в то же время забота об общественном хозяйстве, правдолюбие, общественная активность — всему этому учат нас жития.
Большое влияние на изучение агиографии оказал труд В.О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» М., 1871. Взяться за исследование ученого подвигло широко распространенное в научной среде мнение, что жития, находящиеся в сфере внимания церковных авторов, должны быть введены и в научный оборот как новый и ценный источник достоверных исторических сведений. Позднее была написана основная работа Г.П. Федотова «Святые Древней Руси», посвященная русским житиям. Где автор рассматривал изучение русской святости в ее истории и ее религиозной феноменологии: «В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь». В 1902 году появляется труд А. Кадлубовского «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых».
В советский период главным препятствием для исследования агиографических текстов явились общественные идеологические установки, и, соответственно, никакой достойной внимания научной работы в этом направлении не велось вообще.
Литературоведческий аспект:
Житие можно сравнить со словесной иконой святого, оно отличается от биографии как икона от портрета. Как и в иконе, житие пишется по канону, правила и принципы составления канонического жития в значительной степени связаны с трудом византийского св. Симеона Метафраста (Х век). Именно в нём мы находим отработанные правила написания жития с точки зрения его структуры, содержания, стиля.
Е.Н. Никулина в книге «Агиология» представляет следующую структуру композиционного агиографического канона:
·«повествование о жизни святого как бы обрамляется введением и послесловием агиографа.
·Во введении автор, как правило, говорит о своем недостоинстве, испрашивает помощи Божией в изображении подвига святого, приводит параллели из Священной истории, подтверждая их многочисленными библейскими цитатами. Иногда вступление сокращается до признания автором своей греховности и недостоинства.
·Основная часть состоит из похвалы родителям и родине святого, повествования о чудесном предвозвещении его появления на свет, проявлениях святости в детском и юношеском возрасте. Святой часто чуждается детских игр, прилежно учится в школе, отказывается от последующего образования ради сохранения добродетели. В повествовании о святом, как правило, описаны его искушения, решительный поворот на путь спасения, подвиги, кончина, посмертные чудеса.
·В заключении обычно содержится благодарение Бога, призыв к восхищению подвигом и чудесами святого, молитва к нему с просьбой о покровительстве, может быть похвала акафистного типа. Последнее слово жития — «Аминь»».
Важно понять, что каноническое житие изображает человека в его святости, поэтому, зачастую оно не повествует об ошибках подвижника, а изображает его в идеальном состоянии. При описании добродетелей святого агиограф придерживается также и определенной схемы, отражающей общие закономерности духовной жизни. Такие типичные черты того или иного пути к святости отражаются в «топосах», которые помогают дать подробное описание подвижника того или иного чина святости: это может быть «любой повторяющийся элемент текста — от отдельной устойчивой литературной формулы до мотива, сюжета или идеи».
Современная исследовательница житий Т.Р. Руди предложила классификацию русских житий на основе учета топосов, которые содержатся в каждом из них.
Типы святости:
1)Мученики (подражание Христу)
«Мартирии являются первым по времени возникновения агиографическим жанром, в котором еще не нашла отражения сформировавшаяся позднее классическая схема похвального жития. Суть подвига мученика — жертва за веру, сознательное принятие страсти Христовой во имя утверждения христианской веры и учения». Поскольку подражание Христу является одним из принципов христианской этики, то мотив подражания Христу является общим мотивом житий в целом как жанра.
2)Просветители народов (подражание апостолам или подражание Константину) — равноапостолы. «Память и похвала Владимиру» Иакова мниха. Подобие князя Ольге, Елене, Константину. Иларион — апостолам.
3)Преподобные (подражание ангелам)
Наиболее разработанная топика, включающая множество сюжетов и мотивов, формул, тропов, библейских цитат. Многие из них подчеркивают сходство монахов с ангелами.
4)Святые жены (подражание Марии) — особая группа житийных героинь, не представляющая собой единого чина святости. В этих житиях, помимо топосов, характерных для того или иного чина святости, есть ориентация на Каллистратово Житие пресвятой Богородицы, в подражание которому создаются черты облика святых жен: чистота, смирение, послушание, молчаливость, прилежание в посте и молитвах. Эти черты особенно важны для житий праведных жен, описывающих богоугодную жизнь в миру.
Житийное повествование отличается также высоким риторическим стилем, имеет не исторический или психологический, а нравственно-назидательный характер, описывает не столько внешние факты биографии, сколько идеальный образ святого.
Также в работе следует уделить особое внимание основным особенностям поэтики, свойственной русской агиографии. Выдающийся литературовед и исследователь древнерусской литературы Д.С. Лихачев в своем труде «Поэтика древнерусской литературы» описывает следующие основные литературные средства: метафоры-символы, стилистическую симметрию, сравнения и нестилизационные подражания. Метафоры-символы — это литературное средство, обусловленное особенностью сознания средневекового человека, согласно которому все явления нашей действительности рассматриваются как носители тайного символического значения. Раскрытие этого скрытого смысла помогает читателю понять глубже идейное содержание произведения и, в частности, образа. Стилистическая симметрия подразумевает двойное повторение одного и того же и представляет достаточно редкое, архаичное явление. Особенностью сравнений в древнерусской литературе является то, что «они касаются внутренней сущности сравниваемых объектов по преимуществу». Внешняя же составляющая является малозначимой. Так,
в друвнерусской агиографии почти не дается описания внешних качеств святого и его окружения. Если сравнительное описание внешности присутствует, то оно очень условно. Для нестилизационных подражаний в древнерусской литературе характерно, что «они заимствуют отдельные готовые элементы формы своего оригинала, но они не дополняют и не развивают оригинал творчески» (Там же). Подражания подразумевают вставку в текст отдельных стилистических формул, отдельные образов, признанных автором удачными в других произведениях.
Д.С. Лихачев в своем научном труде подробно пишет о таком литературном явлении как художественное абстрагирование, стремление к которому проходит через всю средневековую русскую литературу.
Абстрагирование прямо противоположно конкретизации. При художественном абстрагировании художественное впечатление вызывается «неуловимой значительностью ассоциаций или крайним обобщением идей, при котором значения слов обобщены до предела и представляют собой как бы только схематические проекции». Абстрагирование, как отмечает исследователь, вызывалось попытками увидеть во всем «временном» и «тленном», в явлениях природы, человеческой жизни, в исторических событиях символы и знаки вечного, вневременного, «духовного», божественного.
Таким образом, филологическое изучение житий выступает как основа всех прочих типов исследований. Жития пишутся по определенным литературным канонам, меняющимся во времени и различным для разных христианских традиций. Любая интерпретация житийного материала требует предварительного рассмотрения того, что относится к сфере литературного этикета. Это предполагает изучение текстологии, богословского и исторического аспектов.
3. Методологические проблемы изучения агиографического жанра
В современной медиевистике практически нет обобщающих работ по изучению жития как такового. В основном агиографию рассматривали в плане исторического, культурного, церковного аспектов, не применяя при этом комплексного анализа. Следует учесть, что при рассмотрении различных методологических аспектов комплексного анализа агиографического жанра, нужно исследовать формальные и содержательные особенности произведения в их единстве. Для этого подробнее остановимся на некоторых методологических моментах изучения житийного жанра.
Проблема методологического подхода к изучению агиографического жанра является одной из актуальных в современной медиевистике. На раннем этапе изучения древнерусской словесности отечественные учёные в основном использовали историко-литературный и текстологический подходы, которые базировались не только на изучении самих событий и фактов русской истории, поэтики и композиции художественного произведения, но и на изучении истории текста отдельного памятника. Такой синтез, как отмечает Д.С. Лихачёв, играл важную роль в истории литературы: «История текста отдельного памятника в конечном счёте даёт огромный первичный материал для истории литературы в целом».
С другой стороны, в медиевистике становится актуальным семиотический подход исследования древнерусских памятников, разработанный Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенским. Исследователи рассматривали литературный памятник как знаковую структуру, в которой все элементы органично взаимодействуют между собой. Такой формальный анализ «направлен на текст как на единственную данность, опираясь на наблюдения над формой этого текста как такового».
Западные слависты, как отмечает С.В. Минеева, в настоящее время разрабатывают иные подходы к изучению древнерусских литературных памятников. Так, Р. Пиккио останавливается на поэтологическом подходе изучения, который основан на исследовании внутрилитературной эстетики произведения. В данном подходе эстетический критерий превалирует над остальными методами изучения произведения, так как рассматривает в поэтике текста — отражение мира, а в принципах создания литературного произведения — устройство мира. Противостоит данному методу социологический подход, отрицающий эстетическое значение древнерусских памятников и рассматривающий литературу как «книжность», в которой значительную роль играют функциональные законы. Отдельным направлением является имманентное, которое исследует рукописные традиции древнерусских текстов изолированно друг от друга.
В современной медиевистике практически нет обобщающих работ по изучению жития как такового. В основном агиографию рассматривали в плане исторического, культурного, церковного аспектов, не применяя при этом комплексного анализа. Следует учесть, что при рассмотрении различных методологических аспектов комплексного анализа агиографического жанра, нужно исследовать формальные и содержательные особенности произведения в их единстве.
Заключение
Жития — это литературные произведения религиозного характера, основанные на историческом материале, что обусловливает многоуровневый подход к их изучению. В данной работе агиография была рассмотрена в богословском, историческом, и литературоведческом аспектах. Так, изучение житий в богословском ключе в основном базируется на типах святости, свойственных тому или иному подвижнику. Исследование житий с исторической точки зрения позволяет собрать множество сведений о жизни в Древней Руси. Порою житие является единственным источником биографических сведений об исторической личности, удостоенной канонизации, и это также немаловажно.
Литературоведческое исследование житий предполагает изучение их поэтики. Так, в житии выработался специальный канон повествования, проявляющийся на всех уровнях произведения. На структурном уровне это строгая композиционная схема, на стилистическом уровне — использование определённых художественных средств и агиографической топики. На идейно-содержательном уровне каноническая ориентация отражается в принципе следования и уподобления высоким сакральным идеалам святых.
Проблемы, возникающие при методологическом подходе анализа древнерусских памятников существуют, потому как для полного понимания текста необходима реконструкция картины мира древнерусского человека. В связи с этим необходим комплексный подход к анализу художественного произведения.
Список использованной литературы
1. Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000.
2. Давыденков О., свящ. Догматическое богословие: Курс лекций: В 3 ч. — М., 1977.
. Живов В.М. Краткий словарь агиографических терминов. 1994. [Электронный ресурс] Режим доступа: #»justify»>4. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Избранные работы в трех томах. Т. 1. — Л., 1987.
5. Лихачев Д.С. Текстология. Л., 1983.
. Лихачев Д.С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.
. Минеева С.В. Жанровое своеобразие жития преп. Зосимы и Савватия соловецких (методологический аспект) // Мир житий. М., 2002.
8. Никулина Е.Н. Агиология. Курс лекций. М., 2012.
. Николюкин А.Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий. — РАН, М., 2001.
. Полетаев Л. Жанр жития в русской духовной русской духовной литературе XIX-XX вв. // Официальный сайт Санкт-Петербургской Духовной Академии: [Web-сайт], #»justify»>. Руди Т.Р. Топика русских житий // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005.
12. Ужанков А.Н. Стадиальное развитие русской литературы XI — первой трети XVIII века: Теория литературных формаций. М., 2008.
Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
19, С. 283-345
опубликовано: 16 мая 2013г.
- Жития святых
- Жития мучеников
- Жития просветителей народов
- Жития святителей
- Жития благоверных правителей
- Жития преподобных
- Жития Христа ради юродивых
- Жития праведников
- Восточная Ж. л.
- Греческая
- Сирийская
- Коптская
- Армянская
- Грузинская
- Эфиопская
- Арабская
- Болгарская
- Восточнославянская Ж. л.
- Сербская
- Ж. л. в Молдавии и Румынии
- Западная Ж. л.
- Латинская
- Ж. л. в странах Европы. Англосаксонская и английская
- Ирландская и шотландская.
- Скандинавская
- Французская
- Немецкая
- Итальянская
- Испанская и португальская
- Венгерская
- Чешская
- Польская
ЖИТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА
раздел христианской лит-ры, объединяющий жизнеописания христианских подвижников, причисленных Церковью к лику святых, чудеса, видения, похвальные слова, сказания об обретении и о перенесении мощей. В качестве синонима Ж. л. в совр. отечественной науке используется термин «агиография» (от греч. ἅϒιος — святой и ϒράφω — пишу), тогда как в XIX в. более употребителен был термин «агиология» (напр., в соч. архиеп. Владимирского Сергия (Спасского)). В наст. время агиология понимается как один из разделов богословия (см. ст. Агиология).
Наиболее ранний тип житийных текстов возник во время гонений на христиан в I-IV вв. (см. ст. Гонения на христиан в Римской империи). Повествования о мучениках обычно составлялись для оповещения христ. общин и служили не только для распространения их почитания, но и для поднятия духа верующих в период гонений. Наиболее древний из сохранившихся текстов такого рода — Мученичество сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (156), составленное в виде послания. Ранние мученичества (лат. passiones; греч. μαρτύρια) часто включали офиц. протоколы судебных заседаний (см. ст. Акты мучеников).
Собрания кратких записей, состоящих из имени святого и дня его поминовения (иногда с указанием места почитания), стали впосл. основой для Мартирологов (martyrologium; μαρτυρολόϒιον) — списков мучеников, составленных по календарному принципу.
Резкое сокращение числа мучеников (после 313) и прекращение гонений на христиан (после гибели в 363 имп. Юлиана Отступника) привели к формированию совершенно иного в структурном отношении типа агиографического текста — пространного жития, предполагавшего подробное и последовательное повествование о жизненном пути подвижника, поскольку именно благочестивая жизнь святого, а не его мученическая смерть стала предметом изображения агиографа.
Пространное житие, получившее интенсивное развитие с IV в. и сформировавшееся под влиянием античной лит-ры (произведения Филострата, Флегонта, жизнеописания Плутарха, сочинения Ксенофонта и др.), в дальнейшем стало важнейшим жанром средневек. письменности и основным типом агиографических текстов в лит-рах всех христ. народов.
Помимо житий (vita; βίος κα πολιτεία) и деяний (acta или gesta; πράξεις), являющихся жизнеописанием в собственном смысле, выделяют жития с похвалой (βίος σὺν ἐϒκωμίῳ), обычно отличающиеся большей риторической отделкой. Похвальное слово (ἐϒκώμιον) имитирует устную проповедь, так же как и гомилии в честь святого, и сосредоточивается не столько на фактах, сколько на общих местах и нравственных выводах. Краткое житие в лат. Мартирологе, греч. Синаксаре (в слав. традиции Пролог) или в Минологии, напротив, лишено каких бы то ни было риторических украшений и передает лишь наиболее существенные факты из жизни святого. Сказания о посмертных чудесах святого могут не только включаться в житие или присоединяться к нему, но и бытовать отдельно в виде особых сборников (Чудеса свт. Николая Чудотворца, вмч. Георгия Победоносца и др.), иногда связанных с конкретным местом почитания святого (напр., Чудеса мч. Евгения Трапезундского). Границы между агиографическими жанрами никогда не были очень жесткими, поэтому заглавие конкретного текста не всегда адекватно отражает его жанровую природу. Извлечение исторической информации из агиографических источников любого рода часто требует очень сложного анализа, т. к. целью авторов этих текстов была не передача сведений сама по себе, а создание определенного образа, к-рый запечатлелся бы в сознании верующего читателя или слушателя как достойный почитания и подражания.
Жития святых
, как и агиографические тексты вообще,- один из самых формализованных лит. жанров, основной характеристикой к-рого является следование канону, проявляющееся на всех уровнях произведения — структурном, стилистическом, идейном и символико-богословском. На структурном уровне следование художественному канону выражается в наличии строгой композиционной схемы жития; на стилистическом уровне — в использовании определенных поэтических средств, важнейшим из к-рых является агиографическая топика (т. н. общие места;
loci communes; κοινο τόποι); на идейном и символико-богословском уровне ориентация на канон находит отражение в принципе уподобления (imitatio) и следования сакральным образцам.
Житие как жанр христ. письменности обладает ярко выраженной спецификой: цель агиографа не воссоздание исторически достоверной биографии, а выявление сути и вневременного содержания подвига святого, земная жизнь к-рого была путем к Богу. Поэтому агиограф зачастую сознательно лишает своего героя индивидуальных, «земных» черт и оставляет в его образе лишь типическое и «небесное». Этим объясняется традиц. для житий святых наличие значительного числа устойчивых лит. формул, а также общих для мн. текстов мотивов, сюжетов и др. структурных элементов текста.
Установка на канон и ориентация на образцы как на основные принципы построения агиографического текста приводят к частым заимствованиям из житий известных подвижников при создании житий новопрославленных святых: т. о. новый святой уподобляется его великим предшественникам, а агиограф свидетельствует святость своего героя. Вместе с тем установка на канон, являвшаяся важнейшей чертой христ. сознания, распространялась как на художественную реальность, так и на историческую: можно полагать, что не только агиограф уподоблял своего героя прежним прославленным Церковью святым (следование агиографическому канону), но и сам подвижник в жизни старался уподобиться им.
Обобщенность изображения героев и событий в Ж. л. не лишает жития конкретно-исторических черт: они являются необходимым условием создания достоверного повествования о святом, особенно в разделе чудес.
Сорок мучеников Севастийских. Лист из Минология. 2-я четв. XI в. (ГИМ. Син. греч. № 183. Л. 179)
Сорок мучеников Севастийских. Лист из Минология. 2-я четв. XI в. (ГИМ. Син. греч. № 183. Л. 179)
Схема пространного жития, складывавшаяся в течение столетий, предполагает наличие в нем 3 составляющих — предисловия, основной части и заключения.
Предисловие, как правило, включает ряд типических тем, мотивов и формул, общих для большинства памятников житийного жанра: обоснование обращения агиографа к написанию жития святого (causae scribendi), формулы авторского самоуничижения, сетование на невозможность перечесть все добродетели и подвиги святого и обещание описать лишь «малое от многих» (ex pluribus pauca), просьбу к читателю не осуждать автора за допущенные ошибки (может присутствовать и в заключении) и т. п. Часто во вступлении к житию могут затрагиваться и более общие темы: изложение основных положений христианской догматики, прославление подвижников прошлых времен, обоснование причисления к лику святых новопрославленного подвижника и т. д.
Повествование о жизненном пути святого составляет содержание основной части житий, к-рая также строится по определенной схеме, общей как для вост., так и для зап. христ. традиции. Жизнеописание подвижника, как правило, начинается с рассказа о его благочестивых родителях, при этом этикетные характеристики, к-рыми наделяются отец и мать святого, не только создают облик боголюбивых родителей героя, но и предвосхищают его буд. добродетели. (В мученичествах, напротив, зачастую родители подвижника — нечестивые язычники.) Рождению подвижника часто предшествуют божественные знамения, свидетельствующие о его избранности и посвященности Богу. Описанию детства святого также свойственны устойчивые мотивы: стремление «от младых ногтей» к богоугодной жизни, отвержение детских игр, легкое усвоение грамоты (более редкий вариант — неспособность к грамоте, преодолеваемая лишь с божественной помощью), ранняя духовная зрелость (мальчик-старец; puer-senex) и др.
Описание подвижничества святого строится в соответствии с чином его святости, т. е. относится ли он к мученикам (священномученикам, преподобномученикам, страстотерпцам и др.), равноапостольным (просветителям народов), святителям, блгв. князьям (в зап. традиции королям), преподобным, юродивым или праведным. Повествование о трудах и подвигах, а также прижизненных чудесах святого традиционно завершается рассказом о его праведной кончине, после к-рого, как правило, следуют описание посмертных чудес подвижника и похвала ему. Иногда заключающие житийную схему рассказы о чудесах, а также похвала святому могут выделяться в самостоятельные произведения — повести о чудесах святых и похвальные слова.
Историческое развитие житийного жанра привело к формированию его различных внутрижанровых разновидностей. Так, наряду с традиц. житиями возникли «народные» жития — жизнеописания святых, основной особенностью к-рых является активное использование легендарных и фольклорных мотивов (напр., анонимная Повесть о прощении имп. Феофила, «народные» Жития прп. Иоанна Рильского, Христа ради юродивого Василия Блаженного, некоторые севернорус. жития XVII в. и др.). Помимо пространных житий (входивших в агиографические сборники или сборники смешанного состава, Минеи-Четьи, минейные Торжественники, а также бытовавших в отдельных списках) в средневек. книжности получили распространение краткие жития в составе Синаксарей (Прологов) и Минологиев. Важнейшей характеристикой этого типа Ж. л. являются лаконизм и схематичность изложения, отсутствие вступительной и заключительной частей, а также риторической украшенности.
В системе средневек. жанров Ж. л. занимает особенное место. Некоторые ее разновидности связаны непосредственно с богослужением, другие больше предназначены для индивидуального чтения.
Особый род агиографических текстов представляют патериковые рассказы, повествующие об иноках той или иной обители (или местности). Спецификой этих текстов является, как правило, изложение не полного жизнеописания отцов-подвижников, а отдельных событий их жизни, которые в сочетании с изречениями старцев составляют популярный жанр христ. книжности — Патерики (от греч. πατήρ — отец), или Отечники.
Наличие в житии особых сюжетов и мотивов связано с чином святости прославляемого подвижника.
Жития мучеников
Мученичество — сознательная и добровольная смерть во имя утверждения христианской веры. Следование подвигу Христа — мотив, ставший впоследствии идейной и художественной доминантой житийных текстов как жанра (в западной научной литературе используется термин imitatio Christi, употребляемый также и отечественными исследователями). Предсмертной фразой подвижника часто является мольба ко Господу о прощении его мучителей, восходящая к словам распятого Христа: «Отче, отпусти им: не ведят бо что творят» (Лк 23. 34; ср.: Мф 5. 44). Библейским образцом в подобных эпизодах может являться первомч. Стефан, повторивший перед смертью слова Христа: «Господи Иисусе, приими дух мой. Преклонь же колена, возопи гласом велиим: Господи, не постави им греха сего» (Деян 7. 59-60). Широкое распространение в агиографических текстах получили слова Спасителя, произносимые святыми перед смертью: «В руце Твои [Господи] предаю дух Мой» (Лк 23. 46).
Жития просветителей народов
(миссионерские жития) в большинстве своем ориентированы на апостольские жития. В агиографической традиции св. миссионерам усвоен особый титул, подчеркивающий их подобие апостолам,- равноапостольный (ἰσαπόστολος): равноап. кн. Владимир (Василий) Святославич, равноап. Нина, просветительница Грузии, и др. Одними из первых христ. текстов, в к-рых был использован этот титул, являются апокрифические Деяния ап. Павла и первомц. Феклы и Житие Аверкия, еп. Иерапольского.
Среди традиц. миссионерских топосов — уподобление святого апостолам и равноап. имп. Константину I Великому, иногда с перенесением на миссионера в качестве «титула» имени его великого предшественника (translatio nominis); использование аллюзии на цитату из Псалтири «Якоже жадает елень на источники водныя…» (ср.: Пс 41. 2) для описания охватившего святого неудержимого желания просветить находящийся во тьме неверия народ; описание в устойчивых формулах жестоких язычников, пытающихся убить святого («устремишася на святого со оружием и с дреколием», «яко львы рыкающе» и т. д.); мотив сокрушения идолов и разрушения языческих капищ или кумирен; мотив прения с волхвом (волхвами), восходящий к сюжету о прении с Симоном-волхвом из апокрифических Деяний апостолов Петра и Павла, и др.
Жития святителей
Основное содержание подвига св. иерархов — церковное и общественное служение. Святители традиционно описываются агиографами как духовные наставники порученной им паствы, ведущие ее ко спасению. Борьба за чистоту веры и ревность в сохранении церковных канонов, обличение неправедных властей и защита угнетенных, учительство и служение спасению всех, храмоздательство и щедрая милостыня — важнейшие мотивы святительских житий. Некоторые черты сближают их с житиями святых др. чинов святости: как и преподобным, святителям (особенно избранным из черного духовенства) свойственна монашеская аскеза; как и миссионеры, они несут благую весть и христ. проповедь язычникам; подобно св. правителям, являются заступниками вдов, сирот и вообще обиженных сильными мира сего.
Жития благоверных правителей
Блгв. правители (императоры и князья — в восточной традиции, короли — в зап. традиции) составляют особую группу в чине св. мирян; основной чертой их подвига является общественное служение, воплощающееся в первую очередь в защите Отечества, а кроме того — в покровительстве неимущим и страждущим, нищелюбии и милостыне, и в этом они близки к святителям и праведным. Помимо собственно благоверных правителей известны правители-страстотерпцы (или правители-мученики), правители-просветители, правители-иноки, правители-воины. Житийные тексты, посвященные каждой из этих групп, характеризуются спецификой, которая определяется в соответствии со «второй составляющей» подвига конкретного святого.
Жития преподобных
представляют собой самый распространенный тип агиографических текстов. Художественной доминантой монашеских житий является мотив подражания (и/или уподобления) ангелам (imitatio angeli). Причины, определяющие особый интерес авторов житий преподобных к «ангельским» мотивам, достаточно прозрачны: суть иноческого подвига состоит в отвержении мира с его земной, плотской жизнью, а потому сакральным образцом для монахов (и для авторов их житий в соответствующем аспекте) являются Силы Небесные, бесплотные, т. е. ангельские. Именно поэтому синонимом выражений «принять монашество», «постричься в монахи» в агиографической традиции является устойчивая формула «сподобиться ангельского образа», т. е. вести ангелоподобную жизнь (ср. ἰσάϒϒελος
— равноангельский): отвергнуть жизнь плотскую и сосредоточиться на жизни духа. Отсюда в житиях преподобных и службах им многочисленные формулы, метафоры и сравнения, призванные различными способами подчеркнуть сходство инока с ангелами. Среди них выделяются мотивы внешнего подобия святого ангелу, бесплотной жизни, устойчивая формула «ихже житию сами ангели удивишася и похвалиша», читающаяся обычно в предисловии к житию и относящаяся часто не только к прославляемому святому, но и к преподобным в целом или к святым вообще, а также адаптированная всеми христ. лит-рами и получившая широкое распространение в житиях и службах визант. формула «земной ангел, небесный человек», мотив восприятия святого окружающими как ангела, а не как человека, характеристика монашеской жизни как равноангельской и др.
Жития преподобных содержат ряд устойчивых мотивов, свойственных именно этому (или преимущественно этому) типу житийных памятников: мечта святого с детских лет о постриге; стремление святого избежать брака; тайный уход из дома; плач родителей о сыне как о мертвом; первоначальный отказ игумена в постриге, мотивированный молодостью героя и тяжестью постнического жития; формула пострига (вместе с острижением волос подвижник оставляет и все мирские помыслы); труды на братию мон-ря (монастырские службы) и аскетические подвиги святого (строгий пост, ношение власяницы или вериг, «худые ризы», малый сон (часто сидя или стоя), молчальничество и др.); нежелание «славы от человек» и уход в пустыню с целью ее избегнуть; борьба с бесами; собрание братии и устройство нового мон-ря; предсмертное наставление братии; преставление святого и плач иноков обители о преставившемся наставнике.
Жития Христа ради юродивых
Парадоксальная природа подвига юродства Христа ради (мнимое безумие с целью обличения внешних мирских ценностей, сокрытия собственных добродетелей и навлечения на себя поношений и оскорблений) определяет традиционный набор мотивов житий юродивых: использование цитат из 1-го Послания к Коринфянам ап. Павла (1 Кор 1. 25, 27; 3. 18-19; 4. 10 и др.), к-рые служат своего рода оправданием этого «сверхзаконного подвига»; ориентация на визант. Жития Симеона Эмесского и Андрея Юродивого как на образцы; противопоставление внешнего «похабства» внутреннему благочестию; «поругание миру» и обличение властей предержащих; наготу, говорение притчами и загадками, мотив «пханий и биений», тайная молитва, наличие конфидента и др. Поэтика этого типа житий святых обнаруживает значительное количество общих мотивов с житиями преподобных. Среди них — уход из дома (юродивый, как правило, не подвизается в родном городе или селе), нежелание «славы от человек», топосы imitatio angeli, дар пророчества, аскетические мотивы («томление тела»), ношение «многошвенных риз» (рубища), безмолвствование, мотив «святой ничего не имеет, кроме своего тела», плач об иноке или о юродивом как о мертвом и др. Причиной сходства поэтики столь различных внешне типов агиографических текстов является помимо исторических корней юродства внутреннее родство подвигов преподобных и юродивых: и те и другие, стремясь избежать людской славы за свои добродетели, бегут мира, но разными путями: если преподобные, уединяясь, уходят в пустыню, то юродивые, оставляя социальную жизнь, осуществляют свой тайный подвиг среди людей, скрывая истинное служение за маской мнимого безумия.
Жития праведников
Праведники — особый чин святости, объединяющий подвижников благочестия, угодивших Богу в миру. Говоря о специфике этого типа житий, можно отметить, что в них наиболее часто встречается мотив подражания прав. Иову (imitatio Iobi), хорошо известный в визант. агиографии. Сюда относятся устойчивые формулы, мотивы и сюжеты, описывающие нищелюбие и долготерпение героя, его смиренное и благодарное принятие всех жизненных испытаний. Важнейшим мотивом житий праведников (как мужей, так и жен) является собственно добродетельная жизнь во Христе: исполнение заповедей и любовь к ближнему. Общими мотивами, объединяющими жития праведников с житиями св. правителей (благоверные правители и юродивые относятся к праведникам в широком понимании как св. миряне), являются храмоздательство, нищелюбие и милостыня.
Традиционно среди житий в отдельную группу выделяются жития святых жен, хотя сонм св. подвижниц включает представительниц различных типов святости — от равноапостольных до юродивых. Помимо общих мотивов, характерных для чина святости, к к-рому относится та или иная подвижница (блгв. царица или княгиня, преподобная, праведная и др.), жен. жития, как правило, имеют ряд особых тем, сюжетов и мотивов, к-рые выделяют их из агиографического корпуса. Среди них — мотивы, определяющиеся преимущественно ориентацией нек-рых из этих памятников на Житие Богородицы, написанное Епифанием Монахом: чистота, смирение, послушание, кротость, прилежание в посте и молитвах (напр., Житие прав. Иулиании Лазаревской).
Т. о., поэтика житий святых, которую формируют различные факторы (принадлежность памятника к той или иной внутрижанровой разновидности, уровень образованности агиографа, его лит. задачи и др.), в значительной степени определяется типом святости подвижника. Это выражается в уподоблении прославляемого святого тому духовному первообразу, к-рый является сакральным образцом для всех подвижников этого чина святости.
Обзоры, посвященные Ж. л. на языках народов различных регионов христ. мира, объединены в 2 группы, соответствующие вост. и зап. агиографическим традициям.
Лит.: Троицкий С. В. Жития святых // ПБЭ. 1904. Т. 5. Стб. 582-593; Delehaye H. Les légendes hagiographiques. Brux., 1905; Федотов Г. П. Святые Др. Руси. П., 1931. М., 19905; Адрианова-Перетц В. П. Задачи изучения «агиографического стиля» Др. Руси // ТОДРЛ. 1964. Т. 20. С. 41-71; Лихачев Д. С. Человек в лит-ре Др. Руси. М., 19702; он же. Поэтика древнерус. лит-ры. М., 19793; Берман Б. И. Читатель жития: (Агиогр. канон рус. средневековья и традиция его восприятия) // Худож. язык средневековья: [Сб. ст.]. М., 1982. С. 159-183; Плюханова М. Б. К проблеме генезиса лит. биографии // Лит-ра и публицистика: Пробл. взаимодействия. Тарту, 1986. С. 122-133. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та; Вып. 683); Benz E., hrsg. Russische Heiligenlegenden. Zürich, 1987; Пауткин А. А. Древнерус. святые князья: Агиологический тип как культурно-ист. система // ГДРЛ. 1994. Сб. 7. Ч. 1. С. 212-224; Топоров В. Н. Святость и святые в рус. духовной культуре. М., 1995. Т. 1; 1998. Т. 2; Grégoire R. Manuale di agiologia: Introduzione alla letteratura agiografica. Fabriano, 19962. (Biblioth. Montisfani; 12); Лоевская М. М.
Соблюдение и нарушение канона во вступительной части агиогр. произведения: На мат-ле житий XI-XVII вв. // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 2000. С. 262-276; Руди Т. Р. Средневековая агиографическая топика: Принцип imitatio и проблемы типологии // Лит-ра, культура и фольклор слав. народов: XIII Междунар. съезд славистов (Любляна, авг. 2003): Докл. рос. делегации / Отв. ред.: Л. И. Сазонова. М., 2002. С. 40-55; она же. Топика рус. житий: Вопр. типологии // Рус. агиография: Исслед. Публ. Полемика. СПб., 2005. С. 59-101; она же. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 431-500; она же. Топика житий юродивых // Там же. 2007. Т. 58. С. 443-484; Панченко О. В. Поэтика уподоблений: (К вопр. о «типологическом» методе в древнерус. агиографии, эпидейктике и гимнографии) // Там же. 2003. Т. 54. С. 491-534; Живов В. М. Ранняя восточнослав. агиография и проблема жанра в древнерус. лит-ре // Язык. Личность. Текст: Сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой. М., 2005. С. 720-734; Pratsch Th. Der hagiographische Topos: Griechische Heiligenviten in mittelbyzant. Zeit. B., 2005; Парамонова М. Ю. Агиография // Словарь средневек. культуры / Общ. ред.: А. Я. Гуревич. М., 2007. С. 22-29.
Т. Р. Руди
Восточная Ж. л.
Внутри 1-й группы разделы, выделенные по языковому принципу, расположены в хронологическом порядке в соответствии со временем возникновения Ж. л. на данном языке. При этом греч., груз., румын., южно- и восточнослав. Ж. л. отражают православную традицию; армянская, коптская и эфиопская — монофизитскую, а сирийская и арабская — 4 конфессиональные традиции: православную (мелькитскую), монофизитскую (см. Коптская Церковь и Сирийская яковитская Церковь), несторианскую (см. Церковь Востока) и маронитскую (монофелитскую, впосл. Маронитская католическая Церковь).
Греч. Ж. л. оказала значительное воздействие на формирование др. восточных агиографических традиций, первые памятники к-рых имели переводной характер. Самобытные агиографические традиции (за исключением поздней эфиопской) складывались, как правило, параллельно с переводами, но также под влиянием визант. агиографии. Т. о., постепенно вокруг мн. святых сложились комплексы разновременных и нередко разножанровых текстов, получившие в совр. науке название агиографических досье (legendae). Благодаря интенсивному лит. обмену между Византией и народами христ. Востока мн. жития, особенно древних святых, сохранились в неск. редакциях на разных языках. Поэтому, вост. жития дополняют агиографические досье мн. общехрист. святых, а иногда формируют досье древних святых, почитание которых сохранилось лишь в неправосл. Вост. Церквах или утрачено вовсе.
Особая заслуга в изучении вост. житий принадлежит П. Петерсу и М. ван Эсбруку. Единственным, хотя и неполным справочным изданием по вост. агиографии до наст. времени остается «Bibliotheca Hagiographica Orientalis» Петерса (1910, 1954r). Попытки систематического издания полных досье принадлежат Л. Клюнье (сер. Bibliothèque hagiographique orientale / Éd. L. Clugnet. P., 1901-1905. 9 vol.) и А. Венсинку (Legends of Eastern Saints Chiefly from Syriac / Ed. A. J. Wensinck. Leiden, 1911-1913. 2 vol. Piscataway (N. J.), 20052). Впосл. вост. жития публиковались, как правило, либо в сериях «Patrologia Orientalis» и «Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium», либо в периодических изданиях.
Лит.: BHO; Peeters P. Orient et Byzance: Le tréfonds oriental de l’hagiographie byzantine. Brux., 1950; Enciclopedia del Santi: Le Chiese orientali. R., 1998-1999. 2 vol.
Греческая
Возникновение греч. агиографии связано с повествованиями о мученической кончине христиан во время гонений. Переломный этап в развитии Ж. л. наступил в IV в. с появлением Жития прп. Антония Великого (BHG, N 140), составленного свт. Афанасием I Великим, патриархом Александрийским. В это время началось формирование особого лит. жанра житий святых. Агиографы обращались к различным античным жанрам, заимствуя из них формальные приемы, в результате чего возникали произведения, обладавшие разнообразными внешними жанровыми формами (послания, биографии, надгробной речи и даже эллинистического романа), но родственные по содержанию. Так, «Жизнь Константина» (жизнеописание визант. имп. Константина I Великого)
Погребение прп. Алексия, человека Божия. Лист из Минология. 2-я четв. XI в. (ГИМ. Син. греч. № 183. Л. 210 об.)
Погребение прп. Алексия, человека Божия. Лист из Минология. 2-я четв. XI в. (ГИМ. Син. греч. № 183. Л. 210 об.)
Евсевия Памфила, еп. Кесарийского, на к-рую ориентировались некоторые из более поздних агиографов, построена по образцу биографий Плутарха, Надгробное слово Василию Великому свт. Григория Богослова представляет собой выдающийся памятник торжественного красноречия, Житие прп. Макрины свт. Григория, еп. Нисского, оформлено в виде пространного послания, а Повесть об убиении монахов на горе Синайской мон. Нила Анкирского (нач. V в.) (ряд исследователей считают автором Повести др. Нила) справедливо сближают с романом. Тем не менее общей для всех этих сочинений является чуждая античному миру идея жизненного пути как восхождения к Богу и смерти как окончательного воссоединения с Ним. Также в IV в. появляется еще одна, возникшая уже на христ. почве, форма Ж. л.- Патерики, т. е. сборники кратких рассказов об отцах-пустынниках («Apophthegmata Patrum» и «Лавсаик»). Авторы Патериков (Руфин Аквилейский, Палладий, еп. Еленопольский, блж. Феодорит, еп. Кирский) избегали риторических украшений и усложненного языка, и поэтому их произведения завоевали популярность среди широких кругов верующих.
Окончательное становление Ж. л. как жанра, формирование ее видов, выработка канонов и клише относятся к VI в. В это время создается большое количество первостепенных по лит. достоинствам памятников Ж. л., среди к-рых можно отметить цикл текстов о свт. Григории (Григентии) Омиритском, архиеп. Зафара, Житие прп. Симеона Столпника (BHG, N 1689), а также творения Кирилла Скифопольского (Житие прп. Саввы Освященного и др.). Обычно жития IV-VII вв. довольно пространны и содержат ценную информацию по истории и культуре своей эпохи. Первый расцвет греч. Ж. л. продолжался до сер. VII в. Завершило его творчество таких замечательных писателей, как Иоанн Мосх (автор знаменитого «Луга духовного»), свт. Софроний I, патриарх Иерусалимский (Житие прп. Марии Египетской и др.), Георгий Сикеот (Житие прп. Феодора Сикеота) и Леонтий Неапольский (Жития прп. Симеона Юродивого и свт. Иоанна Милостивого). Во 2-й пол. VII-VIII в. наряду с общим упадком лит. творчества отмечается и значительное оскудение агиографии. В этот период, однако, создавались обширные корпусы посмертных чудес, связанных с местным почитанием святых (вмч. Димитрия Солунского и вмч. Артемия Антиохийского, чтимого к-польского святого) и мн. др. Сведения, содержащиеся в этих собраниях, во многом восполняют отсутствие др. источников. В последнее время делались попытки выявить т. н. иконоборческую агиографию, т. е. по ряду косвенных признаков установить принадлежность текста к эпохе иконоборчества (726-843 с перерывом между 787 и 815), однако они остались в целом на уровне гипотез.
Новый расцвет греч. Ж. л. начался вместе с общим подъемом визант. словесности в нач. IX в. Уже в 806 г. появляется Житие прмч. Стефана Нового (BHG, N 1666), красочно описывающее гонения на монашество при имп. Константине V. Борьба с иконоборчеством способствовала созданию большого количества житий, прославляющих правосл. исповедников, пострадавших за иконопочитание. Среди них выделяются Житие прп. Никиты Мидикийского мон. Феостирикта и Житие свт. Евфимия Сардского свт. Мефодия I, патриарха К-польского. Известным агиографом был Игнатий Диакон, написавший, в частности, Жития патриархов К-польских Тарасия и Никифора. Из крупных авторов 2-й пол. IX — нач. X в. следует упомянуть Савву Монаха и плодовитого писателя Никиту Давида Пафлагона (Житие свт. Игнатия, патриарха К-польского, и др.). Уже в творчестве последнего проявилась тенденция к стилистической и отчасти содержательной унификации более ранних текстов, к-рая достигла вершины во 2-й пол. X в. в творчестве прп. Симеона Метафраста. Он первым среди агиографов занялся упорядоченным, календарным подбором житий. Кроме того, он перерабатывал древние тексты в соответствии с совр. ему лит. стилем, за что получил прозвание Метафраст (от греч. μεταφράζω — пересказываю, перекладываю). Популярность составленных им Миней-Четьих была столь велика, что отрицательно сказалась на сохранности древних житий. Метафраст критически подходил к текстам, иногда дополняя их согласно канонам риторики с целью придать повествованию большую силу и красоту, а иногда исключал из текстов ошибочную, по его мнению, информацию. Обычно считается, что Метафрастом было переработано всего ок. 140 житий (полностью за сент.-нояб. и отдельные тексты за др. месяцы). Точное число назвать трудно, поскольку в рукописях зачастую ему приписывались чужие тексты.
В X-XI вв. продолжалась традиция монашеских жизнеописаний, в частности в Житиях прп. Константина Синадского (Константина, что из иудеев), прп. Афанасия Афонского и прп. Луки Фокидского (Элладского). В это же время появляются полулегендарные или вовсе фантастические жития «рамочного» типа, в к-рых устойчивая агиографическая форма наполнялась разнообразным содержанием. Таковы Жития прав. Андрея Юродивого, свт. Феодора Эдесского, прп. Василия Нового и прп. Нифонта, еп. Констанции Кипрской (последнее Церковью не признавалось).
Чудеса вмч. Димитрия Солунского. Лист из рукописи. 2-я пол. VII-VIII в. (Vat. gr. 797. Fol. 292)
Чудеса вмч. Димитрия Солунского. Лист из рукописи. 2-я пол. VII-VIII в. (Vat. gr. 797. Fol. 292)
После очередного упадка Ж. л. в XII — нач. XIII в. в палеологовскую эпоху происходит новое возрождение жанра. Противодействие лат. напору вызвало к жизни появление кружка Феодоры Раулены, ставшей, по-видимому, 1-й женщиной-агиографом. В эту эпоху создавали произведения свт. Григорий II Кипрский, патриарх К-польский, и Константин Акрополит. Ж. л., как и в иконоборческую эпоху, активно использовалась в церковно-политической полемике (Жития Никейского имп. Иоанна III Дуки Ватаца, патриархов К-польских Арсения, Иосифа, Афанасия и др.). Новый импульс к развитию визант. агиографии дало исихастское движение (см. ст. Исихазм), важными документами к-рого являются Жития прп. Григория Синаита, прп. Ромила и прп. Максима Кавсокаливита, а также Житие свт. Григория Паламы, написанное патриархом К-польским свт. Филофеем Коккином, и др. Тур. завоевание прервало органическое развитие визант. Ж. л.
Зарождение научного подхода к исследованию Ж. л. связано с деятельностью болландистов (последователей Ж. Болланда), к-рые в XVII в. предприняли монументальное издание полного годового круга житий святых на лат. и греч. языках под названием «Acta Sanctorum» (продолжалось до сер. XX в., последние тома (янв.-нояб.) вышли в свет в 1940). Помимо издания текстов болландисты сопровождали источники краткими историко-географическими исследованиями. Т. о., ими был выработан особый подход к Ж. л., не только как к душеполезному чтению, имевшему отношение исключительно к церковной сфере, но и как к важным историческим источникам. В кон. XIX — нач. XX в. благодаря работам И. Делеэ, Ф. Алькена, А. П. Рудакова и др. Ж. л. окончательно заняла принадлежащее ей по праву место среди источников по истории и культуре Древнего мира, Византии и средневек. Европы. Делеэ впервые предпринял классификацию Ж. л., применив к ней понятие «жанр» и уделив особое внимание лит. специфике агиографического памятника. Большую роль в систематизации греч. Ж. л. сыграли справочники Алькена (Bibliotheca hagiographica Graeca) и А. Эрхарда (Überlieferung und Bestand…). Тем не менее мн. агиографические тексты, в т. ч. III-IV вв., до сих пор остаются неизданными или не имеют надлежащего критического издания. Не началась пока и публикация визант. житий в том контексте, в к-ром они по большей части бытовали, т. е. в составе календарных и иных сборников (единственное исключение — переводной Супрасльский сборник, дометафрастовская Минея-Четья за март с добавлениями). Немало памятников визант. Ж. л. сохранилось лишь в церковнослав. и груз. переводах, частично еще не опубликованных.
В поствизант. период появилась необходимость перевода визант. житий на народный греч. язык. Одним из первых и самых значительных произведений на народном языке стал сб. «Сокровище» митр. Нафпактского и Артского Дамаскина Студита († 1577). В нем помимо слов религиозно-нравственного содержания были собраны агиографические тексты, напр. Чудеса вмч. Димитрия Солунского. В этом же направлении многое было сделано мон.
Житие прп. Афанасия Афонского. Нач. XI в. (ГИМ. Син. греч. № 242. Л. 104 об. — 105)
Житие прп. Афанасия Афонского. Нач. XI в. (ГИМ. Син. греч. № 242. Л. 104 об. — 105)
Агапием Ландом (Ландосом) († после 1664), к-рый перевел на народный греч. язык жития святых, написанные прп. Симеоном Метафрастом, и издал их в неск. книгах: «Νέος Παράδεισος» (Новый Рай) и др. Эпоха османского господства повлекла за собой сопротивление турецкому игу, вслед. чего появились греч. новомученики. В кон. XVIII — XIX в. их многочисленные жития были собраны такими видными деятелями церковной науки, как прп. Никодим Святогорец («Новый Мартирологион» — Νέον Μαρτυρολόϒιον. ᾿Ενετία, 1799), а также свт. Макарий Нотара, митр. Коринфский, прп. Афанасий Паросский, иером. Никифор Хиосский. При их участии был составлен сборник житий «Новый луг» (Νέον Λειμωνάριον. ᾿Ενετία, 1819). Важным этапом в развитии новогреч. агиографии стало составление прп. Никодимом Святогорцем свода «Синаксарист», включившего помимо основного корпуса житий небольшие сказания о новых греч., болг. и серб. святых (Συναξαριστὴς τῶν 12 μηναίων. ᾿Ενετία, 1819). Им же были составлены и др. сборники, в т. ч. «Неон Эклогион» (Νέον ᾿Εκλόϒιον. ᾿Ενετία, 1803). В кон. XIX в. была возобновлена работа по составлению агиографических сводов. Наиболее значительны труд греч. агиографа и издателя мон. Константина Дукакиса (13-томный «Великий Синаксарист» — Ϫουκάκης Κ. Μέϒας Συναξαριστής̇ Μεϒάλη Συλλοϒὴ πάντων τῶν ῾Αϒίων. ᾿Αθῆναι, 1889-1896) и одноименный свод В. Матфеу (Ματθαῖος Β. ῾Ο Μέϒας Συναξαριστής. ᾿Αθῆναι, 19562). В кон. XX в. иером. Макарием Симонопетритом было составлено многотомное собрание житий святых (Macaire Simonopetritès, hiérom. Le synaxaire: Vies des saints de l’Église orthodoxe. Thessalonique, 1987-1996. 6 vol.; переработанное издание на греч. яз.: Μακάριος Σιμονοπετρίτης, ἱερομον. Νέος Συναξαριστής τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ᾿Ορμυλία, 2001-2007. 12 τ.).
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1-3; Лопарев Х. М. Греч. жития святых VIII и IX вв. Пг., 1914. Ч. 1; Рудаков А. П. Очерки визант. культуры по данным греч. агиографии. М., 1917. СПб., 1997р; Delehaye H. Cinq leçons sur la méthode hagiographique. Brux., 1934; idem. The legends of the Saints: an introd. to hagiography. Norwood (Pa), 1974; Ehrhard A. Überlieferung und Bestand der hagiogr. und homiletischen Literatur der Griechischen Kirche. Lpz., 1937-1952. 3 Bde; Bibliotheca hagiographica Graeca / ed. Fr. Halkin. Brux., 19573. 3 vol. (SH; 8a); Auctarium. Brux., 1969. (SH; 47); Novum auctarium. Brux., 1984. (SH; 65); Halkin Fr. L’hagiographie byzant. au service de l’histoire // Proc. of the XIIIth Congr. of Byzant. Stud., 5-10 Sept. 1966. L., 1967. P. 345-354; Barnes T. D. Pre-Decian Acta Martyrum // JThSt. 1968. T. 19. P. 509-531; Nesbitt J. W. A Geographical and Chronological Guide to Greek Saint Lives // OCP. 1969. Vol. 35. P. 443-489; Ševčenko I. Hagiography of the Iconoclast Period // Iconoclasm: Papers given at the 9th Spring Symp. of Byzant. Stud. Birmingham, 1977. P. 113-131; idem. Observations on the study of Byzant. Hagiography in the Last Half-Century or Two Looks Back and One Look Forward. Toronto, 1995; Patlagean É. Ancienne hagiographie byzant. et histoire sociale // Idem. Structure sociale, famille et chrétienté à Byzance. L., 1981. Chap. 5. P. 106-126.; L’Ancienne hagiographie byzantine: Les sources, les premiers modèles, la formation des genres: Conf. prononcées au Collège de France en 1935 par H. Delehaye / Publ. B. Joassart, X. Lequeux. Brux., 1991.
Д. Е. Афиногенов
Сирийская
Ж. л. начала создаваться приблизительно в то же время, что и греческая, и под ее влиянием, но с V в. можно говорить о самобытной сир. агиографической традиции. Среди факторов, повлиявших на ее формирование,- широкое распространение в сироязычной среде апокрифов, в числе к-рых было много деяний и мученичеств апостолов (см. в ст. Деяния апостолов апокрифические), напр. «Учение Аддая апостола», Деяния Иуды Фомы, ранний субстрат Деяний Мар Мари. Распространение этих текстов вызывало появление новых памятников того же рода. Сильное влияние на сир. Ж. л. оказала аскетическая традиция, благодаря к-рой возникло множество агиографических текстов: жизнеописаний иноков, хроник мон-рей, историй подвижничества.
Социологические и текстологические исследования сир. агиографических текстов, проведенные в последние годы, позволяют сделать 2 заключения. Во-первых, типичный сир. святой — это монах или отшельник неаристократического происхождения. Святительских житий в корпусе сир. агиографии очень мало (напр., Житие Раввулы, еп. Эдесского), а повествования о благочестивых мирянах практически полностью отсутствуют. Во-вторых, житийные тексты нередко использовались в идейной борьбе между различными группами сир. христиан и поэтому неизбежно носят следы вторичной идеологизации. Так, напр., эллинофильская тенденция проявилась в отношении Мар Афрема, известного в визант. традиции как прп. Ефрем Сирин: в позднем Житии (VI — нач. VII в.) святой из сироязычного помощника епископа и хорегета небольшого лика дев (т. н. дщерей завета, сир. бнат-кьяма) превратился в монаха и диакона, знатока греч. языка. В текстах западносир. традиции правосл. визант. императоры и церковные деятели нередко представлены в карикатурном виде, как в соч. «Плирофории» Иоанна Руфа, еп. Маюмского (VI в.).
Терминология сир. Ж. л. достаточно стандартна. До времен уний с Римско-католической Церковью сирийцы не знали офиц. процедуры канонизации. Отнесение святого к тому или иному лику святости: апостолов (шлихе), евангелистов (эвангелисте), мучеников (сахде), исповедников (мавдйане), святителей (мальпане), блаженных (туване), подвижников (раббане) — не приобрело у них вида строго организованной системы, подобной латинской или поздневизантийской. Имена всех святых предваряются словом «Мар» (Мор; сир.- господин; для женщин — Март). Для сирийцев также характерна консервативность в почитании святых (Fiey. 2004. P. 4): с XIV в. случаи появления в святцах новых святых и соответственно новых агиографических текстов достаточно редки, несмотря на множество христиан, погибших при тур. геноциде 1912-1915 гг. (еп. Аддай Шер и др.).
Мученические деяния самой ранней эпохи (IV-V вв.) на сир. языке дошли в виде отдельных текстов (Ortiz de Urbina. PS. § 141), напр. Деяния сщмч. Варсимея (Барсамьи), еп. Эдесского, и мч. Сарвила (Шарбиля), Деяния Гурьи, Шемона и Хаббиба (см. ст. Гурий, Самон(а) и Авив). Группа Деяний Персидских мучеников, к-рые в V в. начал собирать дипломат еп. Марута Майферкатский, отражает память о преследованиях персид. христиан шаханшахами-маздеями примерно с 307 г. до конца правления Сасанидов (Ibid. § 142). Ряд мученических деяний имеет «эпический» (по терминологии Делеэ) характер, т. е. практически лишен исторической ценности. Таковы Деяния Мар Авдишо и Мар Кардага, Мар Муайна и Мар Сабы-Пиргушнаспа и нек-рые др. (Ibid. § 143). К ранней эпохе также относят ряд житий основателей аскетической традиции, в частности Житие Мар Авгена (см. ст. Евгений).
Переводные сир. жития довольно многочисленны. Уже в V-VI вв. на сир. язык были переведены греч. Житие прп. Антония Великого и первые апофтегмы (см. ст. «Apophthegmata Рatrum»
Житие прп. Антония Великого. Лист из сборника. 902-903 гг. (Lond. Brit. Lib. Orient. 5021. Fol. 6)
Житие прп. Антония Великого. Лист из сборника. 902-903 гг. (Lond. Brit. Lib. Orient. 5021. Fol. 6)
). Переводы с греческого могут оказать большую помощь текстологам-эллинистам в тех случаях, когда оригинальные тексты подвергались стилистической обработке и унификации, тогда как сир. тексты сохранили дометафрастические версии (в частности, Жития сщмч. Киприана и мц. Иустины, мц. Софии и ее дочерей, мц. Феодотии Никейской, вмц. Марины, прп. Марии Египетской и др.; примерный список см. в изданиях: Ortiz de Urbina. PS. § 173. P. 239-240; Baumstark. Geschichte. S. 93-95). Переводы на сир. язык сб. «Apophthegmata Patrum», «Лавсаика» Палладия Еленопольского и «Истории монахов» были собраны воедино в VII в. несторианским мон. Ананишо (степень его причастности к переводу оценивается исследователями неоднозначно). После VIII в. в монофизитской или мелькитской среде были созданы версии Житий прп. Симеона, Христа ради юродивого, свт. Иоанна Милостивого и др. (список см. в изд.: Ortiz de Urbina. PS. § 176). Большой ценностью обладает сир. Житие свт. Григория Чудотворца, греч. оригинал к-рого утрачен. Сир. составляющую имеет ряд крупных агиографических досье, в т. ч. равноапостольных Константина и Елены и об обретении Честного Креста, 7 Эфесских отроков, прп. Иоанна Кущника, мч. Арефы, прп. Алексия, человека Божия, и др.
Западносир. (яковитская) традиция включает ряд житий борцов с халкидонитским Православием: Бар Саумы, Иоанна бар Курсуса, еп. Телльского, Иоанна бар Афтоньи, Иакова Барадея (Бурдеаны), Ахудэммеха, еп. Тагритского, Севира, патриарха Антиохийского, Филоксена (Аксенойо), еп. Маббугского, и др. Многие из них попали в сб. «Жития восточных святых» Иоанна Эфесского, где описаны гонения, перенесенные антихалкидонитами от имперского руководства в VI в. Особенный интерес представляет история досье прп. Симеона Столпника († 459), который в яковитской агиографии был превращен в поборника монофизитства. Нек-рые западносир. жития (досье преподобных Архелида, Иларии, «человека Божия» и др.) представляют интерес для истории аскетизма.
Житие Иакова Барадея из сборника житий святых. 688 г. (Lond. Brit. Lib. Add. 146 47. Fol. 117)
Житие Иакова Барадея из сборника житий святых. 688 г. (Lond. Brit. Lib. Add. 146 47. Fol. 117)
Восточносир. (несторианская и халдейская) традиция отличалась меньшей полемичностью и аскетической направленностью. Отмечается даже негативное отношение в восточносир. среде к подвигу столпничества, важному для западносир. монашества (Fiey. 2004. P. 7-8). Тем не менее несторианами было написано немало житий подвижников и основателей мон-рей: Авраама Кашкарского, Авраама Натфарского, Раббан Хормизда и др. Житийные повествования включались в сборники, подобные «Книге начальников» Фомы Маргского и «Книге целомудрия» Ишоднаха, еп. Басрского (оба IX в.).
Бытование в богослужебной традиции агиографических текстов определялось включением их в различные минологические и др. сборники. Из западносирийских следует назвать яковитский Синаксарь, текст которого в версии патриарха Михаила Сирийца находится в рукописях 12/17 и 12/18 сиро-яковитского Патриархата в Дамаске.
Языковые и жанровые особенности сир. Ж. л. мало исследованы. Ее язык развивался под влиянием переводов с греческого и не представлял собой ничего выдающегося в филологическом плане. Сир. агиография, даже в наивысших своих проявлениях, таких как «Жития восточных святых» Иоанна Эфесского, не достигла высот стиля Кирилла Скифопольского или Леонтия Неапольского. Отчасти причиной этого была относительная бедность сир. языка в сравнении с греческим. Ж. л. сирийцев осталась по большей части монашеским чтением, не став популярной в широких кругах, как в визант., эфиоп. или копт. мире. Случаи возникновения т. н. агиографических романов (таких как Житие Андрея Юродивого) в сир. среде редки, к их числу можно отнести «Роман о Юлиане» и Сказание о «человеке Божием», к-рое впосл. было заимствовано греками и превращено в Житие прп. Алексия, человека Божия.
Научное исследование сир. Ж. л. было начато C. Э. Ассемани, опубликовавшим в 1748 г. в Риме сборник сир. житийных материалов. В 1880 г. Г. Хофман издал Деяния Персидских мучеников. Затем лазарист П. Беджан выпустил 7-томный свод «Acta martyrum et sanctorum», до сих пор остающийся стандартным сборником агиографических текстов на сир. языке. Среди исследователей, внесших наибольший вклад в изучение сир. Ж. л., следует выделить бельгийца Петерса, к-рый применил для ее изучения методы «критической агиографии» болландистов, а также голландца Венсинка, бельгийца ван Эсбрука, англичанина С. Брока, француза Ж. М. Фие. Из числа российских ученых сир. агиографическими текстами занимались А. П. Дьяконов, А. П. Алявдин, Н. В. Пигулевская, А. В. Пайкова и др.
Ист.: ActaSS Orient.; Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer / Hrsg. G. Hoffmann. Lрz., 1880. Nendeln (Liechtenstein), 1966r; Bedjan. Acta; Select Narratives of Holy Women / Ed., transl. A. S. Lewis. L., 1900; Jean Rufus, évêque de Maiouma. Plérophories / Éd., trad. F. Nau. P., 1911. (PO; T. 8. Fasc. 1); Ausgewählte Akten persischer Märtyrer: Mit einem Anhang: Ostsyrisches Mönchsleben / Übers. O. Braun. Kempten, 1915. (BKV; 22).
Лит.: Duval. Littératures. P. 113-153; Nau F. Hagiographie syriaque // ROC. Ser. 2. 1910. Vol. 15. P. 53-72, 173-197; Baumstark. Geschichte. S. 28-29, 55-57, 136-137; Moss C. Catalogue of Syriac Printed Books and Related Literature. L., 1962 [основная библиогр. по персоналиям]; Ortiz de Urbina. PS. P. 193-205 [основная библиогр. до 1965]; Wiessner G. Untersuchungen zur syrischen Literaturgeschichte. Gött., 1967. Tl. 1: Zur Märtyrerüberlieferung aus der Christenverfolgung Schapurs II.; Ashbrook S. Syriac Hagiography: An Emporium of Cultural Influences // Horizons in Semitic Stud. / Ed. J. H. Eaton. Birmingham, 1980. P. 59-68; Пайкова А. В. Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии // ППС. 1990. Вып. 30(93); Zanetti U. Projet d’une Bibliotheca Hagiographica Syriaca // Aram. Oxf., 1993. Vol. 5. N 1/2. P. 657-670; Fiey J.-M. À travers l’hagiographie syriaque // Mélanges / Inst. Dominicain d’Études Orientales. Le Caire, 1997. Vol. 23. P. 453-463; idem. Saints syriaques. Princeton (N. J.), 2004; Ignatius Aphram I Barsoum. The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences / Ed., transl. M. Mousa. Pueblo (Colorado), 2000. Piscataway (N. J.), 20032, 20063; Jabre-Mouawad R. Les sources de l’hagiographie syriaque // Nos sources: Arts et littérature syriaques. Antélias, 2005. P. 363-375. (Sources syriaques; 1).
А. В. Муравьёв
Коптская
Первые образцы Ж. л. на копт. языке датируются IV в., а их прототипы можно отнести к III в. Одним из главных импульсов к их созданию послужили копт. апокрифы, в частности Деяния апостолов Петра, Павла и Марка. Эти и некоторые др. тексты можно отнести к копт. протоагиографии, хотя они, как правило, представляют собой лишь локальные версии иноязычных текстов. С IV в. на коптский периодически переводились различные житийные тексты гл. обр. с греч. и сир. языков. Развитие копт. Ж. л. тесно связано с влиянием греко-рим. традиции, к-рая с IV в. обогатилась монашескими биографиями и апофтегмами (см. ст. «Apophthegmata Рatrum»), а также культа мучеников, отчасти заместившего локальные языческие культы Египта (O’Leary De Lacy. 1937. P. 13). В результате коптская Ж. л. сформировалась преимущественно как комплекс мученичеств и иноческих житий. Кроме того, агиография в копт. культуре оказалась тесно связанной с развитием фольклора.
Егип. мученичества возникают в 1-й пол. IV в., вероятно, на греч. языке (Мученичества сщмч. Петра Александрийского, мч. Калуфа, сщмч. Филея Тмуитского, сщмч. Псота Птолемаидского), а затем на их основе начинают появляться памятники на коптском. Ряд Мученичеств некопт. происхождения — вмч. Иакова Персянина, вмч. Пантелеимона, бессребреников Кира и Иоанна и др.- был переработан в национальном ключе.
В целом копт. мученичества можно разделить на 2 группы. Тексты 1-й, как правило, имеют параллели в визант. агиографии и, вероятно, восходят к переводам с греч. языка. Для них характерна принадлежность к т. н. циклам, к-рые начали формироваться в VI в. и окончательно сложились в VIII-IX вв. Вопрос об их происхождении остается в науке открытым. Согласно классификации, предложенной Т. Орланди, самыми древними считаются: цикл, в к-ром рим. префект Ариан, гонитель христиан, впосл. был обращен в христианство и стал мучеником; цикл, посвященный мученикам, пострадавшим при имп. Юлиане Отступнике; антиохийский цикл, в к-ром описывается двор имп. Диоклетиана в Антиохии. Развитием последнего цикла является цикл Феодоров (вмч. Феодора Стратилата и мч. Феодора Анатолия (или Анатолийского)), где обязательной составляющей становится рассказ о войне имп. Диоклетиана с персами, в ходе к-рой был взят в плен сын шаханшаха по имени Никодим, и о предательстве, совершенном Антиохийским еп. Гаием и вызвавшем гонение Диоклетиана на христиан. Наконец, появляется наиболее распространенный цикл Василида, посвященный одноименному христианину, служившему протектором при Диоклетиане и впосл. ставшему мучеником, его семье и друзьям. Существует также популярный цикл мч. Юлия Кбахсского (Акфахсского), к-рый состоял на военной службе и во время гонений посещал заключенных в тюрьмах христиан; ему приписывается составление их мученичеств. Мотивы различных циклов нередко переплетались, поэтому большинство памятников может быть отнесено одновременно к 2 и более циклам.
2-ю группу составляют мученичества егип. происхождения. Они, как правило, более поздние и не входят в циклы. К их числу относятся Мученичества Филофея, Исаака Тифрского, Иула и Птолемея, Лакарона, Пекоша, Атома и Пироу, Писуры, Сарапамона Скитского, Серапиона, Тила и Тимофея.
Иноческие жития представлены неск. направлениями. Ряд копт. текстов V—
VI вв. относится к апофтегматической, или патериковой, традиции и описывает путешествия по мон-рям Египта и посещения известных отшельников («История сиенских отцов», Житие Аарона, Житие апы Онуфрия). Некоторые тексты (Житие апы Афу из Пемдже, Житие апы Аполлона Бауитского в составе Жития Фиба) исследователи связывают с движением антропоморфитов. На стыке мученичеств и иноческих житий находятся т. н. иноческие мученичества (Жития Пафнутия, Панины и Панеу и др.). Жития признанных вождей монашеского движения, таких как апа Пахомий (см. Пахомий Великий) и апа Шенуте, были составлены в кругу их учеников и дополнены жизнеописаниями последних. Поскольку каждый мон-рь стремился иметь собственную житийную традицию, воспринимавшуюся им как история святости, постепенно вокруг таких фигур, как Пахомий, Антоний, Шенуте, Аммоний и др., сформировались комплексы житийных текстов (многие до сих пор не изд.).
Жития предстоятелей Александрийской Церкви, начиная с ап. Марка (с сер. V в. ими были монофизиты, к-рые, как и более ранние епископы, почитаются в Коптской Церкви святыми), сохранились на копт. языке лишь частично, напр. Житие копт. Александрийского патриарха Исаака (686-689), составленное Миной, еп. Никиу (Пешати). Впосл. они послужили основой для араб. версии «Истории Александрийских патриархов», в к-рую вошел и др. агиографический материал копт. происхождения.
Жанр похвального слова в копт. Ж. л. представлен авторскими сочинениями кон. VI — 1-й пол. VII в.: Энкомиями прп. Онуфрию Писентия, еп. Кебтского, прп. Антонию Иоанна, еп. Шмунского, мч. Макровию Мины, еп. Никиуского, мч. Олимпию Моисея, еп. Ткоуского, и др. Большинство энкомиев Константина, еп. Сиута (Асьюта), дошло в араб. редакции (в Энкомии мч. Клавдию выявлены первые следы буд. лит-ры циклов), на коптском сохранились только 2 Энкомия свт. Афанасию Великому и начало Энкомия вмч. Георгию на саидском диалекте. В более поздний период получили распространение похвальные слова, чьи авторы подписывались именами знаменитых церковных писателей (свт. Иоанна Златоуста, свт. Василия Великого, Феодосия Иерусалимского и др.). Сохранились также чудеса нек-рых мучеников (Меркурия, Виктора и др.).
К агиографии близко примыкал пограничный жанр лит-ры, т. н. плирофории («пропагандистские истории»). Они представляли собой переработанные с полемической (обычно антихалкидонитской) целью истории из жизни царей и церковных деятелей, напр. «Рассказы Диоскора о Соборе» и Похвала Макарию, еп. Ткоускому, составление к-рой также приписывается Диоскору Александрийскому.
По мере экспансии в Египет араб. языка (VIII-X вв.) роль коптского как литературного постепенно уменьшалась. В этот период агиографические тексты дополнялись и изменялись в народной традиции, так что фольклоризированные переработки житийных повествований стали важной частью копт. народной культуры и породили как агиографические романы (напр., «Роман о Камбизе»), так и песни и сказки, героями к-рых были святые и подвижники.
Последним сохранившимся произведением копт. Ж. л. считается Мученичество пострадавшего от мусульман Иоанна Фаниджойтского (1210). Составленное в эпоху, когда копт. язык уже практически вышел из употребления, оно отличается более высоким художественным уровнем, чем мн. ранние жития. Ряд коптов, убитых мусульманами, были впосл. причислены Коптской Церковью к лику святых как новомученики, появились их мученичества на араб. языке. Коптский Синаксарь (XIII-XIV вв.), вероятно составленный первоначально на бохайрском диалекте, также сохранился лишь на араб. языке в 2 редакциях: верхне- и нижнеегипетской.
Научное исследование копт. Ж. л. началось с работ Э. Амелино, опубликовавшего в кон. XIX в. ряд текстов и обзорное критическое исследование актов мучеников, почитаемых в Коптской Церкви (Amélineau. 1890). Фундаментальной обобщающей работой по егип. мартирологической лит-ре с привлечением греч., лат., копт. и араб. источников следует признать исследование Делеэ (1923). В труде Э. О’Лири де Лейси (1937) приведен базовый синаксарный список святых Коптской Церкви с отсылками к их копт. житиям (см. также: CoptE. Vol. 5. P. 1551-1559). Лит. подход к копт. мученичествам с акцентом на анализе идей был применен Т. Баумайстером, выделившим особую модель (т. н. koptischer Konsens), согласно к-рой идея «непобедимой жизни», в целом присущая егип. менталитету, выражается через агиографический мотив неоднократной смерти и воскресения. Издание копт. мученических текстов осуществляли У. Бадж, А. Иверна, И. Балестри, В. Тилль, Орланди и др. Мн. тексты были исследованы Орланди. В последнее время активно изучается пахомианская традиция, по к-рой опубликованы работы Амелино, Д. Дж. Читти, А. Вейо, А. Л. Хосроева и др.
Ист.: Les Actes des martyrs de l’Égypte / Éd. H. Hyvernat. P., 1886. Hildesheim; N. Y., 1977r; Contes et romans de l’Égypte chrétienne / Éd., trad. E. Amélineau. P., 1888. 2 vol.; Légendes coptes / Publ., trad., annot. N. Giron. P., 1907; Acta Martyrum / Ed. I. Balestri, H. Hyvernat. Louvain, 1907-1950. 4 vol. (CSCO; 43-44, 86, 125. Copt.; 3-4, 6, 15); Coptic Texts on St. Theodore the General, St. Theodore the Eastern, Chamoul and Justus / Ed., transl., annot. E. O. Winstedt. L.; Oxf., 1910. Amst., 1979r; Coptic Martyrdoms, etc., in the Dialect of Upper Egypt / Ed., transl. E. A. W. Budge. L., 1914. N. Y., 1977r; Miscellaneous Coptic Texts in the Dialect of Upper Egypt / Ed., transl. E. A. W. Budge. L., 1915. N. Y., 1977r; Koptische Heiligen- und Martyrerlegenden / Hrsg., Übers. W. Till. R., 1935-1936. 2 Tl. (OCA; 102, 108); Four Martyrdoms from the Pierpont Morgan Coptic Codices / Ed., transl. E. A. E. Reymond, J. W. B. Barns. Oxf., 1973; Constantini episcopi urbis Siout Encomia in Athanasium duo / Ed. T. Orlandi. Louvain, 1974. 2 vol. (CSCO; 349-350. Copt.; 37-38); Vite dei monaci Phif e Longino / Introd. a cura di T. Orlandi; trad. A. Campagnano. Mil., 1975; A Panegyric on Macarius, Bishop of Tkôw, Attributed to Dioscorus of Alexandria / Ed., transl. D. W. Johnson. Louvain, 1980. 2 vol. (CSCO; 415-416. Copt.; 41-42); Vite di monaci copti / A cura di T. Orlandi; trad. A. Campagnano. R., 1984; Me
Лит.: Amélineau E. Les actes des martyrs de l’Église copte. P., 1890; Delehaye H. Les martyrs d’Egypte // AnBoll. 1922. Vol. 40. P. 5-154, 299-364; Idem. Brux., 1923; O’Leary De Lacy E. The Saints of Egypt. L.; N. Y., 1937. Amst., 1974r; Baumeister T. Martyr Invictus: Der Märtyrer als Sinnbild der Erlösung in der Legende und im Kult der frühen Koptischen Kirche. Münster, 1972; idem. Martyrology // CoptE. Vol. 5. P. 1549-1550; Horn A. Studien zu den Märtyrern der nördlichen Oberägypten. Wiesbaden, 1986, 1992. 2 Tl.; Orlandi T. Cycle // CoptE. Vol. 3. P. 666-668; idem. Hagiography, Coptic // Ibid. Vol. 4. P. 1191-1197; Naguib S.-A. The Martyr as Witness: Coptic and Copto-Arabic Hagiographies as Mediators of Religious Memory // Numen. Leiden, 1994. Vol. 41. N 3. P. 223-254.
Библиогр.: Kammerer W. A Coptic Bibliography. Ann Arbor, 1950. N. Y., 1969r; Bibliographie copte / J. Simon // Or. 1949-1966; Idem / P. du Bourguet // Ibid. 1967; Idem / H. Quecke // Ibid. 1971-1975; Coptic Bibliography / Unione Accademica Internazionale. Corpus dei Manoscritti Copti Letterarì. R., 1982-.
А. В. Муравьёв
Армянская
Ж. л. появилась с распространением в Армении христианства, к-рое в 301 г. было провозглашено гос. религией. IV век был периодом внедрения христ. лит-ры на греч. и сир. языках в арм. церковную среду. Ж. л. переживала бурный расцвет после создания письменности в нач. V в. В этот период армяне приобщились почти ко всем видам христ. лит-ры, в т. ч. и к житийной. Из переводов с греч. на арм. язык был составлен сб. «Жития святых отцов»; с сирийского были переведены Житие равноап. Феклы, «Послание царя Авгаря Эдесского», Деяния Персидских мучеников («Мученики Востока») еп. Маруты Майферкатского, с греческого — риторические пособия, послания, речи, похвальные слова святителей Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, оказавшие заметное влияние на арм. Ж. л. Одновременно зарождается арм. оригинальная Ж. л., в к-рой представлены как панегирические произведения, так и простые повествовательные. В V в. были составлены армянские версии Сказаний об апостолах Фаддее и Варфоломее, Житие свт. Григория Просветителя, Мученичество Рипсимянских дев (см. подробнее в ст. Рипсимия, Гаиания и 35 св. дев), вошедшие как составные части в «Историю Армении» Агафангела, а также Мученичество св. Шушаник. Ранние памятники проникнуты легендарно-эпическим духом, полны рассказов о чудесах; в них созданы монументальные и цельные образы героев. Драматизмом отличаются Мученичества Рипсимянских дев и св. Шушаник. К жанру Ж. л. обращались арм. историографы V в. Фавстос Бузандаци, Агафангел, Мовсес Хоренаци, Елише. В их произведениях искусно сплетены исторический, эпический и агиографический стили. Самое значительное произведение арм. Ж. л. V в.- Житие Маштоца. Будучи похвальным житием, оно сочетает характерные черты исторической прозы и античной биографии. Со 2-й пол. V в. арм. Ж. л. приобретает новую особенность: христианство становится важным фактором борьбы за независимость. Яркий пример этого — исторический труд Елише «О Вардане и войне армянской». Эта черта армянских мученичеств прослеживается в дальнейшем вплоть до позднего средневековья.
Ж. л. VI-IX вв. постепенно отделяется от др. жанров, выступает в классических формах. В ней заметна тенденция к абстрактному и риторическому повествованию. Таковы Мученичества Йездибузида, Давида Двинеци, Амазаспа и Саака. Лишь один из лучших памятников арм. Ж. л. того времени — Мученичество Ваана Гохтнеци (VIII в.) — продолжает традиции V в., обнаруживая сходство с народным эпосом. В этот период происходит дальнейшее обогащение Ж. л. переводами с греч. и сир. языков; появляются сборники Ж. л.- Праздничные Минеи Соломона (Согомона) Макенаци (VIII в.), «Атомадир» Гагика, настоятеля мон-ря св. Атома (кон. IX в.), его же переводы ряда мученичеств с сирийского и переводы с греческого врача Ованнеса (IX в.). От этой эпохи также дошло неск. житий в составе исторических сочинений, в т. ч. «Истории» Ованнеса Майрагомеци, Житие Степаноса Сюнеци в «Истории» Мовсеса Каланкатуаци.
XI-XII века ознаменовались расцветом арм. Ж. л., находившейся под влиянием визант. традиции. Огромную роль в развитии Ж. л. сыграли «вторые переводчики», особенно католикосы Григор II Вкаясер, Григор III Пахлавуни, Нерсес IV Шнорали, писатель Нерсес Ламбронаци. Ими были осуществлены сбор, перевод и толкование древних житий и мученичеств, восполнен перевод «Житий святых отцов» V в. Нерсес Ламбронаци перевел с латыни «Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов и о бессмертии души» свт. Григория I Великого. Этот период отмечен появлением перевода с греч. языка Синаксаря Овсепа Костанднуполсеци (991-992), включающего Житие свт. Григория Просветителя, Мученичество Рипсимянских дев и др. Создано неск. редакций арм. Синаксаря (Айсмавурка): Тер-Исраэла (40-е гг. XIII в.), Киракоса Аревелци (сер. XIII в.), Григора Анаварзеци (рубеж XIII и XIV вв.).
В жанровом отношении Ж. л. представлена 2 основными направлениями — книжно-риторическим и народным. В XI-XIII вв. господствующим становится 1-е направление. Был создан ряд похвальных житий и панегириков, посвященных как деятелям прошлого, так и современникам. Значительным явлением в арм. Ж. л. стали Жития Нерсеса IV Шнорали, Геворга Скевраци. В народном направлении выделяются жития: повествовательные; памятные записи; краткие синаксарные. Простые повествовательные жития XII-XIII вв.: Ованнеса Саркавага, Степаноса Сюнеци в редакции Мхитара Айриванеци, занимательное и сказочное Житие Степаноса, сына Тер-Иусика; исключительное в своем роде Житие Григора Нарекаци, к-рое состоит из 28 чудес святого. Источниками Жития Григора послужили как канонические, так и апокрифические евангельские сказания о Христе. Широкое распространение в XI-XV вв. получили жития — памятные записи, а также синаксарные жития и мученичества. Разные редакции Синаксаря выражали определенные тенденции, имели новые художественно-идеологические подходы, как, напр., редакция латинофила Григора Анаварзеци или последняя редакция Синаксаря Григора Хлатеци, составленная в мрачные для Армении годы и расширенная за счет историй св. отцов и мучеников, современников Хлатеци. В Ж. л. народного направления XIII-XV вв. выделяется группа, посвященная деятелям научных и культурных центров: Гладзорского (1280-1338) и Татевского (1345-1410) ун-тов (Нерсес Мушский, Есаи Ничеци, Ованнес Воротнеци, Григор Татеваци), монастырских школ-вардапетаранов (Мхитар Саснеци, Григор Хлатеци, Товма Мецопеци). Их общая черта — антиуниатская направленность, противостояние влиянию Римско-католической Церкви в Армении. В условиях постоянных войн и завоеваний Армении после падения династии Багратидов (1045), особенно в XIV-XV вв., мученичества за веру приобретают массовый характер, интенсивно создаются истории армянских новомучеников. Развитие этого направления Ж. л. идет по пути упрощения жанра. В XVI-XVII вв. к жанру мученичеств обращаются крупные историографы Закария Канакерци и Аракел Даврижеци. Однако их произведения представляют собой уже литературно-исторические повествования с красочными описаниями быта и человеческих отношений. XVI-XVII века следует считать периодом упадка Ж. л.
Научное исследование арм. Ж. л. с нач. XIX в. вели венецианские мхитаристы; больших успехов достигли М. Авгерян и Г. Алишян. 12-томный капитальный труд Авгеряна «Полное собрание житий и мученичеств святых» с включением повествований об общехрист. святых (до XIII в.) выделяется источниковедческими комментариями. Автор уделил особое внимание древнеарм. переводам, оригиналы к-рых на сир., греч. и др. языках утрачены. 24-томная серия «Соперк айкаканк» (Мелкие армянские сочинения), изданная Алишяном, содержит все жития и мученичества арм. святых и похвальные слова им. С кон. XIX в. активно велась филологическая и источниковедческая работа с Ж. л. в контексте исследования ранних памятников арм. христ. лит-ры А. Гутшмидта, П. А. де Лагарда, О. Гатрджяна, Б. Саргисяна, А. Ташяна, Н. Бузандаци, Г. Зарбаналяна. Издания, переводы и исследования Ж. л. осуществляли Н. О. Эмин (древние апокрифы и мученичества), Н. Я. Марр и И. В. Абуладзе (тексты V-X вв., армяно-груз. лит. связи и их характер), Г. Тер-Мкртчян (древние памятники), Г. Овсепян (основная часть житий XI-XV вв.), Я. Манандян и Р. Ачарян (тексты XII-XIX вв.). М. Абегян в «Истории древнеармянской литературы» впервые дал лит. оценку агиографическим текстам. Это направление в исследовании продолжили К. Мелик-Оганджанян, М. Авдалбекян и др. Вкладом в изучение арм. Ж. л. явилось издание неск. сборников житий и мученичеств в переводе на рус. язык К. Тер-Давтян.
Ист.: Авгерян М. Полное собрание житий и мученичеств святых. Венеция, 1810-1815. 12 т. (на древнеарм. яз.); Соперк айкаканк. Венеция, 1853-1861. Т. 1-22; 1933-1934. Т. 23-24 (на древнеарм. яз.); Избранные жития и мученичества. Венеция, 1874. 2 т. (на древнеарм. яз.); Новые арм. мученики (1155-1843) / Ред.: Я. Манандян, Р. Ачарян. Вагаршапат, 1903 (на арм. яз.; рус. пер.: Новые арм. мученики / Пер., предисл., примеч.: К. С. Тер-Давтян. Ереван, 1998); Фавстос Бузандаци. История Армении. Венеция, 1914 (на древнеарм. яз.); Жития святых отцов. Венеция, 1933-1934. 2 т. (на древнеарм. яз.); Корюн. Житие Маштоца / Пер.: Ш. Б. Смбатян, К. Мелик-Оганджанян. Ереван, 1962; Егише. О Вардане и войне армянской / Пер. с древнеарм.: И. А. Орбели; ред.: К. Н. Юзбашян. Ереван, 1971; Арм. жития и мученичества V-XVII вв. / Пер. с древнеарм., предисл. и примеч.: К. С. Тер-Давтян. Ереван, 1994; Мученичество св. Шушаник: Тексты и исслед. / Ред.: П. Мурадян. Ереван, 1996 (на арм. яз.); Агатангелос. История Армении / Ред.: К. С. Тер-Давтян, С. С. Аревшатян. Ереван, 2004.
Лит.: Алишян Г. Шнорали и его окружение. Венеция, 1873 (на арм. яз.); Эмин Н. О. Исследования и статьи по арм. мифологии, археологии, истории и истории лит-ры (за 1858-1884 гг.). М., 1896; Зарбаналян Г. История арм. словесности. Венеция, 1897 (на арм. яз.); Марр Н. Я. Из поездки на Афон // ЖМНП. 1899. Март. Отд. 2. С. 1-24; Peеters P. Sainte Šoušanik, martyre en Arméno-Géorgie // AnBoll. 1935. T. 53. Fasc. 1/2. P. 5-48; Fasc. 3/4. P. 245-307; Абуладзе И. Грузино-арм. лит. связи в IX-X вв. Тбилиси, 1944 (на груз. яз.); Garitte G. Documents pour l’étude du livre d’Agathange. Vat., 1946; Авдалбегян М. Формирование арм. худож. прозы. Ереван, 1971 (на арм. яз.); Абегян М. X. История древнеарм. литературы / Пер. с арм.: К. Мелик-Оганджанян, М. О. Дарбинян. Ереван, 1975; Тер-Давтян К. Арм. житийная литература XI-XV веков. Ереван, 1980 (на арм. яз.); Варданян Р. Мученичество апостола Фаддея и девы Сандухт и их время // Арм. святые и святые места. Ереван, 2001. С. 61-70 (на арм. яз.).
К. Тер-Давтян
Грузинская
Эфиопская
В период Аксумского царства вместе с христианизацией страны (IV-VI вв.) на геэз, ставший литургическим языком Эфиопской Церкви, были переведены с греческого Жития преподобных Антония Великого и Павла Фивейского, Мученичества ап. Марка и мч. Арсенофа, а также нек-рые др. памятники, имевшие распространение среди коптов. Оригинальных агиографических произведений в ту эпоху создано не было, что отчасти объясняется общим кризисом Аксумского царства, начавшимся со 2-й пол. VI в. Переводная Ж. л., восходящая к аксумской эпохе, как правило, позднее была отредактирована, причем самые ранние рукописи датируются сер. XIV в.
Толчком к зарождению собственно эфиоп. агиографии послужил перевод с араб. языка однотипных сборников, известных под заглавием «Гадла самаэтат» (эфиоп. 






Ок. 1400 г. с арабского на геэз был переведен Синаксарь Коптской Церкви. Практически сразу к нему стали присоединяться заметки о днях памяти местных святых или их краткие жития. И те и другие могли сопровождаться саламом — стихотворным величанием в честь святого. Т. о. сложился эфиоп. Синаксарь (
Первые пространные жития эфиоп. святых, представляющие собой наиболее важный источник по эфиоп. агиографии, стали составляться не ранее XIV в. При отсутствии в Эфиопской Церкви процедуры офиц. канонизации причисление к лику святых было следствием местной инициативы, исходившей, как правило, от мон-ря, к-рый основал или в к-ром жил подвижник. В ряде случаев такая инициатива встречала поддержку приближенных ко двору церковных деятелей и даже царской власти. Эфиоп. пространные жития почти всегда анонимны: приписки к рукописям, в к-рых они содержатся, не дают возможности отличить их авторов от простых переписчиков. Можно лишь констатировать, что составителями были монахи и др. духовные лица, хорошо знавшие Свящ. Писание, апокрифическую и церковную лит-ру.
Жития нек-рых святых эпохи Соломонидов (с 1270) составлялись на основании свидетельств их учеников и др. хорошо знавших их людей; они являются ценными историческими источниками. Время составления др. житий на столетия отстояло от жизни святого. Таковы жития святых аксумского периода (напр., наиболее почитаемых из девяти преподобных, к-рые удостоились пространных житий: За-Микаэля Арагави, Исаака Гаримы и Пантелеимона) и царей династии Загве. Кроме того, мн. оригинальные жития подвижников позднейшего времени оказались уничтожены во время мусульм. нашествия Ахмада Ибрахима аль-Гази (1506-1543) и были воссозданы после изгнания завоевателей в самом общем виде. Так, в новом Житии Габра Иясуса отсутствуют конкретные биографические сведения, за исключением неск. чудес, относящихся к основанию созданного им мон-ря Дэбрэ-Сан.
Главным назначением пространных житий было их чтение в церкви в день памяти святого. Это богослужебное требование приблизило их к гомилетическим произведениям. Так, Житие Исаака Гаримы его составитель Иоанн, еп. Аксумский (сер. XV в.), прямо назвал проповедью (
Тесная связь большинства святых с монастырской средой нередко приводила к тому, что получить к.-л. достоверные данные о домонастырском периоде их жизни оказывалось невозможным. Отсюда проистекает шаблонность соответствующих частей житий, в к-рых говорится о праведности родителей и об их длительной бездетности, о приведении к мамхеру (духовному наставнику), о т. н. псалтирном чадстве (обучении чтению по Евангелию от Иоанна и Псалтири в начальной школе) и поставлении в диаконы. Неотъемлемой частью эфиоп. житий, истоки к-рой обнаружены в копто-араб. агиографии, является завет (



Одной из характернейших черт эфиоп. пространных житий является отсутствие у их авторов чувства меры в возвеличивании святого. Практически каждому подвижнику многократно являются Спаситель и Богоматерь, не говоря об архангелах; нередко даже малоизвестный святой провозглашается равноапостольным. Панегирическая неумеренность, в целом свойственная вост. культурам, могла в нек-рых случаях принимать даже кощунственные формы с целью выделить святого из ряда др. эфиоп. или вообще христ. святых (Тураев. 1902. С. 44-48).
Число эфиоп. пространных житий достигает 200; большая их часть остается неизданной. Среди них выделяют неск. циклов: цикл, связанный с эпохой гонений при царях Амда Сионе (1314-1344) и Сайфа Араде (1344-1371), к к-рому относятся жития «пяти несогласных монахов» (Филиппа Дэбрэ-Либаносского, Аноревоса (Гонория), Бацалота Микаэля, Аарона Дивного и Евстафия), цикл девяти преподобных, загвейский цикл, цикл «основоположников» (Иясус Моа и Такла Хайманота) и южный, или шоанский, цикл (Габра Манфас Кеддуса и Иоанна Восточного).
Процесс агиографического творчества прервался в Эфиопии в 1-й пол. XVIII в., этим временем датируются последние памятники местной Ж. л.- пространные Жития Сайфа Микаэля и Абраньоса, а также Чудеса Зара Бурука.
Первый лист Жития Такла Хайманота в Дэбоэ-Либаносской редакции. XVIII (?) в. (СПбФ ИВ РАН. Эф. 18 (Орлов 35). Л. 9а)
Первый лист Жития Такла Хайманота в Дэбоэ-Либаносской редакции. XVIII (?) в. (СПбФ ИВ РАН. Эф. 18 (Орлов 35). Л. 9а)
Изучение эфиоп. агиографии начал И. Лудольф, составивший и опубликовавший в кон. XVII в. 1-й список дней памяти святых Эфиопской Церкви. Списки эфиоп. Синаксаря подробно разобраны в каталогах А. Дилльмана и Э. Зотенбера. Дж. Сапето первым издал выдержки из него c переводом и комментарием. Полный перевод памятника на англ. язык был опубликован У. Баджем, а его издание с франц. переводом последовательно осуществлено в сер. «Patrologia Orientalis». Первым произведением эфиоп. агиографии, изданным полностью с переводом на европ. язык, стало Житие Абба Йоханни из Дэбрэ-Аса, выпущенное в 1884 г. Р. Бассе, вслед за к-рым отдельные жития с переводом опубликовали Ж. Перрюшон, Бадж, К. Конти Россини и др. Впосл. в сер. «Corpus scriptorum christianorum orientalium» были опубликованы эфиоп. пространные жития 2 святых аксумской эпохи (Vitæ Sanctorum antiquiorum; изд. Конти Россини) и неск. святых эпохи Соломонидов (Vitæ Sanctorum indigenarum; изд. И. Гвиди, Конти Россини, Б. А. Тураев, Ж. Колен, Э. Черулли, С. Кур и др.), ряд мученичеств (Acta martyrum; изд. Ф. Эштевиш Перейра) и различные монашеские сборники (изд. В. Аррас). В наст. время издание памятников в этой серии продолжается.
Прорывом в изучении эфиоп. Ж. л. явилась докторская диссертация Тураева об агиологических источниках истории Эфиопии, опубликованная в виде монографии в 1902 г. Согласно признанию самого автора, существенное методологическое влияние на нее оказала отечественная школа изучения древнерус. житий, созданная В. О. Ключевским. Энциклопедическая работа Тураева стала высоким образцом, к которому лишь спустя 80 лет смог приблизиться израильский ученый С. Каплан и еще позднее — нем. исследователь Ф. Хайер. Агиографический материал широко использовал в исторических исследованиях эфиопист С. Б. Чернецов. В 1973 г. он опубликовал перевод Жития Яфкерана Эгзиэ (по условиям того времени сотрудник АН СССР мог сделать это лишь анонимно). В наст. время исследование эфиоп. Ж. л. продолжает ученик Чернецова Д. А. Носницын. Пространные эфиоп. жития интенсивно изучают и издают итал. ученые П. Маррассини и А. Баузи.
Ист.: Sapeto G. Viaggio e missione cattolica fra i Mensâ i Bogos e gli Habab con un cenno geografico e storico dell’Abissinia. R., 1857. Vol. 1. P. 395-471; Vie de Abbâ Yohanni / Éd. R. Basset // Bull. de correspondance africaine. Alger; P., 1884. Vol. 3. P. 433-453; Vie de Lalibala, roi d’Éthiopie / Éd., trad. J. Perruchon. P., 1892; Monumenta Aethiopiae hagiologica / Ed. B. Turaev. Lipsia; Petropoli, 1902-1905. 3 vol.; Тураев Б. А. Некоторые Жития абиссинских святых по рукописям бывшей коллекции d’Abbadie // ВВ. 1906. Т. 13. С. 257-333; Le Synaxaire éthiopien. Р., 1907-1945. 4 vol. in 5. (PO; T. 1. Fasc. 5; T. 7. Fasc. 3; T. 9. Fasc. 4; T. 15. Fasc. 5; T. 26. Fasc. 1). Turnhout, 1986-1999. 9 vol. (PO; T. 43. Fasc. 3; T. 44. Fasc. 1, 3; T. 45. Fasc. 1, 3; T. 46. Fasc. 3, 4; T. 47. Fasc. 3; T. 48. Fasc. 3); Budge E. A. W. The Book of the Saints of the Ethiopian Church. Camb., 1928. 4 vol.; Житие Яфкерана Эгзиэ: Из древних сокровищ Эфиопской Церкви / Предисл.: архиеп. Питирим (Нечаев) // БТ. 1973. Сб. 10. С. 223-251.
Лит.: Iobi Ludolfi aliаs Leutholf dicti ad suam Historiam Æthiopicam antehac editam Commentarius. Francofurti ad Mœnum, 1691. P. 389-427; Dillmann A. Codices Aethiopici. Oxonii, 1848. Vol. 1. P. 37-68 (N XXII-XXV); Zotenberg H. Catalogue des manuscrits éthiopiens (gheez et amharique) de la Bibliothèque Nationale. P., 1877. P. 151-195 (N 126-128); Тураев Б. А. Исследования в области агиологических источников истории Эфиопии. СПб., 1902; он же. Агиологическое повествование о падении Аксумского царства // Сб. в честь В. И. Ламанского. СПб., 1905. С. 55-62; он же. Зара-Бурук, абиссинский святой XVII-XVIII вв. // ВВ. 1908. Т. 15. С. 170-180; Kinefe-Rigb Zelleke. Bibliography of the Ethiopic Hagiographical Tradition // JEthS. 1975. Vol. 13. N 2. P. 57-102; Kriss R., Kriss-Heinrich H. Volkskundliche Anteile in Kult und Legende äthiopischer Heiliger. Wiesbaden, 1975; Kaplan St. Hagiographies and the History of Medieval Ethiopia // History in Africa. Waltham, 1981. Vol. 8. P. 107-123; idem. The Monastic Holy Man and the Christianization of Early Solomonic Ethiopia. Wiesbaden, 1984; Heyer F. Die Heiligen der Äthiopischen Erde. Erlangen, 1998; idem. Gädl // EncAeth. Vol. 2. P. 642-644; Bausi A. Gädlä säma‘«
tat // Ibid. P. 644-646; Nosnitsin D. Hagiography // Ibid. P. 969-972; A Bibliography on Christianity in Ethiopia. Leiden, 2003. P. 53-57; Hirsch B., Kropp M., eds. Saints, Biographies and History in Africa. Fr./M., 2003.
С. А. Французов
Арабская
Первые арабоязычные произведения Ж. л., как и др. жанров церковной письменности, носили переводной характер. Поскольку арабоязычная лит-ра сформировалась последней в ряду лит-р христ. Востока, переводные араб. жития сохранились в наибольшем количестве редакций, восходящих к греч., сир. и копт. оригиналам (Graf. Geschichte. Bd. 1. S. 487).
В среде мелькитов расцвет переводческой деятельности приходится на IX-XI вв. Основными центрами являлись мон-ри, в частности мон-рь вмц. Екатерины на Синае и лавра св. Саввы Освященного. Самый древний из известных переводов с греческого — Повесть об убиении синайских и раифских иноков варварами в нач. IV в. (см. ст. Синайские и Раифские преподобномученики) — датирован переводчиком 772 г. (Sinait. arab. 542. Fol. 15r; Lond. Brit. Lib. Orient. 5019. Fol. 58v). Араб. переводы ряда житий (преподобных Саввы Освященного, Феодосия Великого, свт. Авраама Кратейского), составленных Кириллом Скифопольским, были переписаны в лавре св. Саввы мон. Антонием-Давидом в 885 г. (сохр. в рукописях Vat. arab. 71 и Strassbourg Orient. 4226) и, вероятно, неск. ранее др. мон. Давидом (греческо-араб. палимпсест, араб. текст IX в.; фрагм.: РНБ. Греч. № 26; Lips. gr. 2), причем исследователи отмечают значительную свободу перевода по отношению к греч. оригиналу. Араб. перевод Жития прп. Палладия (пам. 28 янв.), выполненный в неизвестную эпоху врачом Исой ибн Кустантином и сохранившийся в неск. поздних рукописях (Paris. arab. 257 и др.), также содержит интересные дополнения к греч. оригиналу, являвшемуся переработкой соответствующей главы «Истории боголюбцев» блж. Феодорита, еп. Кирского. Древнейшие араб. житийные сборники датируются IX в. (Sinait. arab. 514 и 542; Strassbourg Orient. 4226; Vat. arab. 71). От X в. сохранились агиографические тексты в рукописях Sinait. arab. 457; Strassbourg Orient. 4225; Mingana Chr. Arab. Add. 195, а также Cod. 14 по каталогу: Orientalische Manuscripte / Hrsg. K. Hiersemann. Lpz., 1922. (Katalog; 500). Одним из наиболее значительных по объему является сборник XI в., хранящийся в Британской б-ке в 2 частях (Lond. Brit. Lib. Add. 26.117, Orient. 5019. Fol. 16-206; часть листов утрачена).
Ж. л. наряду с апологетико-полемической представлена также первыми произведениями оригинальной арабо-христ. лит-ры, зародившейся в среде правосл. палестинского монашества в VIII-IX вв. Т. к. большинство христ. авторов этого периода помимо арабского, как правило, владели греческим и сирийским, язык Ж. л. изобилует заимствованиями вне зависимости от ее переводного или непереводного характера. Поэтому сохранившиеся оригинальные жития могут считаться таковыми лишь предположительно. Наиболее ранними из их числа являются Жития мон. Антония-Раваха (Ɨ 799 или 805; рукописи с X в.) и Абд аль-Масиха аль-Наджрани аль-Гассани, игум. мон-ря вмц. Екатерины на Синае (IX в.; рукописи с кон. IX — нач. Х в.), претерпевших мученичество от мусульман. Наряду с этим имеются груз. жития, особенности языка к-рых предполагают несохранившийся араб. оригинал (Жития мч. Романа Нового (Ɨ 780), прмч. Михаила Черноризца (Эдесского, Савваита; IX в.; пам. 23 мая, 29 июля), Мученичество 20 Савваитских отцов (Griffith. 1992. Chap. 8. P. 125)). Сохранилась араб. версия (Sinait. arab. 538, 551; Paris. arab. 147 и др.) Жития свт. Феодора Эдесского (IX в.; пам. 9 июля), к-рое представляет собой агиографический роман и известно также в греч., груз. и слав. редакциях. Важное место араб. составляющая занимает в досье прп. Стефана Савваита (Ɨ 794; пам. 13 июля), поскольку его ценное в историческом плане греч. Житие, написанное Леонтием Савваитом в 1-й трети IX в., сохранилось в единственной рукописи со значительными лакунами, а араб. перевод, выполненный непосредственно с греческого в 903 г. в лавре св. Саввы Освященного, известен практически полностью в 2 рукописях (Sinait. arab. 505 и 496; изд.) и послужил источником для груз. перевода. В кон. X — нач. XI в. агиографические произведения составлял правосл. антиохиец Ибрахим ибн Юханна: сохранилось и издано Житие Антиохийского патриарха Христофора, убитого мусульманами (967); упоминаемые в нем жития учеников патриарха, преимущественно являвшихся настоятелями сир. мон-рей, утрачены.
Благодаря трудам мн. зап. и груз. исследователей XX в. было доказано значительное влияние араб. Ж. л. на грузинскую, имевшее место в Палестине (Иерусалим, лавры св. Саввы Освященного и прп. Феодосия Великого) и Сирии (мон-рь прп. Симеона Дивногорца близ Антиохии) в IX-XI вв. (Nasrallah. Histoire. Vol. 2(2). P. 164-166). В 1085 г. Михаил Иеромонах из мон-ря прп. Симеона Дивногорца составил на араб. языке самую раннюю из сохранившихся редакций Жития прп. Иоанна Дамаскина, впосл. послужившую основой для греч. версий Самуила, митр. Аданы, и Иоанна, патриарха Иерусалимского (вероятно, Иоанна VIII), а через посредство первой — для груз. версии прп. Ефрема Мцире. Не позднее XI в. тот же путь от араб. оригинала через греч. редакцию к грузинской прошли Житие Тимофея Столпника из Кахушты близ Антиохии (Ɨ 871/2) и, возможно без греческого посредства, Житие Иоанна, еп. Эдесского (кон. VIII — нач. IX в.). Араб. рукопись Жития (Х в.), хранившаяся в б-ке Лёвена, сгорела в 1940 г., но отрывок, посвященный испытанию Иоанна ядом, был издан с лат. переводом (Peeters. 1930. P. 87-89); диалог Иоанна с иудеем Финеесом сохранился также в рукописи Mingana Chr. Arab. Add. 172 (ок. 1400), содержащей и др. агиографические тексты.
На араб. языке сохранились также сборники чудес, напр. Чудеса мч. Птоломея и мучеников Кира и Иоанна в Монемвасии.
Мелькитская Ж. л. отличается обилием сборников, а в период после крестовых походов представлена почти исключительно Синаксарями и Минологиями (Graf. Geschichte. Bd. 1. S. 491-496; Nasrallah. Histoire. Vol. 3(2). P. 160-161), а также сборниками, в к-рых жития часто соседствуют с гомилиями. Единственный известный нам оригинальный агиограф этого времени — Юханна ибн Салих ибн Азар (сер. XVII в.), составивший повествования о чудесах в церквах Пресв. Богородицы и вмч. Георгия г. Халеба (не изд.; Ibid. Vol. 4(1). P. 224-225). Агиография занимает значительное место в творчестве Антиохийского патриарха Макария III аз-Заима (1647-1672), однако не носит у него самостоятельного характера и представлена 3 направлениями: сбором и переписыванием житий местных святых, переводом сборников греч. агиографии, в частности мон. Агапия Ландоса, и компиляцией различных текстов (почти все труды в рукописях).
Первый лист Жития 70 апостолов Антиохийского патриарха Макария III. XVII в. (СПбФ ИВ РАН. В 1227. Л. 131б)
Первый лист Жития 70 апостолов Антиохийского патриарха Макария III. XVII в. (СПбФ ИВ РАН. В 1227. Л. 131б)
Среди коптов расцвет Ж. л. пришелся на тот период, когда араб. язык еще не вытеснил коптский в качестве литературного, т. е. до IX-X вв. На арабском (иногда также на коптском) сохранились жития общехрист. святых и местных подвижников позднего средневековья, напр. монахов Барсума аль-Эриана (Ɨ ок. 1317), Марка из мон-ря прп. Антония Великого (Ɨ 1386), Анба Рувайса (Ɨ 1405) и др. (Graf. Geschichte. Bd. 2. S. 474-475). Наряду с этим копто-араб. традиция сохранила значительное число памятников, копт. оригинал к-рых утрачен, и адаптировала ряд житий, имевших, по всей видимости, мелькитское происхождение, напр. Мученичество Георгия Нового (Ɨ 978). Копт. Синаксарь также сохранился лишь в араб. версии (изд.: SynAlex и SynAlex (Forget)), к-рая в свою очередь послужила источником для эфиоп. и, возможно, сиро-яковитской версий. Значительный материал агиографического характера обобщен в компилятивном соч. «История Александрийских патриархов», открывающемся Мученичеством ап. Марка (рус. пер.: Подвижники: Избр. жизнеописания и труды. Самара, 1999. Кн. 2. С. 29-37).
Примером араб. Ж. л. в жанре энкомия, написанного характерной для араб. литературы рифмованной прозой, служит сборник похвальных слов несторианского патриарха Илии III Абу Халима аль-Хадиси (Ɨ 1190) и его несторианских и копт. подражателей (Graf. Geschichte. Bd. 2. S. 202-205).
Агиографические произведения сирийцев-яковитов на араб. языке по большей части представлены рукописями на каршуни XVI-XVII вв. Арабские агиографические сборники маронитского происхождения засвидетельствованы в рукописях с XVII в. В кон. XIX — нач. XX в. маронитами был подготовлен и издан ряд житий на араб. языке (Ibid. Bd. 3. S. 495), а католич. миссионерами — неск. житийных сборников (Ibid. Bd. 4. S. 265-266).
Язык араб. Ж. л., как правило, отражает варьирующееся от эпохи к эпохе влияние диалектов, более заметное в поздних текстах, как, напр., в Житии архим. Илии, составленном в нач. XVIII в. в Ираке, вероятно в халдейской среде. Широкое распространение, судя по количеству сохранившихся рукописей, на араб. языке имела народная лит-ра житийного характера: агиографические романы и небольшие рассказы о клириках, монахах и мирянах (Ibid. Bd. 1. S. 545-555).
Ряд христ. агиографических сюжетов, как и мн. библейские, был воспринят мусульм. традицией. Уже в Коране (XVIII 8-25 (9-26)) присутствует переработанный вариант Сказания об Эфесских отроках, впосл. ставшего популярным среди арабов и татар. Ярким примером мусульм. версии христ. жития является Сказание о вмч. Георгии (араб. Джирджис) в «Истории» ат-Табари (839-923) и др. (Galtier. 1905. P. 153-170). Параллели с Житием вмч. Евстафия Плакиды можно обнаружить в «Тысяче и одной ночи» и кабильских легендах (Ibid. P. 170-173).
По сравнению с др. вост. агиографическими традициями арабская до наст. времени менее всего служила объектом целостного изучения. По всей видимости, 1-й научной публикацией араб. агиографии в Европе было издание житий евангелистов П. Кирштайном (1608). В 1938 г. Х. Зайят опубликовал нек-рые жития мучеников, пострадавших от мусульман. Не считая разделов, посвященных Ж. л. в монографиях по арабо-христ. лит-ре Г. Графа и по мелькитской лит-ре Ж. Насраллы, единственное специальное обзорное исследование принадлежит Ж. М. Соже и посвящено мелькитской синаксарной лит-ре (Sauget. 1969). Как правило, исследователей привлекают араб. версии житий как части агиографических досье отдельных святых; ряд таких памятников был издан и исследован Петерсом, ван Эсбруком и др.
Ист.: Kirstenius P. Vitae Evangelistarum quatuor. Breslae, 1608; Élias III, Patriarch Nestorians. Discours religieux pour les principales fêtes de l’année / Éd. l’Abbé Yacoub. Mossoul, 1873; Peeters P. Miraculum Sanctorum Cyri et Iohannis in urbe Monembasia // AnBoll. 1906. Vol. 25. P. 233-240; idem. La Passion de St. Michel le Sabaïte // Ibid. 1930. Vol. 48. P. 65-98; Qissat Mâr Êlîiâ / Hrsg., Übers. H. Ram. Lpz., 1907, 1968r; History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria: In 4 vol. / Ed. B. Evetts // PO. 1907. T. 1. Fasc. 2, 4; 1910. T. 5. Fasc. 1; 1913. T. 10. Fasc. 5; Les miracles de St. Ptolémée / Ed., trad. L. Leroy // PO. 1910. T. 5. Fasc. 5. P. 779-803; Зайят Х. Восточная б-ка: Христианские мученики при исламе // аль-Машрик. 1938. № 36 (на араб. яз.); Vasiliev A. The Life of St. Theodore of Edessa // Byz. 1942/1943. Vol. 16. P. 165-225 (араб. версия: P. 192-198); Zayat H. Vie du patriarche melkite d’Antioche Christophore (967) par le protospathaire Ibrahîm b. Yuhanna: Document inédit du Xe siècle // Proche-Orient Chrétien. Jérusalem, 1952. T. 2. Р. 11-38, 333-366; Griffith S. The Arabic Account of ‘Abd al-Mash an-Nağra



Лит.: Galtier E. Contribution à l’étude de la littérature arabo-copte // BIFAO. 1905. Vol. 4. P. 105-221; Крачковский И. Ю. Одна из мелькитских версий арабского синаксаря // ХВ. 1914. Т. 2. Вып. 3. С. 389-398; Аттая М. О., Крымский А. Е. Семь спящих отроков Эфесских. М., 1914. (Тр. по Востоковедению, изд. Лазаревским Ин-том Вост. языков; 41); Graf. Geschichte. Bd. 1. S. 487-555; Bd. 2. S. 474-475; Atiya A. S. The Arabic Manuscripts of Mount Sinai. Baltimore, 1955 (по указ.); Levi della Vida G. Leggende agiografiche cristiane nell’Islam // Atti del Convegno Intern. sul tema «L’oriente cristiano nella storia delle civiltà». R., 1964. P. 139-151; Esbroeck M., van. Un recueil prémétaphrastique arabe du IXe siècle // AnBoll. 1967. Vol. 85. P. 143-164; Sauget J.-M. Premières recherches sur l’origine et les caractéristiques des Synaxaires melkites (XIe-XVIIe siècles). Brux., 1969. (SH; 45); idem. Une collection hagiographique arabe peu connue: Le manuscrit Vatican arabe 1225 // AnBoll. 1982. Vol. 100. P. 701-728; Nasrallah. Histoire. Vol. 2(2). P. 155-168; Vol. 3(1). P. 301-305, 334-338; Vol. 3(2). P. 145-146; Vol. 4(1). P. 99-114, 256; Griffith S. Anthony David of Baghdad, Scribe and Monk of Mar Saba: Arabic in the Monasteries of Palestine // Church History. Camb., 1989. Vol. 58. P. 7-19; idem. The Life of Theodore of Edessa: History, Hagiography and Religious Apologetics in Mar Saba Monastery in Early Abbasid Times // The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the 5th Cent. to the Present. Leuven, 2001. P. 147-169; Swanson M. N. The Martyrdom of Abd al-Masih, Superior of Mount Sinai (Qays al-Gassani) // Syrian Christians under Islam / Ed. D. Thomas. Leiden; Boston, 2001. P. 107-129; idem. The Christian al-Ma’mun Tradition // Christians at the Heart of Islamic Rule / Ed. D. Thomas. Leiden; Boston, 2003. P. 62-91; Binggeli A. L’hagiographie du Sinaï arabe d’après un recueil du IXe siècle (Sinaï arabe 542) // PdO. 2007. Vol. 32 (в печати).
С. А. Моисеева
Болгарская
Адаптация визант. агиографической модели, выразившаяся в разных формах житийного повествования, как оригинального, так и переводного, началась с возникновения слав. письменности.
Болгарская Ж. л. является непосредственным продолжением и результатом развития кирилло-мефодиевской традиции, осуществлявшейся учениками слав. апостолов и их ближайшими последователями в новых историко-политических и культурных условиях. О лит. (и в т. ч. агиографическом) творчестве в Болгарии за 20-летний период, предшествовавший приходу в страну учеников равноапостольных Кирилла и Мефодия, сведений практически не сохранилось. Нек-рое представление о местной Ж. л. этого времени дают болг. Чудеса вмч. Георгия Победоносца в составе т. н. Сказания инока Христодула (или Сказания о железном кресте), к-рое было записано в кон. 900-х гг. на греч. языке и вскоре переведено на слав. язык, но повествует о событиях 60-90-х гг. IX в. (см. в ст. Георгий, вмч., разд. «Славяно-русская агиографическая традиция»; История на бълг. средневек. литература. 2008. С. 140-141). В этом сказании, в частности в «Чуде о кресте и болгарине», имеется текст о равноап. кн. Борисе (Михаиле), типологически близкий к проложному житию.
В болг. книжной практике создавались и переводились жития святых разных ликов, однако интерес к тем или иным чинам святости менялся в разные эпохи. В IХ-Х вв. первостепенное значение имели слав. пространные жития апостольско-просветительского типа, посвященные равноапостольным Кириллу и Мефодию и их ученикам. В ХI — кон. ХII в. создавались жития преподобных, подвизавшихся в зап. пределах Болгарии, которая находилась под властью Византии,- Иоанна Рильского, Прохора Пшинского (Пчиньского), Гавриила Лесновского и Иоакима Осоговского
Начало Похвального слова равноапостольным Кириллу и Мефодию из Рильского Панегирика Владислава Грамматика. 1478 — 1479 гг. (Б-ка Рильского мон-ря. № 4/8)
Начало Похвального слова равноапостольным Кириллу и Мефодию из Рильского Панегирика Владислава Грамматика. 1478 — 1479 гг. (Б-ка Рильского мон-ря. № 4/8)
. С кон. ХII в. в связи со становлением Второго Болгарского царства особое внимание уделялось болг. и греч. святым, мощи к-рых перенесли в Тырново для прославления новой столицы. В ХIII в., вероятнее всего до середины столетия, были написаны и/или переведены их проложные жития, дополненные короткими рассказами о перенесении мощей в Тырново. Среди них представлены святые разных ликов святости, в т. ч. пустынножительницы (преподобные Филофея и Параскева (Петка) Тырновские) и епископы-исповедники (святители Иларион, еп. Могленский (Меглинский), Иоанн Чудотворец, еп. Поливотский). Тогда же было создано проложное Житие прав. Михаила Воина, подвиг к-рого является болг. версией змееборческой легенды (Бълг. лит-ра и книжнина през ХIII в. 1987. С. 49-67). В ХIV в. Тырново, центр лит. жизни, был тесно связан с афонскими монастырями; на Ж. л. повлияли воззрения исихастов на книжность и их стремление к повышенной экспрессивности. Пространные риторические жития писались по образцу творений Симеона Метафраста и в соответствии с творчеством греч. агиографов ХIV в., в первую очередь К-польского патриарха Каллиста I, что засвидетельствовано в творчестве свт. Евфимия, патриарха Тырновского, яркого представителя стиля «плетения словес».
С кон. ХIV до 30-х гг. ХV в., когда Болгария перестала существовать как самостоятельное гос-во, болг. писатели-эмигранты, митр. Киевский и всея Руси Киприан, митр. Киевский Западнорусской митрополии Григорий Цамблак и писатель Константин Костенечский, работали на Руси, в Сербии и Молдавии, создавая жития местных святителей, правителей и мучеников.
Во 2-й пол. ХV в. болг. Ж. л. обогатилась новыми агиографическими сочинениями (пространными и проложными Житиями, Сказанием о перенесении мощей), посвященными прп. Иоанну Рильскому, чей мон-рь после перенесения мощей святого в Рилу стал одним из центров сохранения культурных традиций порабощенных болгар и сербов.
В ХVI в. ведущая роль принадлежала софийскому книжно-лит. центру, где были созданы жития новомучеников, пострадавших за веру во время османского владычества.
В ХVII в., в период перехода от средневековья к национальному возрождению, спорадически возникали местные жития преподобных или мученичества, отражавшие народные предания, а нек-рые болг. жития переделывались и перелагались на разговорный язык. Переработки житий на новоболг. языке помещались в сборниках, т. н. «Дамаскинах», которые создавались до освобождения Болгарии (основные этапы истории болг. агиографии и переводы на новоболг. яз. см.: Стара бълг. лит-ра. 1986. Т. 4).
I. Жития слав. просветителей. Жития равноапостольных Кирилла и Мефодия являются древнейшими произведениями слав. Ж. л. Житие равноап. Кирилла было создано еще в Вел. Моравии, вероятнее всего до кратковременного возвращения равноап. Мефодия в К-поль и ранее 882 г., поскольку следы этого сочинения сохранились в лат. тексте т. н. Итальянской легенды о чудесах и об обретении мощей сщмч. Климента, папы Римского. Принято считать, что автором (или, возможно, соавтором вместе с равноап. Мефодием) Жития равноап. Кирилла является равноап. Климент Охридский, хотя во всех известных списках имя автора не указано. Жития равноапостольных Кирилла и Мефодия дополняют друг друга, по структуре и стилистике восходят к визант. образцам, в т. ч. и к панегирикам свт. Григория Богослова. Житие равноап. Кирилла испытало влияние житийных текстов, созданных в К-поле в последний период иконоборчества и непосредственно после окончательной победы иконопочитания. Содержание Жития отмечено печатью злободневности, для него характерен интерес к философской проблематике и полемической теологии, оно проникнуто миссионерским пафосом исповедания веры.
О времени создания Жития равноап. Мефодия идут споры. Ряд ученых предполагают, что оно написано сразу после смерти слав. первоучителя (885), до приезда его учеников в Болгарию. Др. исследователи, прежде всего болгарские, на основании того, что запрещение слав. богослужения и изгнание всех сторонников равноап. Мефодия произошли сразу после его смерти, делают вывод, что это Житие создано в Болгарии. Возможно, оно возникло после приезда (не ранее конца осени или зимы 885) учеников Мефодия в Плиску как часть служебных циклов, посвященных слав. первоучителям. Житие равноап. Мефодия было создано вместе со службой и 2 канонами ему, авторами к-рых являются Климент Охридский и еп. Константин Преславский; тем не менее не все исследователи согласны, что автором Жития равноап. Мефодия также является Климент Охридский. Житие равноап. Мефодия строится по модели житий апостолов и высших иерархов. По сравнению с Житием равноап. Кирилла в нем отводится больше места деяниям святого, чем прениям на богословские темы. Тексты Житий отличаются и структурно и стилистически, хотя мн. палеослависты считают, что Житие равноап. Мефодия — своеобразное продолжение Жития равноап. Кирилла. Такие черты Жития равноап. Мефодия, как нестройная композиция, пространное введение, содержащее богословский обзор богоспасительной истории человечества, объясняют тем, что в текст частично включено исповедание веры, произнесенное равноап. Мефодием при поставлении его в Риме в архиепископа Моравского. Будучи связанными с визант. традицией, оба Жития противостоят ей по содержанию, в к-ром утверждается идея божественной предопределенности возникновения новой азбуки и письменности для слав. христ. народов. В Житии равноап. Кирилла создание алфавита и начальные переводы богослужебных текстов описаны как последние и самые значимые из его деяний. К ним он приступил после тяжелых и опасных миссий, прений с К-польским патриархом-иконоборцем Иоанном VII Грамматиком («Аннисом») и иноверцами. По Житию равноап. Мефодия, ему было предопределено стать иерархом 1-й слав. архиепископии и прославиться прежде всего как защитнику слав. вост. богослужения и строителю слав. Церкви, бескровному мученику за нее. В тексте отмечена и его переводческая деятельность, в т. ч. значительной части Свящ. Писания (обобщенное изложение основных проблем и истории исследования Житий равноапостольных Кирилла и Мефодия, перечень всех изданий и библиографию см.: Иванова М. 2003. С. 364-383).
Причисление к лику святых учеников слав. первоучителей равноапостольных Климента и Наума и создание их Житий явились продолжением кирилло-мефодиевской житийной традиции и начальным этапом становления собственно болг. Ж. л. (Флоря, Турилов, Иванов. 2000. С. 21-27). Их Жития были написаны в 1-й пол. Х в. в мон-ре арх. Михаила на Охридском оз. (в наст. время мон-рь св. Наума, Республика Македония). Первоначальное Житие Климента не сохранилось; предполагается, что им пользовался при создании греческого Жития Климента свт. Феофилакт Болгарский (в слав. вставках повествование ведется от 1-го лица, по всей видимости непосредственного ученика Климента Охридского). Житие равноап. Наума создано между 924 и 969 гг. Неизвестный агиограф, ученик равноап. Наума, жалуется, что не нашел письменных свидетельств о жизни святых Климента и Наума и дает самые общие сведения об их подвигах. В результате его попытки найти собственную форму житийного повествования возник небольшого объема текст, богатый историческими сведениями, в к-ром автор помимо известий о равноап. Науме (и в связи с ним о Клименте Охридском) приводит рассказ о судьбе соратников равноапостольных Кирилла и Мефодия, проданных в рабство в Венеции и выкупленных имп. служителем, а также о нашествии венгров — наказании, постигшем Моравскую землю за уничтожение кирилло-мефодиевского дела. Т. о., Житие равноап. Наума не соответствует типу ни проложного, ни пространного повествования. Позднее было создано и 2-е слав. Житие равноап. Наума, в к-ром видны следы греч. источников — Житий, написанных архиеп. Феофилактом и др. греч. авторами ХIII-ХIV вв.
В нач. XIII в. в Тырнове появилось 2 краткие версии Житий равноапостольных Кирилла и Мефодия — т. н. «Успение Кирилла» и «Успение Мефодия», в к-рых их происхождение связывается с Болгарией. По времени им предшествовала т. н. Солунская легенда («Сказание, како св. Кирилл крести болгары»), созданная в Македонии в период визант. владычества.
II. Жития преподобных и святителей. Первые болг. преподобные Х-ХII вв., являвшиеся основателями Рильского, Пшинского (Пчиньского), Лесновского и Осоговского мон-рей, из-за пограничного местоположения этих обителей почитались также и сербами. Еще до распространения в XIV в. сборников с метафрастовскими житиями о каждом из них были написаны отражавшие местные предания пространные жития, однако ни одно из них не вошло в староизводные Минеи-Четьи и Торжественники. Из всех предполагаемых текстов житий западноболг. преподобных до наст. времени сохранились сравнительно ранние списки (нач. ХV в.) только Житий Иоанна Рильского и Иоакима Осоговского (последнее было написано не ранее ХIII в.). О времени и месте создания «древнейшего» («народного» или «безымянного») Жития прп. Иоанна Рильского, как и о дате перенесения мощей святого из Рилы в Средец (ныне София), высказывались разные гипотезы. В результате последних исследований можно предположить, что оно было написано в ХII в. рильским иноком, но скорее всего не в самом Рильском мон-ре, а в обители святого в Средеце. К ХII в. текст можно отнести, учитывая не только отсутствие в нем рассказа о перенесении мощей в Венгрию, но и особенности композиции: болг. книжник, оставаясь в рамках провинциальной модели жития, рассказывает о святом и восхваляет его непривычным для жития образом, вводя в текст избранные тропари из службы ему. Кроме того, автор находится под влиянием Патериков и рассказов о пустынниках (напр., о прп. Макарии Великом). Образный строй данного Жития тесно связан с ветхозаветными реминисценциями, что указывает на влияние болг. эсхатологических текстов ХII в.
Житие прп. Иоакима Осоговского возникло после Жития прп. Иоанна Рильского и подражает ему, что отразилось на композиции и стиле.
В ХIII в. в отдельных списках южнослав. (гл. обр. серб.) Прологов содержатся краткие Жития преподобных Иоанна Рильского, Прохора Пшинского и Гавриила Лесновского. Списки пространных Житий преподобных Прохора и Гавриила неизвестны до кон. ХVIII в. В ХIХ в. в Лесновском и Пчиньском мон-рях были написаны житийные произведения, посвященные этим святым. Хотя они являются поздними версиями, нек-рые мотивы в них восходят к более ранним текстам, подобным «древнейшему» Житию прп. Иоанна Рильского. Возможно, что т. н. народные жития передают на разговорном языке древние протографы.
С перенесением мощей прп. Иоанна Рильского в Тырново (1195) преподобный стал общеболг. покровителем. С ХIII в. посвященный ему цикл агиографических произведений непрерывно обогащался. Самое распространенное из проложных Житий прп. Иоанна Рильского, названное Й. Ивановым «первым» проложным Житием (Иванов. 1936. С. 52-57), отражает в полной мере патриотические идеалы Второго Болгарского царства. Акцент в тексте сделан на перенесении мощей преподобного в Тырново и на восхвалении Иоанна Рильского как покровителя «единородного ему болгарского народа», престольного города и царя. Время создания текста нельзя определить точно. По характеру это Житие скорее связано с культурным подъемом в правление царей Калояна (1196-1207) или Иоанна Асеня II (1218-1241), но списки текста с ХIII до сер. ХIV в. неизвестны.
Лист из проложного Жития прп. Иоанна Рильского. Драганова минея. Кон. XIII в. (РГБ. Гиг. 42. № 1725)
Лист из проложного Жития прп. Иоанна Рильского. Драганова минея. Кон. XIII в. (РГБ. Гиг. 42. № 1725)
В 3-й четв. ХIV в. свт. Евфимием Тырновским было написано высокохудожественное пространное Житие прп. Иоанна Рильского, источниками к-рого были «древнейшее» Житие, греч. Житие, написанное Георгием Скилицей, и «первое» проложное Житие (Там же. С. 37-51, 59-73). Цель автора — рассказать «красиво, по достоинству» о жизни и деяниях преподобного, потому что, как отмечает Евфимий Тырновский, до него об Иоанне Рильском писали «неискусно и грубо». В этом произведении, как и в др. Житиях, составленных свт. Евфимием, автор делает акцент на мистическом озарении преподобного, описывая его подвиги сообразно с понятиями исихазма. Свт. Евфимий использовал мотив «древнейшего» Жития о неосуществленном желании болг. царя Петра встретиться со святым и включил в Житие послание прп. Иоанна к Петру о первенстве Церкви перед светскими правителями. Затем автор пространно повествует о мощах прп. Иоанна, подчеркивая могущество Болгарского царства и значимость Тырновской Патриархии. Это Житие остается самым популярным из пространных Житий Иоанна Рильского: оно помещается в южнослав. Торжественниках и Минеях-Четьих с последних десятилетий ХIV до ХVIII в.
Слово о Лазаре, князе Сербском. Лист из Сборника. XV в. (Ath. Pant. Slav. 22. Fol. 275r)
Слово о Лазаре, князе Сербском. Лист из Сборника. XV в. (Ath. Pant. Slav. 22. Fol. 275r)
Ок. 1469 г., когда тело святого было перенесено из разоренного Тырнова в Рильский мон-рь, в Житие был вставлен рассказ Владислава Грамматика об этом событии — первые сохранившиеся путевые заметки в болг. книжности. Это произведение вошло в Рильский Панегирик 1478-1479 гг. вместе с пространным Житием «с малою похвалою» южнослав. писателя Димитрия Кантакузина (Димитър Кантакузин. 1989. С. 21-43), текст к-рого соответствует принципам изысканного стиля свт. Евфимия Тырновского и содержит элементы историзма. О неразумной политике балканских правителей и о последствиях захвата турками Балканского п-ова Димитрий Кантакузин пишет с убедительной силой очевидца. Это Житие стало последним в агиографической традиции, посвященной прп. Иоанну Рильскому, в котором отразился евфимиевский стиль. С кон. ХV в. в стишных Прологах, происходящих из Рильского мон-ря, под 1 июля помещаются новые сказания о возвращении мощей. В ХVIII в. пресв. Рильского мон-ря Даниил создал сводный житийный текст, собранный, согласно заглавию, «из разных писателей, особенно из Евфимия» (открыт и издан Б. Ангеловым; см.: Ангелов. 1958. Т. 1. С. 69-97). Автор не просто обобщил сведения о деяниях святого, но и попытался разобраться в достоверности источников и высказал свое представление о смысле пустынножительства и монастырской жизни.
С ХIV в. краткие Жития прп. Параскевы (Петки) Тырновской, свт. Илариона Могленского и прав. Михаила Воина переписывались в составе стишных Прологов. В дефектном списке ХV в. в составе Минеи праздничной сохранилось проложное Житие патриарха Иоакима I, единственного Тырновского архиерея, канонизированного в ХIII в.
Пространные Жития Параскевы (Петки) и Илариона Могленского, созданные свт. Евфимием Тырновским в 70-90-х гг. ХIV в., распространялись вместе с Житием прп. Иоанна Рильского в Торжественниках и Минеях-Четьих (самые ранние списки 3 Житий находятся в новоизводном Зографском сб. 80-х гг. ХIV в.), а написанное им же Житие прп. Филофеи сохранилось в тырновских по орфографии списках молдав. и серб. происхождения с нач. ХV в. Принадлежащие свт. Евфимию Жития преподобных Филофеи и Параскевы — проникновенное восхваление жен. святости как стремления дев к Небесному Жениху. Источниками Жития Параскевы являются проложное ее Житие (версия греч. текста с прибавлением рассказа о перенесении мощей) и греч. Житие диак. Василика. Произведение сочетает житийный рассказ с формальными особенностями похвалы, являясь житийно-панегирическим по жанру. Между маем 1398 г. и 1408 г. Григорий Цамблак продолжил рассказ свт. Евфимия Тырновского о перенесении мощей святой в Тырново повествованием о переносе их в Сербию (Kalužniacki. 1899. S. 432-436). Оно относится к серб. периоду творчества Цамблака, что отразилось на эмоциональном отношении к Сербии и ее народу. Автор пишет, что Богу было угодно отнять у святой болг. славу и дать ей сербскую. Текст Цамблака не встречается в рукописях отдельно, а постоянно сопровождает Житие, написанное свт. Евфимием.
Основную часть Жития Илариона Могленского, написанного свт. Евфимием, составляют прения святителя с еретиками, в т. ч. с богомилами. Не имея др. агиографических источников, автор обратился к визант. полемической лит-ре и включил в повествование обширные части трактата Евфимия Зигабена «Догматическая паноплия, или Догматическое всеоружие православной веры».
В духе исихастского понимания лит. стиля жития и по образцам Симеона Метафраста написано и Житие одного из наиболее чтимых на Руси святых — митр. Киевского и всея Руси Петра, принадлежащее перу его преемника митр. Киприана (Ангелов. 1958. Т. 1. С. 159-176; Дончева-Панайотова. 1981).
После ХV в. на долгое время прекратилось создание новых житий преподобных. В ХVII в. мон. Памфилий составил Житие прп. Пимена Зографского (Ɨ нач. ХVII в.), иконописца и книгописца, мн. годы подвизавшегося в Зографском мон-ре, а затем в разных обителях в Болгарии, преимущественно вокруг Софии. Сохранилась единственная копия его Жития с афонского списка 1683 г. (Динеков. 1954). Жития болг. преподобных, подвизавшихся на Афоне, напр. Козмы Зографского, помещены в т. н. Афонском патерике, через посредство которого они и распространялись до кон. ХIХ в. (Партений. 1979. Т. 2).
III. Мученичества. В древнеболг. лит-ре присутствуют гл. обр. переводные мученичества. Канонизация мучеников в Болгарии до нач. ХV в. не происходила, за исключением Зографских преподобномучеников, сожженных в пирге мон-ря в 1274 (1275 или 1276) г. за сопротивление введению на Афоне унии. Время возникновения их Мученичества точно неизвестно (между кон. ХIII — нач. ХIV в. и ХVI в., т. к. единственный его список находится в ркп. 2-й четв. ХVII в.). Несмотря на небольшой объем текста, его автор демонстрирует хорошее знакомство с лит. принципами дометафрастовских мученичеств (в т. ч. прослеживается влияние Жития 40 Севастийских мучеников). В тексте сохранились важные исторические сведения (о сгоревших 193 книгах, о церковной утвари и ценностях, подаренных болг. царями).
В нач. ХV в. Григорий Цамблак в качестве пресвитера соборной молдовлахийской церкви в Сучаве принял участие в перенесении мощей пострадавшего за Христа трапезундского купца вмч. Иоанна Нового Сучавского из Аккермана (ныне Белгород-Днестровский) в Сучаву и написал его Мученичество и проложное Житие (т. н. Афлисис — см.: Яцимирский. 1898. С. 74; Темчин С. Ю. Гимнографическое творчество Григория Цамблака: Вильнюсский список службы с житием Иоанну Новому Сучавскому 2.VI // Krakówsko-Wilenskie studia slawistyczne. Kraków, 1997. Т. 2. S. 143-144, 160-161, 163, 198-200), к-рые стали первыми произведениями румын. агиографии (Русев, Давидов. 1966). Автор, зная уровень церковнослав. образованности своей молдав. паствы, не злоупотреблял высоким стилем тырновской книжной школы, сохраняя при этом богатство среднеболг. лит. языка.
В период национальной трагедии, связанной с захватом Балканского п-ова турками, при большом числе жертв и героизме народа в отстаивании веры, христ. новомученики оставались безвестными и лишь о некоторых из них сохранялась память в фольклорной форме в местных преданиях. Только в ХVI в., когда наступили более спокойные времена и мученичество за веру стало исключением, а не общей судьбой болгар, возникли условия не только для канонизации новомучеников, но и для создания их житий. Первые житийные тексты появились в Софии, где христ. община была достаточно экономически сильной и сплоченной, чтобы утвердить культ новомучеников. В 1-й пол.- сер. ХVI в. в Софии имелись опытные книжники, литературно одаренные и владевшие спецификой агиографического жанра (Динеков. 1939). Мученичество, положившее начало новой книжной школе, посвящено мч. Георгию Новому Кратовскому, молодому ювелиру, отказавшемуся принять ислам и сожженному мусульм. фанатиками в 1515 г. Оно было написано ок. 1515-1523 гг. свящ. Пейо. 17 мая 1555 г. тур. толпа забила до смерти камнями др. ремесленника — сапожника Николая Нового Софийского. Его Мученичество было создано гражданином Софии Матеем (Матфеем) Грамматиком, дьяком и лампадарием Сардикийской церкви. Поп Пейо и Матей Грамматик были книжниками, хорошо знакомыми с агиографической традицией (Там же). В Мученичествах каждый из них по-своему сочетал традиц. агиографическую форму с описанием подвига мученика в новых общественных условиях. Изменился герой жития — это не духовное лицо и не представитель знати, а ремесленник, до своего мученического подвига не слишком отличавшийся от сограждан. Агиографы близки к новомученикам, их положение в обществе даже выше, чем статус их героев: поп Пейо — духовный отец Георгия, Матей Грамматик — лампадарий (почетная привилегия выдающихся граждан); они принимают активное участие в драматическом конфликте и пишут как очевидцы событий. Основной задачей, стоявшей перед авторами, было создание жизнеописаний, достойных мученических подвигов в эпоху, когда защита веры имела национальную и общественную значимость. Различия между Мученичествами Георгия и Николая объясняются, с одной стороны, обстоятельствами их жизни, а с другой — личностью агиографа. Композиция Мученичества Георгия близка к классическому типу мученичества, прения юноши с иноверцами и страдания за веру находятся в центре повествования, а суд над героем напоминает судилище над Христом. Как пастырь своего словесного стада, поп Пейо акцентирует учительную линию повествования, речи Георгия, в к-рых он восхваляет христ. веру, становятся примером сопротивления исламу. В пространном вступлении к Мученичеству автор рассказывает о др. совр. святых (серб. деспоте Стефане Лазаревиче, Иоанне и Гюрге Бранковичах (см. ст. Бранковичи), серб. кн. Лазаре, а также об упомянутом лишь здесь пресв. Стефане из Пенковци), внушает читателям и слушателям, что Бог прославляет каждого истинно и твердо верующего христианина. Заключение представляет дидактическое поучение, характерное для дней Великого поста (Георгий погиб 11 февр.). Мученичество известно в 2 редакциях, старший список пространной редакции находится в Хиландарском монастыре (Богдановић. 1976).
Иначе построено Мученичество Николая Нового. Он был состоятельным человеком и семьянином, нек-рое время служил придворным сапожником валашского воеводы. У него были друзья и среди турецкого населения. Для него принятие ислама — трагедия, а последующий отказ от мусульманства — подвиг. Матей Грамматик преднамеренно не сократил подробности обыденной жизни Николая, а расширил изложение, идеализируя своего героя с помощью абстрактного повествования. В лучших традициях тырновских житий Матей вставляет между эпизодами риторические характеристики, свои рассуждения, пространные речи героя, множество библейских цитат и т. д., часто включает обширные выписки из сочинений свт. Евфимия и Григория Цамблака. Защита Николая перед тур. судом принимает местами форму сложных догматических прений. Мученичество написано высоким лит. стилем, подчеркиваются знания и начитанность автора. Из-за объема и сложности текста Мученичество Николая Нового не получило распространения и дошло в единственном списке (Сырку. 1901).
Мученичества новомучеников возникали и позднее. Так, в XIX в. были написаны Мученичества Иоанна Тырновского († 1822), Димитрия Сливенского († 1841) и др., для к-рых характерен разговорный язык, но заметно сильное влияние церковнослав. языка.
IV. Жития правителей. Особенность болг. Ж. л. в том, что она по примеру византийской и в отличие от сербcкой и русской не делает акцента на почитании правителей. Жития князей и царей создаются спорадически и почти не распространяются. Не дошедшие до нас Жития равноап. кн. Бориса (Михаила; Ɨ 907) и царя Петра († 971), вероятнее всего, хранились только в Преславе и погибли при разрушении столицы. Царь Симеон († 927), как и правители династии Асеней (с кон. XII до кон. XIII в.), не был канонизирован. После уничтожения Болгарского гос-ва тырновские агиографы-эмигранты в Сербии, находясь под влиянием местной Ж. л., создали 2 жития серб. правителей. Григорий Цамблак, будучи игум. Дечанской обители, написал Житие кор. Стефана Дечанского, создателя и 1-го настоятеля мон-ря (Григорий Цамблак. 1983). Житие является образцом высокого стиля и абстрактного психологизма, характерного для тырновской Ж. л. Автор в угоду своим взглядам представляет Стефана Дечанского сторонником и защитником исихастов в византийской столице, что является явным анахронизмом. Возвращение зрения ослепленному отцом Стефану связано с покровительством свт. Николая Чудотворца. Особый акцент в Житии сделан на посмертных чудесах св. Стефана: он как покровитель своей обители защищает мон-рь от посягательств светских властей.
Житие серб. деспота Стефана Лазаревича написано Константином Костенечским, младшим из последователей свт. Евфимия Тырновского (Куев, Петков. 1986. С. 314-515; Константин Костенечки. 1993), в 1431 г. и известно в 3 редакциях, в т. ч. в рус. сокращенной редакции XVI в. Оно представляет сочетание 2 агиографических традиций: для болгарской на всех уровнях текста характерно стремление к усложненным формальным особенностям и символам, к-рое восходит к исихастским представлениям о слове и к Евфимиеву «плетению словес»; историческая традиция проявляется не только в рассказе о благочестивых деяниях деспота, но и в новом для житийного жанра убеждении, что автор должен рассказывать о них на фоне истории народа. Константин Костенечский считает, что эти тексты можно рассматривать не только как житие одного человека, но и как «летопись со всеми остальными [событиями]». При этом отмечается пристрастие автора к усложненным композиционным формам и символическим эффектам. Первые буквы 93 глав 2-го счета образуют акростих с посвящением: «Дивно и совершенно на земли властвовавшему известному Стефану приносит странник раб переводчик Константин». Заключительная, 94-я гл.- это 2-частный словесный венок восхвалений Стефану: 1-я часть содержит традиц. для панегириков риторический колон с анафорой «Радуйся», 2-я — декламационные стихи с акростихом, близким к основному акростиху, «Странно странствуя, странствие оплакиваю» (Константин Костенечки. 1993).
V. Переводные жития как основная часть болг. агиографии, видимо, стали появляться еще в кон. IХ в., но с уверенностью их появление можно отнести к Х в. Они переводятся как в сборниках, выстроенных по календарному принципу, так и отдельно. Календарные сборники составлялись при царях Симеоне и Петре. По-видимому, первыми были переведены Торжественники, необходимые для богослужения, в к-рые вошли жития особо чтимых святых. Сборники житий, имеющие дометафрастовские протографы, называются исследователями «староизводные», а календарные сборники, отредактированные по Иерусалимскому уставу в ХIV в. на Афоне и/или в Тырнове в связи с «исправлением книг»,- «новоизводные» (Иванова К. 1981). Лингвистический анализ отдельных списков староизводных переводных житийных текстов выявил преславское происхождение протографов.
К преславскому периоду относится лит. деятельность Иоанна Пресвитера, переведшего Житие прп. Антония Великого, к-рое стало классической моделью житийного канона, и Житие сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского, содержащее подробности духовной жизни первых христиан на Сицилии. К этому же типу ранних переводов житий относятся Жития свт. Иоанна Златоуста Георгия I, патриарха Александрийского, и преподобных Нифонта Констанцского, Саввы Освященного, Феодора Студита, Павла Фивейского и др. Один из сборников содержит староизводные переводные жития только св. жен. Он был составлен в 1360 г. для царицы Анны, супруги видинского царя Иоанна Срацимира.
Житие вмц. Варвары. Германов сборник. 1358/59 гг. (Библиотека Румынской патриархии. № 1. Л 92а)
Житие вмц. Варвары. Германов сборник. 1358/59 гг. (Библиотека Румынской патриархии. № 1. Л 92а)
Отдельные пространные жития, возможно, были переведены в ХIII в. (напр., свт. Николая Чудотворца Симеона Метафраста или прп. Иоанна Рильского Георгия Скилицы, а также прп. Параскевы Тырновской диак. Василика). Изменения в агиографическом репертуаре связаны с новыми уставными, философскими и филологическими требованиями на слав. юге во 2-й пол. ХIV в. Незадолго до кон. ХIV в. в основном на Афоне появились сборники, сочетавшие отдельные староизводные жития с новоизводными текстами.
В дошедших списках «новоизводных» Торжественников и Миней-Четьих большая часть житий остается в прямой зависимости от староизводных сборников, но дометафрастовские жития подвергаются стилистической и языковой правке, иногда с учетом греч. оригинала, а новые переводы житий, в т. ч. Симеона Метафраста, следуют принципу т. н. буквального перевода, сохраняя точную передачу греч. конструкций и моделей и вообще греч. синтаксиса, выбирая максимально близкие к оригиналу синонимы, тропы и т. д.
Вероятнее всего, сербами на Афоне в ХIV в. был сделан неполный перевод метафрастовских житий: были выбраны тексты, относившиеся в основном к первым месяцам года. Важную роль в болг. Ж. л. сыграли переводы Житий исихастов прп. Григория Синаита и прп. Феодосия Тырновского, написанные К-польским патриархом Каллистом I (Помяловский. 1894; Златарски. 1904), а также перевод Жития прп. Ромила Видинского (Раваницкого) афонского мон. прп. Григория Нового (Григорий. 1900; Halkin. 1961), сделанный, по-видимому, на Афоне иноком слав. происхождения. И авторы и переводчики относятся к исихастской среде. Эти произведения отличаются корректностью и точностью перевода, но иногда греч. оригинал дополнен фактами и личными впечатлениями, свидетельствующими о причастности переводчика к жизни святого (напр., дополнение о смерти Григория Синаита в его Житии дает основание приписывать перевод Феодосию Тырновскому). В слав. текст Жития прп. Ромила Видинского внесены топографические сведения о болг. землях, рассказ о жизни святого в Авлоне (ныне Влёра, Албания) и о его уходе в Сербию, к-рые, по-видимому, не были известны греч. агиографу.
С кон. ХIV — нач. ХV в. новоизводные переводные жития в Торжественниках и Минеях-Четьих сохранились гл. обр. на Афоне, а в дальнейшем вплоть до ХVII в. в румын. (молдав.) кодексах тырновского правописания и в афонских болг. и серб. правописания. В Болгарии основной переводной житийный репертуар тырновской школы стал восстанавливаться в Рильском мон-ре и в близких к нему обителях (Матейче, Дечаны и др.) со 2-й пол. ХV в. и далее. Свидетельство этого — объемные кодексы ресавского правописания, созданные Владиславом Грамматиком, Мардарием Рильским, Пахомием Рильским и др.
В ХVII в. в основном на Афоне составляются серб. сводные Минеи-Четьи на весь год (самоназвание Панагирик), к-рые корректно копируют, с одной стороны, оригиналы Х в. для большего числа житий и мученичеств, а с другой — переводы ХIV в. текстов торжественного красноречия. Так, к их числу относятся кодексы, созданные хиландарским мон. Аверкием и его сподвижниками (Иванова К. 2005).
Под влиянием греч. сб. «Сокровище» Дамаскина Студита (1558) редактируются содержание житий и их стиль, чтобы сделать тексты понятными простым людям, для к-рых традиц. язык и высокий стиль агиографических произведений стали чуждыми. Переработки на новоболг. языке помещаются в т. н. дамаскинах (Петканова-Тотева. 1965; пер. и изд. текстов: Народното четиво. 1990. С. 27-231). Греч. жития новомучеников, пострадавших в ХVIII в., распространялись среди болгар или в оригинале, или через отдельные публикации в периодических изданиях, а также через Афонский патерик (1867). В 1904 г. на болг. язык были переведены Минеи-Четьи свт. Димитрия, митр. Ростовского. Последнее по времени издание, собравшее все болг. и связанные с болгарами жития святых с переводами и пересказами, было подготовлено еп. Левкийским Парфением (Стаматовым) (Партений. 1974, 1979).
Изд. (избр.): Помяловский И. В. Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита. СПб., 1894; Яцимирский А. И. Из слав. рукописей: Тексты и заметки. М., 1898; Kalužniacki E. Zur älteren Paraskevalitteratur der Griechen, Slaven und Rumänen. W., 1899; idem. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375-1393). W., 1901; Григорий, мон. Монаха Григория Житие преподобного Ромила / Сообщ.: П. А. Сырку. СПб., 1900. C. 1-34. (ПДПИ; 136); Сырку П. А. Очерки из истории лит. сношений болгар и сербов в ХIV-ХVII вв.: Житие св. Николая Нового Софийского по единственной рукописи ХVI в. СПб., 1901; Златарски В. Житие и жизнь преподобнаго отца нашего Феодосиа, иже въ Трънове постничьствовавшаго, съписано светеишимь патриархомь Константина града кvрь Калистомь // СбНУНК. 1904. Т. 2(20). С. 1-41; Иванов Й. Български старини из Македония. София, 1908, 19312, 1970р; он же. Жития на св. Иван Рилски с уводни бележки. София, 19362. (Отд. отт. из: ГСУ, ИФФ. 1936. Т. 32. Кн. 13); Лавров П. А. Жития св. Наума Охридского и служба ему // ИОРЯС. 1908. Т. 12. Кн. 4. С. 1-51; Динеков П. Житието на Пимен Зографски // ИИБЛ. 1954. Т. 2. С. 233-248; Ангелов Б. Из старата българска, руска и сръбска лит-ра. София, 1958. Т. 1; 1967. Т. 2; 1978. Т. 3; Halkin F. Un ermite des Balkans au XIVe siècle: La Vie grecque inedite de Saint Romylos // Byz. 1961. T. 31. P. 111-148; Климент Охридски. Събрани съчинения / Изд.: Б. Ангелов, Хр. Кодов. София, 1973. Т. 3; Партений, еп. Левкийски. Жития на български светци. София, 1974. T. 1; 1979. T. 2; Богдановић Д. Житиjе Георгиjа Кратовца // Зб. историjе књижевности / Одељење jaзика и књижевности САНУ. Београд. 1976. T. 10. C. 203-267; Григорий Цамблак. Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак / Ред.: А. Давидов и др. София, 1983; Жития Кирилла и Мефодия. М.; София, 1986; Куев К., Петков Г. Събрани съчинения на Константин Костенечки: Изслед. и текст. София, 1986; Стара българска лит-ра. София, 1986. Т. 4: Житиеписни творби / Ред., коммент.: К. Иванова; Българската лит-ра и книжнина през ХIII в. / Под ред. И. Божилова, С. Кожухарова. София, 1987; Димитър Кантакузин. Събрани съчинения / Коммент.: Б. Ангелов и др. София, 1989; Народното четиво през ХVI-ХVIII в. / Подбор и ред.: Д. Петканова. София, 1990; Константин Костенечки. Съчинения: Сказание за буквите. Житие на Стефан Лазаревич / Пер.: А.-М. Тотоманова. София, 1993; Калиганов И. И. Георгий Новый у вост. славян. М., 2000; Иванова К. Bibliotheca hagiographica balkano-slavica. София, 2008.
Лит.: Сперанский М. Н. Слав. метафрастовская минея-четья // ИОРЯС. 1904. Т. 9. Кн. 4. С. 173-202; Динеков П. Софийски книжовници през ХVI в.: Поп Пейо. София, 1939; Петканова-Тотева Д. Дамаскините в българската лит-ра. София, 1965; Русев П., Давидов А. Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска лит-ра. София, 1966; Иванова К. Структурно-типологична характеристика на чети-минейните сборници в южнослав. и руската лит-ра // Славянска филология. София, 1978. T. 16. C. 66-77; она же. Житийно-панигиричното наследство на Търновската книжовна школа в балканската ръкописна традиция // Търновска книжовна школа. София, 1980. Кн. 2: Ученици и последователи на Евтимий Търновски: Втори междунар. симп., Вел. Търново, 20-23 май 1976. С. 193-214; она же. Житието на Петка Търновска от Патриарх Евтимий: Източници и текстол. бележки // Старобългарска лит-ра. София, 1980. Кн. 8. С. 13-31; она же. Агиографско хомилетични сборници с устойчив състав в южнослав. литератури // Cyrillomethodianum. Thessal., 1981. Vol. 5. P. 11-19; она же. Новоизводните търновски сборници и въпросът за ролята на Патриарх Евтимий в техния превод // Старобългарска лит-ра. 1991. Кн. 25/26. С. 124-134; она же. Най-старото житие на св. Иван Рилски и някои негови литературни паралели // Медиевистика и културна антропология: Сб. в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Д. Петканова. София, 1998. С. 37-47; она же. Житията в старобългарската лит-ра // Старобългарско книжовно наследство. София, 2002. С. 70-92; она же. За влиянието на Търновската книжовна школа в Румъния: Съществува ли втора среднобълг. ред. на Житието на св. Иван Рилски от Патриарх Евтимий // Доайенът: В памет на проф. Н. М. Дилевски. София, 2004. С. 370-394; она же. Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в. // България и Сърбия в контекста на визант. цивилизация: Сб. ст. от българо-сръбския симпозиум, София, 14-16 септ. София, 2005. С. 313-327; она же. Староизводните чети-минеи и сръбските манастири // Love of Learning and Devotion оf Got in Orthodox Monasteries = Љубав према образовању и вера у Бога у правосл. манастирима: Зб. изабр. радова 5. Међунар. хиландарска конф., 2002. Београд; Columbus, 2006. Т. 1. С. 36-46; Дончева-Панайотова Н. Киприан — старобългарски и староруски книжовник. София, 1981; Томова Е. Из лит. история на житията на търновските светци в слав. ръкописна традиция през ХVI в. // Българският шестнадесети век: Сб. с докл. за бълг. обща и културна история през ХVI в., София, 17-20 окт. 1994. София, 1996. С. 275-286; Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000; Томсън Фр. Погрешно ли е приписвано на Григорий Цамблак мъчението на св. Йоан Нови // Старобългарска лит-ра. 2001. Кн. 32. С. 63-74; Иванова М. Пространни жития на Кирил и Мефодий // КМЕ. 2003. Т. 3. С. 364-383; Mircea J. R. Répertoire des manuscrits slaves en Roumanie: Auteurs byzantins et slaves. Sofia, 2005; История на българската средновек. лит-ра / Cъст.: А. Милтенова. София, 2008. С. 30-31, 37-48, 50-53, 130-142, 409-414, 453-459, 523-534, 548-552, 575-579, 582-597, 630-633, 635-646, 651-656, 671, 674, 676-682, 696, 698, 702-707.
К. Иванова
Восточнославянская Ж. л.
может быть рассмотрена в хронологическом порядке, в связи со складыванием региональных агиографических традиций, а также в контексте формирования и редактирования сборников, организованных по календарному принципу (Миней-Четьих, Прологов, минейных Торжественников). Ни один из этих аспектов не представляется универсальным. Последовательное хронологическое рассмотрение рус. Ж. л. не всегда удобно, поскольку процесс редактирования отдельного жития мог занимать неск. столетий, т. о., его редакции могут отражать различные идеологические и эстетические тенденции и быть ориентированы на разные образцы. Выделение региональных агиографических традиций представляется достаточно условным. Под этим определением имеют в виду не столько место создания жития, сколько место подвига святого, что не всегда совпадает. Кроме того, выделение регионов иногда затруднено в связи с изменением границ адм. единиц и епархий. Попытки же найти иные, негеографические основания для выделения той или иной агиографической традиции не всегда удачны, поскольку жития святых, подвизавшихся в одном регионе, могут не быть текстуально связаны друг с другом, бывают ориентированы на разные образцы и могут использовать разные агиографические модели. Весьма важным представляется рассмотрение развития Ж. л. в связи с историей сборников, однако названные сборники не охватывали всей оригинальной Ж. л.
1. XI-XVI вв.
Представления о рус. Ж. л. домонг. периода имеют достаточно фрагментарный характер. Первым официально канонизированным рус. святым Борису и Глебу было посвящено наибольшее количество агиографических текстов: Сказание («Сказание, и страсть, и похвала святую мученику Бориса и Глеба») с приписанным к нему Сказанием о чудесах («Сказание чюдес святою страстотерпьцю Христову Романа и Давида»), Чтение («Чтение о Житии и о погублении блаженую страстотерпцю Бориса и Глеба»), написанное мон. Киево-Печерского мон-ря Нестором, проложные Жития, а также неск. произведений, лишь отчасти связанных с Ж. л.: летописная повесть, читающаяся в ПВЛ и в НПЛ младшего извода под 1015 г. (вошедшая в состав летописи при создании «Начального свода»), и паремии (по терминологии разных исследователей, «небиблейские», «исторические», «летописные»). Вопрос о взаимоотношениях Сказания, Чтения и летописной повести получал самые разные решения.
Погребение св. кн. Бориса в Вышгороде (вверху). Убийцы сообщают Святополку о смерти св. Бориса и вручают его шапку (внизу). Миниатюра из Сильвестровского сборника. 2-я пол. XIV в. (РГАДА. Ф. 381. № 53. Л. 128 об.)
Погребение св. кн. Бориса в Вышгороде (вверху). Убийцы сообщают Святополку о смерти св. Бориса и вручают его шапку (внизу). Миниатюра из Сильвестровского сборника. 2-я пол. XIV в. (РГАДА. Ф. 381. № 53. Л. 128 об.)
Ряд агиографических произведений посвящен Киево-Печерским святым: Житие прп. Феодосия Печерского, также написанное Нестором, несохранившееся Житие прп. Антония Печерского и возникший в 1-й трети XIII в. Киево-Печерский патерик. Из Киево-Печерского мон-ря, возможно, происходит «Память и похвала князю русскому Владимиру» Иакова Мниха («Како крестися Володимер, и дети своя крести, и всю землю рускую от конца до конца, и како крестися баба Володимерова Олга преже Володимера»). Митр. Макарий (Булгаков) атрибутировал ее иноку этого мон-ря Иакову, к-рому прп. Феодосий Печерский хотел оставить игуменство после смерти. Хотя вопрос об авторстве остается спорным, связь этого памятника с Киево-Печерским мон-рем представляется весьма вероятной. Во всяком случае киевское происхождение текста практически не вызывает сомнений, еще А. А. Шахматовым была установлена его связь с летописанием, предшествовавшим «Начальному своду» (Шахматов А. А. Память и похвала Владимиру мниха Иакова // Он же. Разыскания о рус. летописях. М., 2001. С. 18-28). Среди исследователей не сложилось единого мнения относительно композиционного единства «Памяти и похвалы…» и единовременности ее создания. В зависимости от решения этой проблемы решается и вопрос об объеме корпуса древнейших агиографических текстов, а именно о существовании Похвалы равноап. кнг. Ольге (или ее Жития) и древнейшего Жития равноап. кн. Владимира (Василия) Святославича.
Развитие ранней рус. Ж. л. во многом связано с бытованием Пролога на Руси (о редакциях и об эволюции этого сборника см. подробнее в ст. Пролог). В домонг. период в состав Пролога вошли Жития кнг. Ольги, кн. Владимира, варяжских мучеников (Феодора Варяга и его сына Иоанна), Бориса и Глеба, прп. Феодосия Печерского и, по всей видимости, блгв. кн. Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха, свт. Аркадия, еп. Новгородского, свт. Леонтия, еп. Ростовского; во 2-й пол. XIII в.- Жития свт. Кирилла, еп. Туровского, блгв. кн. Михаила Всеволодовича Черниговского и его боярина Феодора, прп. Варлаама Хутынского (Лосева. 2009). Попытка поставить формирование блока текстов из проложных Житий кн. Владимира, варяжских мучеников, кнг. Ольги (и, возможно, Бориса и Глеба) в зависимость от гипотетического «Сказания о первоначальном распространении христианства на Руси», предложенного Д. С. Лихачёвым в качестве вероятного первоисточника рус. летописания, не представляется убедительной.
Если в более позднее время проложные редакции житий являются, как правило, вторичными, то в ранний период литературная история ряда житий (свт. Леонтия, еп. Ростовского, прп. Варлаама Хутынского и др.) начинается с проложных текстов.
Актуальным для истории Ж. л. XIII-XIV вв. является вопрос о соотношении летописных и нелетописных редакций житийных текстов. Внесение Жития блгв. кн. Довмонта в Прологи сразу после его смерти заставляет скорректировать т. зр. В. И. Охотниковой, которая полагает, что этот проложный текст является обработкой Жития Довмонта (называемого ею Повестью), близкого к редакции Псковской I летописи (Охотникова. 2007. Т. 1. С. 407). Сопоставление ранних редакций Жития Довмонта с их источниками и между собой показывает, что составитель летописной версии имел перед собой Пролог, откуда взял в качестве источников не только Житие Довмонта, но и фрагмент Жития кн. Владимира, добавив к ним фрагменты Жития Александра Невского.
Кроме Жития Довмонта еще 3 агиографических памятника, связанные с почитанием князей, получили широкое распространение как в составе летописей, так и во внелетописной традиции: Жития кн. Михаила Черниговского и его боярина Феодора, Житие Александра Невского и Житие Михаила Ярославича Тверского. Обращение к княжеским житиям в данном случае наиболее правомерно, поскольку князья — главные действующие лица на страницах летописей. История текста Житий Михаила Черниговского и Довмонта началась с Пролога, а Жития Михаила Ярославича Тверского — с Пространной нелетописной редакции, как это было установлено В. А. Кучкиным (см.: Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Ист.-текстол. исследование. М., 1974), попытки оспорить эту т. зр. оказались крайне неубедительными. Ранняя история текста Жития Александра Невского окончательно не прояснена, однако существование посвященного ему долетописного агиографического памятника представляется достаточно обоснованным. Хотя наиболее ранний список Жития Александра Невского дошел в составе Лаврентьевской летописи, создание первоначального текста Жития исследователи связывают с кругом книжников, близких к митр. Кириллу, возможно с мон-рем Рождества Пресв. Богородицы во Владимире (см.: Охотникова В. И. Повесть о Житии Александра Невского // СККДР. Вып. 1. С. 354-363).
Летописный и агиографический тексты могут быть источниками друг друга, но, как правило, для включения в летопись перерабатывался текст, уже бытовавший в рукописной традиции.
Если в начальный период развитие Ж. л. связано с Киевом и по преимуществу с Киево-Печерским мон-рем, то уже в XII в. начали формироваться местные агиографические традиции. Житие свт. Леонтия Ростовского — первое в ростовской агиографической традиции. Оно отразилось в возникших неск. позже Житии свт. Исаии Ростовского, бывшего епископом после Леонтия (датируется разными исследователями XIII или XV в.), и в Житии прп. Авраамия Ростовского, основателя Богоявленского мон-ря (датируется XV в.). Возможно, в XIII в. было написано Житие свт. Игнатия, еп. Ростовского (древнейший список — XIV в.). К кон. XV — нач. XVI в. относится создание Жития ростовского юродивого блж. Исидора Твердислова.
Смоленская Ж. л. в домонг. период представлена Похвалой блгв. кн. Ростиславу (Михаилу) Мстиславичу, читающейся в единственном списке — т. н. Нифонтовом сборнике 30-40-х гг. XVI в. Похвала, написанная, по мнению исследователей (Т. А. Сумникова, Я. Н. Щапов), вскоре после смерти Ростислава в 1167 г. и посвященная единственному факту из биографии князя — устроению Успенской ц. в Смоленске и учреждению там епископии, не создала предпосылок для возникновения полноценного жития. Первый такого рода житийный памятник появился на Смоленской земле, видимо, вскоре после монголо-татар. нашествия. Это было выдающееся по своим лит. характеристикам Житие прп. Авраамия Смоленского, среди источников к-рого можно назвать как визант. (прп. Саввы Освященного, свт. Иоанна Златоуста), так и рус. жития (прп. Феодосия Печерского, князей-страстотерпцев Бориса и Глеба). С эпохой монголо-татар. нашествия связано и Слово о Меркурии Смоленском, в основу которого легла возникшая в это время местная смоленская легенда, а письменный текст датируется не ранее 2-й пол. XV — нач. XVI в.
Первым полоцким агиографическим памятником было скорее всего Житие прп. Евфросинии Полоцкой, внучки полоцкого кн. Всеслава Брячиславича. По мнению архиеп. Филарета (Гумилевского), А. И. Соболевского и Е. Е. Голубинского, Житие было создано еще в домонгольский период, однако оно представлено списками не ранее кон. XV в. (более 130 списков, передающих не менее 4 редакций).
Весьма многочисленна и разнообразна группа новгородских житий. Кроме вышеупомянутого Жития свт. Аркадия Новгородского к ней следует отнести еще целый ряд святительских житий, созданных или отредактированных Пахомием Логофетом (Жития архиепископов Моисея, Иоанна, Евфимия II и Ионы) и мон. Василием (Варлаамом) (Жития епископов Нифонта и Никиты), и Житие архиеп. Серапиона. Житие Иоанна Новгородского в основной редакции, одно из наиболее ярких и интересных в лит. отношении в первую очередь за счет использования фольклорных источников (напр., легенды о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим), начало свою лит. историю с Пролога. 2 ранние редакции Жития, восходящие к одному протографу, читаются в Прологах (см. подробнее: Дмитриев Л. А. Житие Иоанна Новгородского // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 514-517). Не приходится сомневаться, что в составе Пролога находился и протограф, к-рый, учитывая датировку списков ранних редакций Жития, можно датировать не позже 70-х гг. XV в.
В новгородской Ж. л. помимо святительских были представлены жития преподобных и юродивых. Наиболее ранним из них было уже упоминавшееся Житие Варлаама Хутынского. Кроме него к собственно новгородской агиографической традиции следует отнести чрезвычайно интересные, насыщенные легендарными мотивами Житие прп. Михаила Клопского (возникшее во 2-й пол. XV в.) и Житие прп. Антония Римлянина (представленное списками кон. XVI-XVIII в.). Вопрос о Житии юродивого блж. Николая Кочанова является дискуссионным. Несмотря на сложившуюся научную традицию классифицировать записи о юродивом как краткое Житие (архиеп. Филарет (Гумилевский), Н. П. Барсуков), Л. В. Соколова, отрицая факт существования Жития Николая Кочанова, определяет посвященные ему тексты как Чудеса, «краткую запись о святом» и Похвальное слово (Соколова Л. В. Житие Николы Кочанова // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 511-512), отмечая при этом, что Чудеса могли быть записаны в XV или XVI в.
Новгородскую Ж. л. отличает особое пристрастие к фольклорным источникам. Причем следует отметить, что это не зависит ни от типа жития (житие святителя, житие преподобного или, как Житие прп. Михаила Клопского, произведение, соединяющее в себе черты житий преподобного и юродивого), ни от времени, отделяющего кончину святого от создания жития. Так, использование фольклорных источников в Житиях свт. Иоанна Новгородского († 1186; Житие датируется XV в.) и прп. Антония Римлянина († 1147; Житие было написано не ранее 30-х гг. XVI в.) можно было бы объяснить большим временным интервалом между кончиной святых и началом их прославления и в силу этого утратой документальных источников, однако с момента кончины прп. Михаила Клопского (в кон. 50-х гг. XV в. или в 1471) до создания его Жития прошло менее полувека (Дмитриев датирует первоначальный текст Жития 1478-1479; ср.: Турилов А. А. К биографии и генеалогии Михаила Клопского // Средневековая Русь. М., 2006. Вып. 6. С. 178-209), а 1-я редакция представляет собой подборку устных рассказов о святом легендарного характера (подробнее см.: Дмитриев. 1973. С. 185-198).
Большинством исследователей используется понятие «севернорусская агиография», под которым подразумеваются жития святых, подвизавшихся в разное время на территории Новгородской епархии: Жития преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (и др. соловецких подвижников), прп. Антония Сийского, преподобных Сергия и Германа Валаамских, прп. Александра Свирского, прп. Александра Ошевенского и др.
Долгое время первым памятником тверской Ж. л. считалось Житие блгв. вел. кн. Михаила Ярославича Тверского (20-е гг. XIV в., согласно датировке Кучкина). В первоначальной редакции (Пространная нелетописная редакция) этот памятник называется «Убиение… князя Михаила Ярославича», что явно ориентирует текст на традицию мученичеств. Не случайно центральной в этом произведении является сцена гибели князя (ср. Житие блгв. кн. Михаила Черниговского). В 1972 г. Л. В. Тигановой было введено в научный оборот Житие Софии Ярославны Тверской (РГБ. Рогож. № 658), датированное ею 2-й пол. XV в., но после обнаружения 2-го списка (РГБ. Чув. № 14) Кучкин отнес его составление к 1305-1306 гг. В составе различных летописных сводов XV-XVI вв. сохранились Повести о тверском кн. Михаиле Александровиче, в т. ч. и тексты, охарактеризованные Я. С. Лурье как «торжественно-агиографические» (в составе Рогожского летописца и Симеоновской летописи — Лурье Я. С. Житие Михаила Александровича // СККДР. 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 299), и названные Е. Л. Конявской Житием (в составе Никоновской летописи — Конявская. 2007. С. 153), однако Михаил Александрович Тверской не был официально канонизирован, а летописная традиция почитания не вылилась в агиографическую. Тема княжеской власти была продолжена и развита в «Слове похвальном благоверному и великому князю Борису Александровичу» инока Фомы, однако этот текст, датируемый сер. XV в., сохранился в единственном списке (Архив СПбИИ РАН. Колл. Н. П. Лихачева. № 689, 2-я пол. XVI в.), почитания кн. Бориса Александровича не сложилось. Чрезвычайно популярным стало созданное в кон. XV в. (вероятно, после открытия мощей в 1483) Житие свт. Арсения, еп. Тверского.
В связи с житиями Тверских святых следует упомянуть о таком явлении, как монографические агиографические сборники (т. е. сборники, состоящие из произведений, посвященных одному святому): в XVII в. формируются сборники, в которые входят служба блгв. кн. Михаилу Ярославичу Тверскому, его Житие, Сказание об обретении мощей, Похвала блгв. князю и Слово о перенесении мощей. В это же время создаются аналогичные сборники, посвященные супруге Михаила, блгв. кнг. Анне Кашинской. В Твери сложились сборники и неск. иного характера: в одном переплете объединялись службы святым и Жития блгв. кн. Михаила и свт. Арсения Тверских. Монографический агиографический сборник — обычное явление для XVII в. (см., напр., подобные сборники, посвященные прп. Кириллу Новоезерскому, подробно изученные Т. Б. Карбасовой). Аналогичные явления наблюдаются и в рамках др. территориальных агиографических традиций (о муромских сборниках см.: Житие Юлиании Лазаревской. 1996. С. 78-85; о сборниках, посвященных преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, см.: Минеева. 2001).
Вопрос о существовании раннего Жития прп. Ефрема Новоторжского, брата прп. Моисея Угрина и св. страстотерпца Георгия Угрина, остается открытым. Согласно легенде, оно существовало в новоторжском во имя святых мучеников Бориса и Глеба мужском монастыре, было увезено оттуда блгв. кн. Михаилом Ярославичем Тверским и погибло в пожаре в Твери. Ни Киево-Печерский патерик, в составе к-рого читается Слово о прп. Моисее Угрине, ни житийные памятники, посвященные Борису и Глебу, не сообщают о прп. Ефреме Новоторжском. Дошедшее до нас Житие скорее всего было написано в связи с обретением 11 июня 1572 г. мощей этого святого. Житие прп. Ефрема Новоторжского относили то к новгородской, то к тверской Ж. л. Такое же пограничное положение занимает и Житие прп. Нила Столобенского, отнесение к-рого к тверской или новгородской агиографической традиции зависит, как правило, от личных пристрастий исследователя.
В связи с тверской Ж. л. можно было бы упомянуть и Надгробное слово свт. Акакию, еп. Тверскому, иногда фигурирующее в научной лит-ре как Житие свт. Акакия Тверского (Барсуков), однако этот текст связан скорее с иной лит. традицией. Его создателем является архим. Возмицкого мон-ря Вассиан Кошка († 1568), перу к-рого принадлежит (или ему приписывается) неск. разножанровых произведений (подробнее см.: Дмитриева Р. П. Вассиан по прозвищу Кошка // СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 119-120), среди к-рых — 2 агиографических: Житие преподобных Кассиана Босого и его ученика прп. Фотия, подвижников Иосифова Волоколамского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря. Т. о., эти тексты возможно рассматривать в одной группе с Иосифо-Волоколамским патериком, Житиями преподобных Пафнутия Боровского и Иосифа Волоцкого (см. подробнее: Ольшевская Л. А. История создания Волоколамского патерика, описание его редакций и списков // Древнерус. патерики. 1999. С. 316-350).
Весьма интересной представляется вологодская агиографическая традиция. И не только в силу многочисленности житий святых, подвизавшихся на Вологодской земле, но и благодаря тому, что важнейшие из этих житий обладают удивительной текстуальной связанностью. Определение круга житий вологодских святых сложилось в науке достаточно давно (И. Верюжский, Н. Коноплёв), хотя представляется условным в значительно большей степени, чем выделение др. региональных житийных традиций. Епископская кафедра была перенесена в Вологду в 1589 г. (до этого епархия существовала как Пермская с кафедрой в Усть-Выми, в 1492 переименована в Вологодскую, но центр ее остался там же; см.: ПЭ. Т. 9. С. 240). Первые вологодские жития, преподобнические по типу, посвященные прп. Димитрию Прилуцкому (2-я пол. XV в.) и прп. Дионисию Глушицкому (1495), в качестве образца используют Житие прп. Сергия Радонежского. Житие прп. Дионисия Глушицкого стало источником Жития прп. Амфилохия Глушицкого (его ученика) и Жития прп. Александра Куштского, к-рое в свою очередь явилось источником Жития, одновременно посвященного 2 святым — преподобным Александру Куштскому и Евфимию Сянжемскому (часть данного Жития, не зависящая от Жития прп. Александра Куштского, по наблюдениям Карбасовой, восходит к Житию прп. Кирилла Новоезерского). Жития преподобных Димитрия Прилуцкого и Дионисия Глушицкого послужили источниками Житий преподобных Григория Пельшемского и Корнилия Комельского. Хотя в Житии прп. Дионисия Глушицкого говорится и о прп. Павле Обнорском, Житие последнего возникло независимо от Жития прп. Дионисия Глушицкого, однако в свою очередь оказало влияние на Житие прп. Корнилия Комельского. Среди источников Жития прп. Корнилия было и Житие прп. Кирилла Белозерского, рассматриваемое нек-рыми исследователями в числе вологодских, а другими — вместе с Житиями преподобных Мартиниана и Ферапонта Белозерских и Кирилла Новоезерского выделенное в группу белозерских житий. Житие прп. Иоасафа Каменского, восходящее к невологодским житиям через посредство Жития прп. Евфросина Псковского, включило в себя большие фрагменты Жития прп. Дионисия Глушицкого.
В XIV-XVI вв. в Москве была создана группа святительских житий. Самым ранним из них было Житие свт. Петра, митр. Московского, канонизированного в К-поле в 1339 г. Первая редакция традиционно приписывается свт. Прохору, еп. Ростовскому (с чем не согласен Кучкин), 2-я принадлежит свт. Киприану (1381). Он существенно распространил текст 1-й редакции, придал Житию своеобразную тенденцию и внес в него автобиографический момент. Этот текст предназначался митр. Киприаном для большой службы свт. Петру в качестве чтения после 6-й песни канона. Впосл., при включении Жития в ВМЧ, киприановский текст был значительно расширен в результате обработки в духе макариевской агиографической школы. Свт. Киприана († 1406) начали почитать святым уже в XV в., но его проложное Житие написано, вероятно, к канонизационным Соборам 40-х гг. XVI в. Ему было посвящено и Надгробное слово, созданное митр. Григорием Цамблаком. К XV в. относится и Житие свт. Алексия, митр. Московского, хотя летописный рассказ о нем существовал уже в XIV в. Именно этот летописный рассказ был вставлен в службу, написанную сщмч. Питиримом, еп. Великопермским. Когда же свт. Ионой, митр. Московским, было установлено церковное празднование памяти свт. Алексия, Пахомий Логофет написал Сказание об обретении его мощей, а затем и Житие свт. Алексия. В свою очередь свт. Иона был прославлен в XVI в., в связи с его канонизацией на Соборе 1547 г. было составлено Похвальное слово (вошедшее в ВМЧ под 31 марта), чуть позже было написано Житие свт. Ионы для «Книги степенной царского родословия». В ней же было помещено и Житие свт. Фотия, митр. Московского. Кроме того, возникла традиция совместного почитания святителей. В XVII в. кн. С. И. Шаховским было написано Похвальное слово святителям Петру, Алексию и Ионе, а в печатном Прологе под 21 дек. помещено «Сказание от Жития Петра, Алексия и Ионы митрополитов, списано повелением патриарха Иова» (тройственное почитание Московских святителей, вероятно, возникло не без влияния почитания святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова). К Новому времени принадлежит список «Сказания о перенесении мощей митрополитов Феогноста, Киприана, Фотия, Ионы и Филиппа» (РГБ. Рум. № 160).
Несомненное влияние на рус. агиографические и литургические памятники XVI в. оказали написанные Григорием Цамблаком Жития вмч. Иоанна Нового Сучавского (Белградского) и св. кор. Стефана Дечанского и службы им.
С именем Епифания Премудрого связан особый период развития рус. агиографии: он не только написал чрезвычайно авторитетные для рус. книжности Житие прп. Стефана Пермского (1396-1398) и Житие прп. Сергия Радонежского (1417-1418), но и укоренил на Руси (если не создал) новый стиль, получивший в науке название эмоционально-экспрессивного или стиля «плетения словес». Последнее определение принадлежит самому Епифанию, к-рый в Житии прп. Стефана Пермского так охарактеризовал свою манеру письма: «…слово плетущи и слово плодя, и словом почтити мнящи, и от словес похваление сбирая, и приобретая, и приплетая» (Свт. Стефан Пермский. 1995. С. 250). В полной мере судить о творческой манере Епифания Премудрого мы можем лишь по тексту Жития прп. Стефана Пермского, епифаниевский текст Жития прп. Сергия Радонежского в целом не сохранился, но исследователи выделяют его в одной из 5 редакций, созданных др. представителем этого стилистического направления в агиографии — Пахомием Логофетом. Всего Пахомию принадлежит не менее 10 Житий (в данном случае речь идет не только о создании нового жития, но и о написании принципиально новой редакции, иногда не одной, уже известного в рукописной традиции жития): преподобных Варлаама Хутынского, Сергия Радонежского, Никона Радонежского, Кирилла Белозерского, Саввы Вишерского, свт. Алексия, митр. Московского, блгв. кн. Михаила Черниговского и его боярина Феодора, святителей Моисея и Евфимия II, архиеп. Новгородских (вероятно, также Иоанна и Ионы). Им написаны ряд похвальных слов и сказаний об обретении и перенесении мощей и 14 служб. Пахомия Логофета называют первым профессиональным писателем на Руси, имея в виду тот факт, что он получал вознаграждение за создаваемые им тексты. Работая в разных городах и мон-рях, он ориентировался на источники и устные традиции, к-рые существовали в том или ином месте. Тексты, созданные Пахомием Логофетом, получили широчайшее распространение, а сам он на протяжении долгого времени оставался одним из наиболее авторитетных писателей, произведения к-рого часто служили образцами для др. средневек. агиографов.
Пребывание прп. Феодора в Троице-Сергиевом мон-ре. Миниатюра из Лицевого жития прп. Сергия Радонежскогою XVI в. (РГБ. ф. 304/III. № 21. Л. 231 об.)
Пребывание прп. Феодора в Троице-Сергиевом мон-ре. Миниатюра из Лицевого жития прп. Сергия Радонежскогою XVI в. (РГБ. ф. 304/III. № 21. Л. 231 об.)
Его подражателю, псковскому агиографу XVI в. Василию (Варлааму), принадлежат Жития (и новые редакции Житий) прп. Евфросина Псковского, блгв. кн. Всеволода (Гавриила), прп. Саввы Крыпецкого (эти Жития, написанные до 1552, вошли в Успенский и Царский списки ВМЧ), святителей Нифонта и Никиты, епископов Новгородских, сщмч. Исидора Юрьевского. Кроме того, им написано 5 служб (по мнению В. П. Адриановой-Перетц, также и Похвальное слово прп. Алексию, человеку Божию (см.: Адрианова-Перетц. 1922)).
Следует отметить, что ряд преподобнических житий (в первую очередь жития основателей монастырей) имел функцию передачи монастырского устава, чаще в форме предсмертного наставления игумена братии, иногда в виде специального раздела жития, как, напр., в пахомиевском Житии прп. Кирилла Белозерского (начиная со слов: «Бяше же устав блаженаго Кириила…» — БЛДР. СПб., 1999. Т. 7. С. 156-162). Предания о св. игуменах рус. монастырей зафиксированы в «Отвещании любозазорным и сказании вкратце о святых отцех, бывших в монастырех, иже во Рустей земли сущих» прп. Иосифа Волоцкого (10-я гл. «Духовной грамоты», см.: Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С. 98-112).
Вероятно, в 10-х гг. XVI в. (во всяком случае не позднее 40-х гг. XVI в.) в Супрасльском мон-ре или по заказу его братии на Афоне было написано пространное проложное Житие со стихом, посвященное прмч. Антонию Супрасльскому, подвизавшемуся в нач. XVI в. на Афоне и замученному турками в Фессалонике.
Между посл. четв. XIV и посл. четв. XV в. на Русь попало неск. редакций стишного Пролога, переведенного южнослав. книжниками в XIV в. (подробнее см.: Турилов А. А. К истории Стишного пролога на Руси // ДРВМ. 2006. № 1(23). С. 70-75).
Формирование общерус. Собора святых в условиях складывания централизованного гос-ва в посл. трети XV — нач. XVI в. осложнялось отсутствием необходимых для богослужения проложных житий святых из иных регионов. Порой книжники находили неожиданный выход из ситуации. Так, в псковском (или новгородском, по мнению А. Г. Боброва) Прологе на март-авг. 1-й четв. XVI в. (Рим. Восточный папский институт. Слав. 5) содержится 13 неизвестных по др. рукописям версий Житий Новгородских архиепископов Иоанна I, Спиридона, Василия Калики, Иоанна II, Евфимия I и Евфимия II, митр. Петра, митр. Ионы, епископов Ростовских Леонтия и Игнатия, прп. Евфимия Суздальского, прп. Никиты, столпника Переяславского, благоверных Петра и Февронии Муромских, а также Сказания о перенесении мощей митр. Петра и митрополитов Киприана, Фотия и Ионы, создание к-рых относится ко времени между 1479 г. и 10-ми гг. XVI в. Эти Жития по существу лишены исторического значения, т. к. в большинстве случаев имена рус. святых сопровождались проложными текстами греч. святых (Турилов А. А. К ранней истории общерусского почитания Евфимия Суздальского // Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь в истории и культуре России. Владимир; Суздаль, 2003. С. 21-25; см. также: Евфимий II Вяжицкий, свт., архиеп. Новгородский), однако представляют несомненный интерес в культурно-историческом отношении. Для переводных житий были специально написаны стихи, в результате чего возникла новая, самостоятельная редакция стишного Пролога. Позднее прием приспособления уже существующих житийных текстов для агиобиографий новых святых получает широкое распространение в творчестве псковских книжников XVI в.
Важность такого сборника, как Минеи-Четьи, в истории Ж. л. невозможно переоценить. В составе домакариевских Миней-Четьих рус. жития появились достаточно поздно, преимущественно в XV-XVI вв., и их число было сравнительно невелико, хотя Минеи-Четьи существовали в нашей письменности еще в домонг. период. Тем не менее в домакариевских Минеях-Четьих встречаются, в частности, Жития блгв. кн. Михаила Черниговского и его боярина Феодора (20 сент.), прп. Сергия Радонежского (25 сент.), мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (14 апр.), преподобных Зосимы (17 апр.) и Савватия Соловецких (8 авг., 27 сент.), свт. Стефана Пермского (26 апр.), прп. Дионисия Глушицкого (1 июня), прп. Кирилла Белозерского (9 июня).
Между сер. и 90-ми гг. XVI в. возникла (возможно, в связи с автокефалией Русской Церкви) «Минея новым чудотворцам» (старший список — Соловецкий, 1490), содержащая жития святых и службы по преимуществу рус. святым. Позднее под этим названием стал известен аналогичный сборник, возникший в связи с макариевскими Соборами 40-х гг. XVI в.
В кон. XV — нач. XVI в. прп. Нилом Сорским было составлено 3 тематических сборника, включающие отредактированные жития из домакариевских Миней-Четьих, посвященные греч. святым — основоположникам разных традиций монашества. Эти сборники стали явлением переводной Ж. л. (Леннгрен Т. П. Соборник Нила Сорского. М., 2000, 2002, 2004. Ч. 1-3).
Успенский список Великих Миней-Четьих свт. Макария. Март (ГИМ. Син. № 992 (II-789). Л. 7)
Успенский список Великих Миней-Четьих свт. Макария. Март (ГИМ. Син. № 992 (II-789). Л. 7)
Значительно увеличилось число оригинальных рус. житий в составе Великих Миней-Четьих (ВМЧ). Процесс создания ВМЧ занял ок. 25 лет. Было сформировано 3 полных беловых комплекта, получившие название по месту их первоначального хранения. Софийский комплект (1529/30-1541) был создан при Новгородском архиепископском доме в бытность свт. Макария (впосл. митрополит Московский) Новгородским архиепископом. 8 сохранившихся томов (утрачены Минеи на дек., янв., март и апр.) в наст. время хранятся в Софийском собрании РНБ (7 томов — № 1317-1323; Абрамович. Софийская б-ка. 1907. Вып. 2. С. 1-154) и в РГАДА (1 том — Ф. 201. № 161). Успенский комплект, вложенный в 1552 г. в московский Успенский собор, сохранился полностью и сейчас находится в Синодальном собрании ГИМ (№ 986-997). Там же хранится и 10 томов Царского списка ВМЧ (№ 174-183), предназначавшегося для царя Иоанна IV Васильевича и законченного в 1554 г. (описание см.: Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания, не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева. М., 1970. Ч. 1. С. 170-208). В основу ВМЧ были положены домакариевские Минеи-Четьи, Торжественники, Прологи (стишной и 2-й редакции). Они были серьезно дополнены, в т. ч. и в агиографической части. Причем пополнение агиографической части ВМЧ происходило на протяжении всего периода работы над сводом. Успенский и Царский комплекты ВМЧ превышают по количеству включенных в них житий Софийский комплект почти вдвое. Импульс к развитию Ж. л. дали Соборы 1547 и 1549 гг., на к-рых было установлено общерус. почитание 30 и местное почитание 9 святых, хотя жития нек-рых из них были составлены задолго до канонизации (напр., Житие прп. Дионисия Глушицкого, канонизированного на Соборе 1547 г., было написано в 1495).
Отбор житий в состав ВМЧ происходил отнюдь не механически. Любимыми авторами свт. Макария были Пахомий Логофет и псковский агиограф Василий (Варлаам), их произведения включались в ВМЧ в большом количестве и без к.-л. изменений. Жития, к-рые не во всем соответствовали агиографическому канону и эстетическим представлениям того времени, подвергались стилистической правке, порой неоднократно.
Иногда специально заказанные для ВМЧ жития отвергались свт. Макарием. Так случилось с написанным по его заказу Ермолаем (Еразмом) Житием благоверных Петра и Февронии Муромских, канонизированных Собором 1547 г. Основанное на фольклорных материалах, развивающееся в соответствии с сюжетными схемами волшебной змееборческой сказки и новеллистической сказки о мудрой девице, оно совершенно не вписывалось в рамки макариевской школы. Авторы житий стремились подражать Пахомию Логофету, а чаще делали прямые заимствования из его сочинений. Однако применение эмоционального стиля в кон. XV-XVI в. в отличие от выработанного стиля кон. XIV — нач. XV в. сильно формализовано, лит. этикет крайне усложнен. Созданный в XVI в. стиль «второго монументализма» был «искусственно напыщенным, наполненным риторическими формулами и эклектичен» (Дмитриева. 1993. С. 213).
Минейный Торжественник (списки к-рого в рус. письменности встречаются с 3-й четв. XIV в.) по сравнению с Минеями-Четьими включает жития на избранные дни церковного года, однако при этом сам сборник не является результатом сокращения Миней-Четьих. В разных редакциях минейного Торжественника читается более 70 русских агиографических памятников (подробнее см.: Черторицкая Т. В. Торжественник и «Златоуст» в рус. письменности XIV-XVII вв. // Метод. рекомендации по описанию слав.-рус. книг. М., 1990. Вып. 3. Ч. 2. С. 375-381). В минейный Торжественник входит неск. житий (напр., Житие Софии Ярославны Тверской, «второе» Житие Амфилохия Глушицкого), к-рые за пределами этого сборника неизвестны.
Агиографическое творчество в период после митр. Макария и до наступления Смуты (сер. 60-х гг. XVI в.- нач. 1600-х гг.) носит по преимуществу окказиональный характер, отличаясь от предшествующей эпохи существенно меньшей активностью. Крупнейшим агиографическим памятником эпохи (во многом еще связанным с предшествующей) является «Книга степенная царского родословия» (1555-1563), представляющая совмещение в едином своде летописного и агиографического принципов, замысел к-рой принято связывать с митр. Макарием, а его осуществление — с митр. Афанасием. Для включения в нее был создан ряд новых редакций рус. житийных текстов.
На кон. 50-х — нач. 70-х гг. XVI в. пришлась лит. деятельность Григория, инока Евфимиева суздальского в честь Преображения Господня мужского монастыря, творения к-рого гл. обр. посвящены суздальским подвижникам.
Среди житий 2-й пол. XVI в. преобладают жития основателей монастырей. Ок. 1575 г. было создано Житие прп. Александра Куштского с 22 посмертными чудесами, во 2-й пол. 70-х гг. XVI в.- 2 редакции Жития прп. Антония Сийского (мон. Ионой и царевичем Иоанном Иоанновичем), в 1584 г.- Житие прп. Сергия Нуромского (тем же Ионой). 1584-1587 гг. датируется написание Жития прп. Геннадия Костромского и Любимоградского, не позднее 1586 г.- Жития прп. Герасима Болдинского, рубежом 80 и 90-х гг. XVI в.- Жития прп. Варлаама Важского (автор — сийский мон. Иона), концом столетия — Житий преподобных Нила Столобенского и Пахомия Нерехтского. Сочинения, посвященные иным ликам святости, в это время немногочисленны. В 80-х гг. XVI в. были написаны Похвальное слово блж. Василию, Христа ради юродивому и Житие ему, в 1591 г. Вологодский архиеп. Иона (Думин) создал новую редакцию Жития Александра Невского, в 1596 или 1597 г. свт. Ермоген (впосл. патриарх) — Жития святителей Гурия и Варсонофия Казанских (Ключевский. Древнерусские жития. С. 298-320). От этого времени дошли также пространные летописи чудотворений прп. Иакова Боровичского (ГИМ. Син. № 447. Л. 356 об.- 375, 169 чудес 1561-1582 гг.) и прп. Евфросинии Суздальской («новые чудеса» 80-х гг. XVI в. в составе Чудовских Миней-Четьих). Конец периода ознаменован созданием свт. Иовом, патриархом Московским и всея Руси, в стиле «второго монументализма» «Повести о честнем житии царя и великого князя Феодора Иоанновича» (ПСРЛ. Т. 14. С. 1-22), посвященной не только прославлению христ. добродетелей царя Феодора Иоанновича, но и идеализации его шурина Бориса Феодоровича Годунова, драматичные события правления к-рого или умалчиваются (гибель царевича Димитрия) или подаются в выгодном для нового царя свете (учреждение Патриаршества).
С. А. Семячко
2. XVII в.
В этот период Ж. л. во многом продолжила традиции, заложенные в предыдущие века, но на ее развитие повлияли такие исторические события, как Смутное время, раскол, а также явления в культурной сфере — книгопечатание, увеличение числа переводов и тесные лит. контакты с Украиной. В силу особенностей развития рус. исторической науки и литературоведения и в связи со значительным количеством и объемом сохранившихся до нашего времени памятников Ж. л. XVII в. изучена в меньшей степени, чем агиография предшествующего периода. Внимание исследователей привлекало в первую очередь творчество отдельных писателей, а также те памятники, к-рые представляют интерес для истории лит-ры, зачастую отступающие от житийного канона, содержащие больше элементов биографии, чем жития. Вне поля зрения долгое время оставались мн. тексты, значимые с т. зр. церковной истории (жития местночтимых святых, сказания о явлении чудотворных икон, описания чудес).
С одной стороны, в пожарах Смутного времени погибли мн. памятники Ж. л., существовавшие в единственном списке при церквах и мон-рях. С другой — подъем национального самосознания вызвал создание многочисленных новых произведений: житий, сказаний и повестей. Кроме того, следует указать, что в рукописной традиции XVII в., а в нек-рых случаях только в списках этого времени сохранились мн. более ранние памятники агиографии.
Особую группу созданных в этом столетии житий составляют произведения, связанные с эпохой Смутного времени, в которых получили отражение события кон. XVI — 1-го десятилетия XVII в. В начале столетия в Москве была написана первоначальная редакция Жития св. царевича Димитрия Иоанновича, канонизированного в 1606 г. Ряд памятников агиографии был посвящен мученикам и подвижникам Смутного времени: Житие сщмч. Феодосия, архиеп. Астраханского, мужественно противостоявшего Лжедмитрию I, Житие прмч. Галактиона Вологодского, погибшего в 1612 г., Житие игум. Троице-Сергиева монастыря прп. Дионисия (Зобниновского), составленное Симоном (Азарьиным). Инок Синозерской Троицкой обители Иона (Суровцын) в 1650 г. написал Житие основателя пустыни прп. Евфросина, убитого в 1612 г. интервентами, инок Александр составил Житие прп. Иринарха Затворника, мон. Борисоглебского на Устье монастыря, благословлявшего русских воинов на борьбу с интервентами.
Тенденция к усилению историчности текстов приводит к созданию в кон. XVII в. сочинений агиографического характера, посвященных не канонизированным святым, а выдающимся церковным и общественным деятелям. Так, после событий Смуты была создана Повесть о Михаиле Васильевиче Шуйском, представляющая собой по существу Житие князя-воеводы. В 1681-1686 гг., вскоре после кончины патриарха Никона, его ученик Иоанн Шушерин написал подробное Житие своего учителя и покровителя. К кон. XVII в. относятся Жития патриарха Иоакима и боярина Ф. И. Ртищева, стихотворная эпитафия Корнилию, митр. Новгородскому. Особенностью Ж. л. кон. XVI-XVII в. стало создание в ее рамках автобиографических записок (Крушельницкая. 1996). Ярким примером является автобиографическая записка прп. Елеазара анзерского, в к-рой святой рассказывает об основании им скита и о пережитых при этом трудностях. Автобиографический характер имеют написанные старообрядческими первоучителями Аввакумом Петровым и Епифанием собственные Жития. Однако жизнеописания такого типа не создали традицию в Ж. л., как в православной, так и в старообрядческой.
«Книга житий святых» свт. Димитрия Ростовского. К., 1700. Т. 3. Л. 1 (РГБ)
«Книга житий святых» свт. Димитрия Ростовского. К., 1700. Т. 3. Л. 1 (РГБ)
В XVII в. продолжилось составление новых редакций агиографических сводов — Чудовских (Годуновских) Миней-Четьих (1600), Миней-Четьих иером. Троице-Сергиева мон-ря Германа (Тулупова) (1627-1632) и Миней-Четьих Иоанна Милютина (1646-1654). Чудовские Минеи-Четьи изначально состояли из 13 книг (книга на дек. утрачена), хранятся в Чудовском собрании ГИМ (№ 307-317), том на 1-ю пол. нояб.- в РГБ. В состав Чудовских Миней вошли 45 житий рус. святых, ряд похвальных слов, сказаний об обретении и о перенесении мощей, Киево-Печерский патерик Кассиановской редакции (см.: Протасьева Т. Н. Описание рукописей Чудовского собр. Новосиб., 1980. С. 177-186).
Тулуповские Минеи-Четьи создавались в Троице-Сергиевом мон-ре и в наст. время хранятся в РГБ (Троиц. № 665, 668, 671-677, 679, 681, 695). В отличие от ВМЧ и Милютинских Миней, «ориентированных на полноту собрания минейных чтений», Минеи-Четьи иером. Германа представляют собой выборку «основных для каждого месяца Житий и Слов» (Понырко Н. В. Герман // СККДР. Вып. 3. Ч. 1. С. 198). На вопрос о редактировании житий при включении в эти Минеи нет единого ответа. Иногда представление о существовании специфических Тулуповских редакций того или иного житийного памятника возникало в результате недостаточной изученности его рукописной традиции. Так, напр., В. О. Ключевский говорил о некоем одном тексте Жития Михаила Ярославича Тверского в составе Тулуповских Миней (Ключевский. Древнерусские жития. С. 170. Примеч. 1), впосл. же Кучкин продемонстрировал наличие в этих Минеях 2 самостоятельных редакций Жития, Пространной и редакции ВМЧ, известных в рукописной традиции задолго до Тулуповских Миней (Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974. С. 43, 47). Текстологическое исследование Жития свт. Филиппа, митр. Московского, известного в т. ч. и в переписанном Германом (Тулуповым) агиографическом сборнике РГБ. Троиц. № 694, показало, что подобная редакция текста существовала в рукописях до Германа (Лобакова. 2006. С. 5. Примеч. 8). В то же время Житие прп. Александра Куштского представлено в Тулуповских Минеях особой редакцией (Семячко С. А. Житие Александра Куштского // Святые подвижники и обители Рус. Севера. 2005. С. 243-244). Редакторскую работу Германа (Тулупова) над текстом Жития прп. Варлаама Хутынского Л. А. Дмитриев охарактеризовал как «выборку отдельных эпизодов из полного состава Распространенной редакции Жития» (Дмитриев. 1973. С. 89).
И. Милютин, также связанный с Троице-Сергиевым мон-рем (Понырко Н. В. Иоанн Иванов Милютин // СККДР. Вып. 3. Ч. 2. С. 65-69), работу над составлением Миней-Четьих (вместе с 3 сыновьями) начал уже по выходе из мон-ря. Тулуповские Минеи были одним из его источников. Кроме того, он обращался к ВМЧ, печатному Прологу 1643 г., Степенной книге и др. В конце Минеи на каждый месяц (наст. место хранения — ГИМ. Син. № 797-808) Милютин помещал послесловие (опубл.: Там же. С. 67-68), к-рое в той части, где декларированы принципы работы редактора (с начала текста и до слов «и тако спастися»), списано с предисловия к Соборнику Нила Сорского (опубл.: Нил Сорский, Иннокентий Комельский. Сочинения / Изд. подгот.: Г. М. Прохоров. СПб., 2005. С. 254, 256). Иногда он включал несколько агиографических (а иногда и литургических) произведений, посвященных одному святому, взятых из разных источников. Так, под 23 дек. читаются служба свт. Филиппу, т. н. Тулуповская редакция Жития свт. Филиппа, и некая особая редакция, известная только в списке Милютинской Минеи, правда, по мнению И. А. Лобаковой, созданная раньше и лишь переписанная при составлении Минеи (Лобакова. 2006. С. 121-131).
Совершенно особое место занимают Минеи-Четьи свт. Димитрия Ростовского, названные им «Книга житий святых» (1684-1705). При ее создании свт. Димитрий ориентировался не только на традицию Миней-Четьих, но и на изданные болландистами Acta Sanctorum. Помещая ту или иную статью в «Книгу житий…», свт. Димитрий часто указывал источник, из которого извлечены материалы. В XVIII-XIX вв. Минеи-Четьи составлялись, как правило, «путем дополнения новыми материалами» Миней-Четьих свт. Димитрия Ростовского.
В связи с формированием сборников устойчивого состава рус. агиографическая традиция в XVII в. получила еще один мощный толчок к развитию в процессе создания и редактирования печатного Пролога (с 1643). В большинстве случаев для включения в печатный Пролог создавались новые редакции житий, к-рые после издания попали и в рукописную традицию.
Рус. жития, в первую очередь те, которые вошли в состав Киево-Печерского патерика и Пролога, были своеобразно осмыслены в созданном в 1-й пол. XVII в. Слове «О житии отеческих, от Пролога и от Патерика печерскаго, и от Патерика скитскаго, стихове коегождо святаго удобь житие разумееши, како пожиша», вошедшем в своей ранней редакции в «Цветник священноинока Дорофея», а в более поздней — в сб. «Старчество» келаря Кириллова Белозерского монастыря Матфея (Никифорова) и в сб. «Крины сельные» (подробнее см.: Семячко С. А. К истории сборников XVII в.: Старчество, Цветник священноинока Дорофея, Крины сельные // ТОДРЛ. 2003. Т. 53. С. 216-247; Она же. Сборник «Старчество» в Кирилло-Белозерском мон-ре // КЦДР: Кирилло-Белозерский мон-рь. 2008. С. 211-296). В составе «Цветника священноинока Дорофея» в течение посл. четв. XVIII в. оно было издано 11 раз (см.: Вознесенский А. В. Старообрядческие издания XVIII — нач. XIX в.: Введ. в изучение. СПб., 1996. С. 148-151).
Переписывалась и редактировалась созданная в сер. XVI в. и включавшая множество житий Степенная книга, в 1678 г. Тихоном Макариевским был написан первоначальный вариант особой редакции Степенной — т. н. Латухинской (Сиренов А. В. Степенная книга: История текста. М., 2007. С. 315, 345).
Вехой в развитии Ж. л. XVII в. стали издательские проекты Московского Печатного двора. В их числе следует назвать прежде всего 8 изданий Пролога: 1-е, только на сентябрьскую половину года, вышло в 1641 г., 2-е — в 1642-1643 гг., 3-е — в 1659-1660 гг., 4-е — в 1661-1662 гг., 5-е — в 1675-1677 гг., 6-е — в 1685 г., 7-е — в 1689 г., 8-е — в 1696 г. Первые 5 изданий отличались друг от друга по составу, 5-е было наиболее полным, его состав повторяли последующие издания (Круминг А. А. Редакции слав. печатного Пролога: Предв. заметки) // Славяноведение. 1998. № 2. С. 46-60) и Святцы с «летописью», содержащие краткие биографические справки о мн. рус. святых (М., 1646). В 1646 г. впервые были напечатаны отдельные издания рус. агиографических памятников: Жития преподобных Сергия и Никона Радонежских (в редакции Симона (Азарьина)), Житие прп. Саввы Сторожевского и служба ему. Офиц. издания Святцев и Пролога по существу не только содержали свод сведений о святых, но и сообщали читателям, какие именно рус. святые почитаются всей Церковью. Значительная часть проложных житий, бытующих в рукописной традиции XVII-XIX вв., восходит к печатным изданиям.
Вряд ли простым совпадением являются выпуск в свет сразу нескольких изданий, включающих житийные памятники, и то, что во 2-й трети XVII в. наблюдается возникновение мн. новых памятников, посвященных местным святыням. Вероятно, одним из толчков к созданию таких сводов стала инициатива «сверху»: в послесловии к 1-й ч. печатного Трефологиона 1638 г. упоминается о рассылке по мон-рям царской грамоты с распоряжением присылать в Москву сведения о местных святых для последующего их включения в печатные книги. Известно, что в той или иной мере созданию и распространению Ж. л. способствовали патриархи Филарет, Иосиф, Никон, Адриан. Всячески поддерживали создание житий и сказаний о святынях епархиальные архиереи: в их числе — Маркелл, архиеп. Вологодский, Иона (Баранов), архиеп. Вятский, Макарий, Киприан и Корнилий, митрополиты Новгородские и Великолуцкие, Лаврентий, митр. Казанский, Иона (Сысоевич), митр. Ростовский, Серапион, архиеп. Суздальский и Тарусский, в нач. XVIII в.- Варнава, архиеп. Холмогорский и Важский. В создании житийных памятников участвовали архиереи (Александр, еп. Вятский и Великопермский, Симеон, архиеп. Сибирский и Тобольский, и Игнатий (Римский-Корсаков), митр. Сибирский и Тобольский), а также игумены мон-рей, напр. Викентий, архим. Троице-Сергиева мон-ря, Иосиф, архим. Троицкого Данилова мон-ря, и Феодосий, игум. Антониева Сийского мон-ря. В этих благоприятных условиях возникали региональные Соборы святых и своды агиографических памятников — примером может служить созданный к кон. XVII в. на основе произведений кон. XV-XVII в. Соловецкий патерик, сохранившийся во множестве списков.
В целом XVII век — эпоха расцвета региональной агиографии. В XVII — нач. XVIII в. были созданы жития мн. основателей мон-рей Сев. и Центр. России, живших в XV-XVII вв.: Жития преподобных Адриана и Ферапонта Монзенских, Антония Леохновского, Варнавы Ветлужского, Диодора (Дамиана) Юрьегорского, Илариона Суздальского, Иннокентия Комельского, Иова Ущельского, Иродиона Илоезерского, Кассиана Угличского, Корнилия Палеостровского, Мартирия Зеленецкого, Никандра Псковского, Никодима Кожеезерского, Паисия Галичского, Серапиона Кожеезерского, Сильвестра Обнорского, Симона Воломского, Трифона Вятского, Феодосия Тотемского, временами являющиеся более или менее искусными компиляциями, иногда подробными и литературно обработанными повествованиями, а в нек-рых случаях, по замечанию Ключевского, представляющие собой «необработанную записку без литературных притязаний» (Ключевский. Древнерусские жития. С. 341). Продолжали создаваться жития блгв. князей (особенно живших в XII-XIII вв.) Георгия Всеволодовича, Глеба Андреевича, Романа Угличского, кнг. Анны Кашинской; святителей XIII-XVI вв. Максима, Герасима, Питирима и Ионы Пермских, Германа Казанского, Иакова Ростовского, Феодора Ростовского; праведных мирян Артемия Веркольского, Афанасия Наволоцкого, Кирилла Вельского, в т. ч. «младенцев» Боголепа Черноярского, Иоанна Чеполосова и жен (прежде всего Житие Иулиании Лазаревской (20-е гг. XVII в.), содержащее элементы бытовой повести), Параскевы Пиринемской; юродивых Арсения Новгородского, Георгия Шенкурского, Иоанна Большой Колпак, Иоанна Самсоновича, Лаврентия Калужского, Прокопия Вятского, Симона Юрьевецкого.
Эпоху расцвета пережил в XVII в. жанр сказаний о чудесах святых, о жизни к-рых ничего известно не было, кроме явления мощей и последующих чудотворений. Так, зародившаяся сибирская агиография представлена Житиями праведных Василия Мангазейского и Симеона Верхотурского, основанными исключительно на фактах исцелений от мощей и на посмертных явлениях святых, в к-рых были открыты их имена и факты жизни. К тому же виду памятников относятся Жития преподобных Евфимия Архангелогородского, Елисея Сумского, старца нижегородского Печерского мон-ря Иоасафа, иерея Петра Черевковского (Ромодановская Е. К. «Святой из гробницы»: О нек-рых особенностях сибир. и севернорус. агиографии // Рус. агиография: Исслед., публ., полемика. СПб., 2005. С. 143-159), прав. Прокопия Устьянского и др. и Сказания о них. Иногда перечень чудес сопровождается краткими сведениями о деяниях и о времени преставления святого, как в случае с прп. Герасимом Вологодским и новгородскими братьями Алфановыми, иногда, как в случае с Вассианом и Ионой Пертоминскими, о жизни преподобного ничего не сообщается. Составленные через много лет после кончины святых жития содержали большое количество неточностей и ошибок, что при определенных обстоятельствах могло повлечь за собой отмену канонизации, как в случае с блгв. кнг. Анной Кашинской. Однако рассказы о чудесах, совершавшихся по молитвам к святым, зачастую являются ценным источником сведений о регионе и его населении.
Авторы мн. житий и редакций XVII в. известны по именам: как правило, это иноки или представители белого духовенства, хотя встречаются и исключения (подьячий Борис Козынин). Крупным агиографом XVII в. следует признать Сергия (Шелонина) († ок. 1663), представителя соловецкой лит. школы (см. Соловецкий в честь Преображения Господня мужской монастырь). Иером. Сергий составил сводный Алфавитный патерик (РНБ. Солов. № 652/703), тексты которого неоднократно редактировал, написал Похвальное слово русским святым, Сказание о преподобных Иоанне и Логгине Яренгских, особую редакцию Жития свт. Филиппа, митр. Московского.
Особенностью русской Ж. л. в XVII в. стало появление большого числа сказаний, посвященных чудотворениям от местночтимых икон, прежде всего Божией Матери (образов «Знамение», «Одигитрия», «Умиление», Рождества и Успения Пресв. Богородицы, многочисленных списков Владимирской, Казанской, Смоленской, Тихвинской икон, см.: Ebbinghaus A. Die altrussischen Marienikonen-Legenden. B.; Wiesbaden, 1990), а также Нерукотворного образа Спасителя, Св. Троицы и свт. Николая Чудотворца (Житие и чудеса св. Николая чудотворца, архиеп. Мирликийского, и слава его в России / Сост.: А. Вознесенский, Ф. Гусев. СПб., 1899. М., 1994р). Со сказаниями об иконах тесно связаны сказания об основании монастырей (напр., Игрицкого Песоченского (Песошенского), Нижнеломовского, Оранского, Смоленского на Бору, Страстного, Толгского, Черногорского, Усть-Шехонского), пустыней (Заоникиевой, Лукиановой, Семигородной, Соезерской, Усть-Недумской, Христофоровой). Сказания повествуют об установлении почитания Абалацкой и Казанской в Тобольске, Курской, Феодоровской икон Божией Матери. Во мн. произведениях рассказывается о событиях Смутного времени, как, напр., в Сказаниях об осаде Тихвинского мон-ря шведами в 1613 г., о приходе польско-литов. войск под Устюжну-Железнопольскую, о Новодевичьем мон-ре в Ярославле и о чудотворном образе Казанской Божией Матери, об иконе Бабаевской Божией Матери, в Чуде о Корсунской Торопецкой иконе Божией Матери; о спасении благодаря заступничеству Богоматери от эпидемии чумы сер. XVII в. (Сказания о Седмиезерной, Смоленской в Успенском соборе Ярославля, Югской, Шуйской иконах Божией Матери) или от осады (Сказания об иконе Божией Матери Тихвинской в Цивильске, Чудеса от иконы Божией Матери Изборской и от иконы Божией Матери Туровецкой). Сказания о явлении икон на месте, где впосл. была выстроена часовня или церковь или создана обитель, продолжали активно создаваться и в XVIII-XIX вв. Помимо оригинальных сказаний и повестей об иконах в посл. трети XVII в. в России широкое распространение получил переводной сборник легенд о чудесах Пресв. Богородицы «Звезда Пресветлая», последнюю, 15-ю гл. которого составили рус. легенды и сказания.
В XVII в., с эпохи свт. Петра (Могилы; 1633-1646), митр. Киевского, повышенное внимание уделялось агиографии в украинско-белорус. лит-ре, этот жанр переживал расцвет. Активизация развития Ж. л. в Западнорусской митрополии стала следствием усиления антиуниат. и антипротестант. полемики. В защиту Православия от обвинений в безблагодатности и еретичестве в 30-х гг. XVII в. был составлен ряд произведений на польск. языке: новая редакция Киево-Печерского патерика Сильвестра (Коссова), «Тератургима» Афанасия (Кальнофойского), в к-рой повествуется о чудесах от иконы Божией Матери и от мощей святых в Киево-Печерском мон-ре, «Сказание о чудесах» (Parergon cudów) от Купятицкой иконы Божией Матери Илариона (Денисовича) (1638). В сер. XVII в. появилась редакция Киево-Печерского патерика, принадлежащая перу архим. Иосифа (Тризны), в 1661 г. в Киеве вышло 1-е издание Патерика. В 1665 г. во Львове был издан свод кратких сказаний о чудесах Пресв. Богородицы и о Ее чудотворных иконах «Небо новое с новыми звездами» Иоанникия (Галятовского). В 1670-1700 гг. неск. раз издавалось Житие равноап. кн. Владимира, «выбранное из Летописца русского». В 1677 г. в Киеве была издана Служба Казанской Божией Матери. К кон. XVII в. были созданы повести о находившихся в Киеве мощах вмц. Варвары и о прав. кнж. Иулиании Ольшанской. В Белоруссии и на Украине имели хождение рукописные сборники переводов житий с лат. и польск. языков на «просту мову». Систематизация восточнослав. Ж. л. в печатном издании была осуществлена Черниговским архиеп. Лазарем (Барановичем), издавшим в Киеве в 1670 г. на польск. языке «Żywoty świętych», где сведения о святых излагались в т. ч. и виршами. Это издание стало предшественником Миней-Четьих свт. Димитрия Ростовского, работа над к-рыми началась по благословению архиеп. Лазаря.
А. А. Романова, С. А. Семячко, Э. П. Р.
3. XVIII — нач. XX в.
3. XVIII — нач. XX в. В XVIII в. развитие рус. Ж. л. замедлилось, новые тексты почти не создавались. Наиболее значимые из появившихся в этом столетии агиографических сочинений — Житие свт. Димитрия Ростовского, составленное в 1757 г. и впосл. перерабатывавшееся, и написанные в 60-х гг. архимандритом Жёлтикова мон-ря и ректором тверской ДС Макарием (Петровичем) Жития Тверских святых — свт. Арсения и блгв. кн. Михаила Ярославича. Агиографические сочинения архим. Макария, сохраняя все признаки средневек. житийного текста, отражали идеи эпохи Просвещения (учение, долг, служение, польза), содержали образы и символы эпохи барокко. В работе над текстами архим. Макарий стремился как можно полнее передать источники. Так, при создании Жития блгв. кн. Михаила Ярославича была использована не только одна из предшествующих редакций Жития, но и Повесть о тверском Отроче мон-ре и Житие блгв. кнг. Анны Кашинской (на тот момент находившееся под запретом).
В XVIII в. корпус Ж. л. поддерживался в первую очередь за счет неоднократного переиздания «Книги житий святых» свт. Димитрия Ростовского. в 1741 г. Святейший Синод поставил задачу исправить этот труд с целью приведения в соответствие с требованиями «Духовного регламента», на эту работу справщикам потребовалось ок. 15 лет. Впосл. «Жития святых» свт. Димитрия переиздавались без существенных изменений: в 1756-1759, 1762, 1764, 1767, 1789, 1805, 1837, 1888 гг.; в 1757 и 1764 гг. труд был опубликован в Киеве, в 1824 и 1849 гг.- в Ростове.
В XVIII в. традиц. Ж. л. продолжала развиваться у старообрядцев, в частности в рамках выговской книжной школы (см. Выголексинское общежительство). Стараниями 1-го выговского уставщика Петра Прокопьева были составлены Минеи-Четьи, не включавшие собственно старообрядческих текстов, но отличавшиеся от аналогичных собраний подбором житий (см.: Барсов Е. В. Четьи-Минеи братьев Денисовых // Сб. ст. в честь М. К. Любавского. Пг., 1917. С. 677).
В XVIII в. был создан ряд каталогов рус. святых с краткими биографическими справками. Вероятно, во 2-й пол. столетия были составлены «Книга, глаголемая Описание о российских святых» (опубл.) (вариант: «Книга, обдержащая в себе собрание всех российских святых и чюдотворцов») и близкая к ней «Повесть о российских чудотворцах» (РНБ. Q.I.382). Эти труды включают небольшие справки о рус. святых, распределенные по регионам.
Возможными источниками (или прототипами) этих сочинений можно считать месяцесловные иконописные подлинники (известны с кон. XVI в.) и алфавитные перечни-указатели к ним, возникшие, как предполагает Г. В. Маркелов, в сер. XVII в. (Маркелов Г. В. Святые Др. Руси: Мат-лы по иконографии (прориси и переводы, иконописные подлинники). СПб., 1998. Т. 2: Святые Др. Руси в иконописных подлинниках XVII-XX вв. С. 5-6), и святцы с летописью (известны с сер. XVII в.). Вероятно, под влиянием этих каталогов русских святых в рукописной традиции XVIII в. появились разнообразные перечни подвижников, составленные по епархиям, в алфавитном порядке или иным образом, а также своды сведений о чудотворных иконах. В старообрядческой среде создавались месяцесловы рус. святых и агиографические памятники, посвященные не только старообрядческим учителям («Виноград российский» Семена Денисова), но и всем святым («Слово воспоминателное о святых чудотворцех» того же автора). В нач. XIX в. мон. старообрядческого Керженского мон-ря Иона (см. Иона Керженский) составил обширный «Алфавит по числам каждаго месяца начиная с сентября всем российским чудотворцам с означением празднеств явлениев (так! — Авт.) Богородичных икон и тех, кои были до введения в Россию христианской веры» (ЯМЗ. № 15544, 1807-1811 гг.). По-видимому, одновременно с «Алфавитом…» создавались и др. старообрядческие своды, содержащие данные о всех святых, в частности, были написаны «Бабушкинские святцы» (БАН. Дружин. № 131(164)), включающие сведения о рус. святых и о чудотворных иконах (зачастую под неверными датами).
В XIX — нач. XX в. развитие Ж. л. активизировалось. Были написаны и изданы Жития рус. святых, канонизированных в XIX — нач. XX в.: свт. Иннокентия (Кульчинского; канонизирован в 1804), свт. Митрофана Воронежского (канонизирован в 1832), свт. Тихона Задонского (канонизирован в 1861), свт. Феодосия Черниговского (канонизирован в 1896), прп. Серафима Саровского (канонизирован в 1903), свт. Иоасафа (Горленко; канонизирован в 1911), патриарха сщмч. Ермогена (канонизирован в 1913), свт. Питирима Тамбовского (канонизирован в 1914), свт. Иоанна (Максимовича; канонизирован в 1916). Новым в Ж. л. было возникновение жанра биографического церковно-исторического исследования. Житие как вид церковной письменности не перестает существовать, но наряду с ним возникает и церковное жизнеописание, к-рое, сохраняя традиц. агиографические задачи, имеет одновременно исследовательский характер. Наиболее ярким примером является создание большого числа сочинений, посвященных прп. Серафиму Саровскому,- от небольших Житий, раздававшихся паломникам в Дивеевской обители (см. Серафимов Дивеевский во имя Святой Троицы женский монастырь), до исследования архим. Серафима (Чичагова) «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» (1896, 19032).
В сер. XIX в. А. Н. Муравьёв и архиеп. Филарет (Гумилевский) сделали попытку восполнить «Книгу житий святых» свт. Димитрия Ростовского созданием рус. Миней-Четьих (Муравьев. ЖСвРЦ. СПб., 1855-1858. 12 вып.; Филарет (Гумилевский). РСв. Чернигов, 1861-1865. 12 кн.). Оба автора использовали древнерус. жития, к-рые сокращенно излагали на рус. языке. В нач. XX в. вышло издание «Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих Миней свт. Димитрия Ростовского с дополнениями из Пролога» (М., 1903-19112. 12 кн.) с 2 дополнительными томами «Жития русских святых» (М., 1908. Т. 1: Сент.-дек.; М., 1916. Т. 2: Янв.-апр.). Над его подготовкой трудился коллектив исследователей под рук. проф. МДА С. И. Смирнова, поставивший целью исправление прежде изданных текстов по новооткрытым редакциям с учетом агиографических и археографических исследований последних десятилетий. В то же время архим. сщмч. Никодим (Кононов) издал «Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX вв.» (М., 1906-1910. 12 т.; М., 1912. Кн. доп. 1-2) — свод собранных им материалов из различных источников: духовных журналов, епархиальных ведомостей, нек-рых рукописей. Жизнеописания, как правило, подробны и сопровождаются указанием на источник.
В сер. XIX в. началось издание т. н. рус. Патериков — собраний житий святых, подвизавшихся в одном регионе или происходивших оттуда. Жития в рус. Патериках часто давались в кратком изложении, но эти издания ценны тем, что в них были включены святые, не встречающиеся в общих сводах, а также использованы малоизвестные рукописи местных хранилищ, краеведческая лит-ра и местные предания. Зачастую издание Патериков предварялось составлением рукописных собраний житий, см., напр., Новгородский патерик Паисия Кривоборского 1830-1831 гг. (списки: РНБ. Собр. Александро-Невской лавры. А-9; НМЗ. 30056-312/КР-309).
В XIX в. был составлен ряд житий святых Поместных Церквей, не вошедших в труд свт. Димитрия Ростовского. Внимание рус. агиографов прежде всего было привлечено к святым тех правосл. Церквей, к-рые оказывали прямое или косвенное влияние на жизнь Русской Церкви,- к южнослав., груз., афонским подвижникам (Филарет (Гумилевский), архиеп. Святые юж. славян: Опыт описания жизни их. СПб., 1865; Он же. Святые подвижницы Восточной Церкви. СПб., 1871; Иоселиани П. И. Жизнеописания святых, прославляемых правосл. Груз. Церковью. Тифлис, 1850; Сабинин М. Г. Полное жизнеописание святых Груз. Церкви: Жребий Божией Матери. СПб., 1871-1873. 3 т.; Азария [Попцов], мон. Афонский Патерик, или Жизнеописания святых, во Святой Афонской горе просиявших. СПб., 1860. М., 1897; Соловьёв П. А., прот. Христианские мученики, пострадавшие на Востоке со времени завоевания Константинополя турками. СПб., 1862; Сказания о мучениках христианских, чтимых православной кафолической Церковью. Каз., 1865-1867. 2 т.). В основе большинства изданий — сокращенное изложение перевода житий на русский язык.
Развитие Ж. л. в XIX — нач. XX в. стояло в тесной связи с ее исследованием. Первый справочник, содержащий сведения по рус. Ж. л., был опубликован в С.-Петербурге в 1835 г. (Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местночтимых / Сост.: Д. А. Эрастов). Однако последующие справочные издания стали появляться только через неск. десятилетий в значительной степени под влиянием магист. дис. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (СПб., 1871), с к-рой началось систематическое изучение рус. Ж. л. и к-рая до сих пор остается наиболее полным исследованием по этой теме. Ключевский представил развитие рус. Ж. л. в XI-XVIII вв., выявил круг житий, принадлежавших как знаменитым агиографам (свт. Киприану, Епифанию Премудрому и Пахомию Логофету), так и менее известным авторам, открыл множество ранее неизвестных житий, редакций, списков. Работа основана на громадном массиве материала. Однако выводы Ключевского в значительной степени повлияли на снижение интереса историков к Ж. л. Исследователь не обнаружил в житиях богатого исторического материала, под которым в то время понимали прежде всего политическую и экономическую историю. «Заимствования», «шаблон» Ключевский рассматривал как отсутствие исторического материала и свидетельство неспособности древнерусских агиографов к творчеству. В кон. XIX в. в большой мере под воздействием труда Ключевского появилось неск. справочников по рус. Ж. л. (Барсуков Н. П. Источники рус. агиографии. СПб., 1882; Леонид (Кавелин), архим. Св. Русь, или Сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII в.) обще и местно чтимых, изложенные в таблицах, с картою России и планом Киевских пещер: Справ. кн. по рус. агиографии. СПб., 1891), оказавших влияние на пробуждение интереса к агиографии в научных и общественных кругах.
В кон. XIX — нач. XX в. интерес к Ж. л. усилился, на нее стали смотреть не только как на исторический источник, но и как на отражение религиозно-философского мировоззрения и церковного сознания (Ковалевский И., свящ. Юродство о Христе и Христа ради юродивые Вост. и Рус. Церкви: Ист. очерк и жития сих подвижников благочестия. М., 1895; Флоренский П. А., свящ. Мысли о преподавании агиологии и о классическом образовании // БВ. 2006. № 5/6. С. 463-474; Он же. Библиография по агиологии // Там же. С. 628-641). Жития святых были проанализированы в ряде работ кон. XIX — нач. XX в. по истории канонизации (Васильев В. П. История канонизации рус. святых. М., 1893; Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Рус. Церкви. Серг. П., 1894. М., 19032; Никодим (Кононов), архим. К вопр. о канонизации святых в Рус. Церкви. М., 1903).
Иcключительно важное значение для изучения рус. Ж. л. имеет многотомный справочник по рус. агиографии архиеп. Димитрия (Самбикина) (Димитрий (Самбикин), архиеп. Месяцеслов святых, всею Рус. Церковию или местно чтимых, и указатель празднеств в честь икон Божией Матери и св. угодников Божиих в нашем Отечестве. Тамбов, 1878-1883. 5 т.; Каменец-Подольск; Тверь, 1893-19022. 12 вып.). Архиеп. Димитрий собрал о каждом канонизированном святом и о многих подвижниках благочестия разнообразные сведения: о житиях, канонизации, об уставе празднования, иконографии, исторических обстоятельствах жизни и т. д. Особо ценными являются сведения из местной краеведческой лит-ры, а также легенды и предания, к-рые бытовали в устной передаче. Данный справочник можно считать итогом развития рус. Ж. л. в синодальную эпоху. Издание архиеп. Сергия (Спасского) лишь в небольшой мере посвящено рус. агиографии (Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. М., 1875-1876, 19012. 2 т.). Оно значимо в первую очередь тем, что архиеп. Сергий выработал методику исследования и принципы публикации справочного агиографического материала.
В XIX — нач. XX в. широкое распространение получили просветительные издания Ж. л. Поcкольку одной из главных задач создания жития является духовно-нравственное назидание, Церковь стремилась не только к научно-критическому изданию Ж. л. как памятников письменности, но и к доступности текстов житий. С этой целью издавались на рус. языке сокращенные изложения житий святых на весь год (Бахметева А. Н. Избр. жития святых, кратко изложенные по руководству Четьих-Миней. М., 1858-1860. 12 вып.; Филарет (Гумилевский), архиеп. Жития святых, чтимых правосл. Церковью, со сведениями о праздниках Господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах. СПб., 1885. 12 кн.; Протопопов Д. И. Жития святых, чтимых правосл. Рус. Церковью, а также чтимых Греч. Церковью, южнослав., груз. и местно чтимых в России. М., 1884-1885. 12 кн.; Дестунис С. А. Жития святых, сост. по Четьям Минеям и другим книгам. СПб., 1886; Поселянин Е. [Погожев Е. Н.]. Полное собр. житий святых правосл. Греко-Российской Церкви. СПб., 1908), тематические сборники (Едлинский М. Е., свящ. Подвижники и страдальцы за веру правосл. и землю Русскую от начала христианства на Руси до позднейших времен. СПб., 1895-1898. 3 т.; Поселянин Е. [Погожев Е. Н.]. Святая юность: Рассказы о святых детях и о детстве и отрочестве святых. [Пг., 1915]) и многочисленные отдельные издания и журнальные публикации как о канонизированных святых, так и о неканонизированных подвижниках благочестия. Из этой обширной лит-ры по художественным достоинствам, по умению выделить главное для нравственного назидания и по соотнесенности с современностью выделяются изложения житий писателя Е. Поселянина (см. Погожев Е. Н.), духовного сына прп. Амвросия Оптинского.
4. XX — нач. XXI в. Те направления развития Ж. л., к-рые были обозначены к нач. XX в., продолжали сохраняться на протяжении всего столетия, но содержание их значительно изменилось. На Поместном Соборе Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. вопросы составления житий новоканонизированных святых рассматривались в Отделе о богослужении, проповедничестве и храмах. 8 сент. 1918 г. было утверждено соборное определение «О порядке прославления святых к местному почитанию», в к-ром говорилось: «С благословения епархиального архиерея составляется или просматривается ранее составленное Житие святого и определяется соответствие Жития свидетельствам и записям современников святого и летописным записям и сказаниям. Из Жития святого составляется пролог или синаксарь для богослужебного употребления» (Собор, 1918. Определения. Кн. 4. С. 25-26). В соответствии с этим определением Свящ. Синод РПЦ 1-2 окт. 1993 г. издал постановление о порядке канонизации местночтимых святых и о работе епархиальных комиссий по канонизации святых, в котором говорилось, что перед составлением жития «епархиальная комиссия собирает сведения о жизни, подвигах, чудотворениях и почитании в народе данного подвижника» (Канонизация святых в XX в. М., 1999. С. 147).
На протяжении XX в. священноначалие Русской Церкви предъявляло строгие требования к составлению жития. В отличие от предыдущего времени много сведений о святых в XX в. сохранилось в передаче невоцерковленных или даже неверующих людей, поучения и беседы праведников XX в. зачастую были весьма индивидуальны вслед. исключительных обстоятельств жизни Русской Церкви. В «Справке о работе Комиссии по вопросу канонизации местночтимых святых» за 1989-1998 гг. приводится много случаев, когда Синодальная комиссия приходила к выводу о невозможности канонизации того или иного подвижника благочестия из-за «недостаточности представленных материалов», о необходимости «продолжить изучение жизни», «уточнить» или отредактировать текст жития (Там же. С. 220-241). Жития немногих святых, канонизированных РПЦ в 1918-1978 гг. (свт. Софрония (Кристалевского), Астраханского архиеп. сщмч. Иосифа, равноап. Николая (Касаткина), свт. Иннокентия (Вениаминова), свт. Мелетия (Леонтовича)) или внесенных в месяцеслов РПЦ (прав. Иоанна Русского, прп. Германа Аляскинского), не могли быть изданы отдельными книгами и публиковались на страницах ЖМП.
В 1978-1979 гг. ряд житий был издан в сер. «Настольная книга священнослужителя» (Т. 2-3: Месяцеслов). В основу издания была положена «Книга жития святых» свт. Димитрия Ростовского, дополненная сведениями о рус. и вселенских святых по всем изданиям житий и справочников XVIII-XX вв., а также частично по рукописям. Месяцеслов каждого дня был значительно увеличен в сравнении со списками, публиковавшимися в Православном церковном календаре. Собственно жития в данном издании представляют собой краткое изложение сведений о святом, иногда дополненное библиографией. Значение появления Месяцеслова в составе «Настольной книги священнослужителя» заключалось в том, что, во-первых, объем привлеченного материала намного превосходил аналогичные издания XVIII — нач. XX в. и, во-вторых, после 1917 г. это было 1-е и единственное изложение житий святых. Издание Месяцеслова повлияло на церковно-краеведческую работу в епархиях: значительно увеличилось число установленных соборных памятей, в списки Соборов стали включать не только местночтимых святых, но и подвижников благочестия (см.: Андроник (Трубачёв), игум. Канонизация святых в Русской Православной Церкви // ПЭ. Т.: РПЦ. С. 359-360). Все это способствовало изучению и публикации Ж. л. В 1978-1989 гг. в приложении к службам круга богослужебных Миней (сент.-авг.) были изданы краткие изложения житий святых. Большая часть их имела библиографию и прориси.
В советский период значительный вклад в изучение и издание памятников средневек. рус. Ж. л. внесли светские ученые. После 1917 г. (преимущественно со 2-й пол. 30-х гг.) и до рубежа 80 и 90-х гг. было исследовано и издано большее число житий рус. святых, чем на протяжении XIX — нач. XX в., в посл. десятилетие XX в. эта работа еще более активизировалась. Крупнейшим центром изучения Ж. л. с 30-х гг. ХХ в. является Отдел древнерус. лит-ры в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). В издаваемых отделом «Трудах» публикуются исследования, посвященные общим и частным проблемам изучения Ж. л., и агиографические тексты. Большим вкладом в популяризацию древнерус. Ж. л. стало издание антологии «Памятники литературы Древней Руси», ее расширенным вариантом является продолжающееся изд. «Библиотека литературы Древней Руси». Создается электронный каталог «Источники русской агиографии» — наиболее полная база данных о рус. святых, охватывающая более 600 имен.
Новый этап в истории рус. Ж. л. начался в кон. 80-х гг. XX в., когда Церковь получила больше возможности для своей деятельности, в частности для совершения канонизаций. После Поместного Собора 1988 г., на котором было прославлено неск. святых, их жития опубликовали отдельными брошюрами. В связи с канонизацией большого числа новомучеников на Архиерейских Соборах 1989, 1997, 2000 гг. и в последующее время создание житий прославляемых святых приобрело общецерковный характер. Автором научной методики комплексного изучения материалов, относящихся к мученическому и исповедническому подвигу святых в ХХ в., стал игум. Дамаскин (Орловский), продолживший прерванную в ХХ в. житийную традицию и восстановивший ее на принципах раннехрист. агиографии, когда жития создавались на основе офиц. документированных и устных свидетельств. Основополагающим для развития рус. агиографии на рубеже XX и XXI вв. стал труд игум. Дамаскина «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ ст.: Жизнеописания и материалы к ним» (Тверь, 1992-2002. 7 кн.). В издание вошли более 900 житий и жизнеописаний, календари памяти новомучеников и исповедников. Автор использовал материалы Архивов ФСБ, Президента РФ, бывш. партийных и др., в т. ч. региональных. Основную массу источников составили судебно-следственные дела. Агиограф также использовал тысячи показаний очевидцев и участников событий, собранных в 70-х гг. XX в. В 2005 г. началось издание полного собрания составленных игум. Дамаскином «Житий новомучеников и исповедников Российских ХХ в.» в соответствии с их церковной памятью по месяцам (Тверь, 2005-2007. Янв., Февр., Март, Апр., Май, продолж.). Составленные игум. Дамаскином жизнеописания публиковались также в сборниках «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ в. Московской епархии» (Тверь, 2002-2005. Т. 1-5, доп. 1-4). Действует региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», целями которого являются изучение архивных документов и др. свидетельств, касающихся подвига мучеников и исповедников, создание их жизнеописаний, публикация духовного наследия мучеников. В 2000-х гг. агиографическая работа велась почти во всех епархиях РПЦ, были созданы епархиальные комиссии по канонизации святых, занимающиеся сбором материалов о новомучениках и подвижниках благочестия, составлением их жизнеописаний и подготовкой материалов для канонизации.
Игум. Андроник (Трубачёв)
Изд. (избр.): [Димитрий (Туптало), свт. Ростовский]. Книга житий святых (Минеи Четьи). К., 1689-1705 (переизд.: М., 1711-1716, 1756-1759, 1762, 1764, 1767, 1789, 1805, 1837, 1888; К., 1757, 1764; Ростов, 1824, 1849); Кушелев-Безбородко. Памятники. СПб., 1860-1862. Вып. 1-4; ВМЧ. СПб.; М.; Freiburg, 1868-1916, 1997-1998, 2007; Житие Варлаама Хутынского: В 2 списках. СПб., 1881. (ОЛДП; Вып. 41); Дубровский М., свящ. Житие прп. Евфросинии Полоцкой. Полоцк, 1887; Титов А. А. Житие св. Леонтия, еп. Ростовского. Ярославль, 1892; Житие прп. Прокопия Устюжского. СПб., 1893. (ОЛДП; Вып. 103); Никодим (Кононов), архим. Архангельский патерик. СПб., 1901; ЖСв. М., 1902-1911. Т. 1-12; ПСРЛ. СПб., 1908-1913. Т. 21. 2 ч.; Патерик Киево-Печерского мон-ря / Под ред. Д. И. Абрамовича. СПб., 1911; Мансикка В. П. Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. СПб., 1913. (ПДПИ; 180); Серебрянский Н. И. Древнерус. княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М., 1915; Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916; Тихонравов Н. С. Древние жития прп. Сергия Радонежского. М., 19162; Успенский сборник XII-XIII вв. / Изд. подгот.: О. А. Князевская, В. Г. Демьянова, М. В. Ляпон. М., 1971; ПЛДР. М., 1978-1994. 12 вып.; Повесть о Петре и Февронии / Подгот. текстов и исслед.: Р. П. Дмитриева. Л., 1979; Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские / Изд. подгот.: Г. М. Прохоров и др. СПб., 1993; Revelli G. Monumenti letterari su Boris e Gleb = Литературные памятники о Борисе и Глебе. Genova, 1993; Свт. Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления / Ред.: Г. М. Прохоров. СПб., 1995; Житие Юлиании Лазаревской: (Повесть об Ульянии Осорьиной) / Исслед., подгот. текстов: Т. Р. Руди. СПб., 1996; БЛДР. СПб., 1997-[2008]. Т. 1-[16]; Клосс Б. М. Избр. тр. М., 1998. Т. 1; 2001. Т. 2; Мартирий Зеленецкий и основанный им Троицкий мон-рь / Подгот.: Е. В. Крушельницкая. СПб., 1998; Древнерус. патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подгот.: Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М., 1999; Житие Кирилла Белозерского: Текст и словоуказ. / Ред.: А. С. Герд. СПб., 2000; Минеева С. В. Рукописная традиция жития прп. Зосимы и Савватия Соловецких, XVI-XVIII вв. М., 2001. 2 т.; Житие Антония Сийского: Текст и словоуказ. / Ред.: А. С. Герд. СПб., 2003; Житие Кирилла Новоезерского: Текст и словоуказ. / Ред.: А. С. Герд. СПб., 2003; Житие св. прав. Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца. М., 2003; Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского: Тексты и словоуказ. / Ред.: А. С. Герд. СПб., 2003; Московский патерик: Древнейшие святые Московской земли. М., 2003; Житие Корнилия Комельского: Текст и словоуказ. / Ред.: А. С. Герд. СПб., 2004; Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского: Тексты и словоуказ. / Ред.: А. С. Герд. СПб., 2005; Святые подвижники и обители Рус. Севера: Усть-Шехонский Троицкий, Спасо-Каменный, Дионисьев Глушицкий и Александров Куштский мон-ри и их обитатели / Подгот.: Г. М. Прохоров, С. А. Семячко. СПб., 2005; Лобакова И. А. Житие митр. Филиппа: Исслед. и тексты. СПб., 2006; Охотникова В. И. Псковская агиография XIV-XVII вв. СПб., 2007. 2 т.; Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и коммент. М., 2007. Т. 1: Житие св. кнг. Ольги. Степени 1-10 / Отв. ред.: Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф; Бугославский С. А. Текстология Древней Руси. М., 2007. Т. 2: Древнерус. лит. произведения о Борисе и Глебе.
Лит. (избр.): СИСПРЦ; Ключевский. Древнерусские жития; Некрасов И. С. Зарождение национальной лит-ры в Сев. Руси. Од., 1870. Ч. 1; Попов Н. А. [Рец. на кн.:] Ключевский В. О. Древнерус. жития святых как ист. источник // ПО. 1872. Т. 1. № 3. С. 410-426; Верюжский. Вологодские святые; Яхонтов И. А. Жития святых севернорус. подвижников Поморского края как ист. источник. Каз., 1881; Барсуков. Источники агиографии; Описание о российских святых; Коноплев Н. А., свящ. Святые Вологодского края // ЧОИДР. 1895. Кн. 4. Отд. 4. С. 1-132; Никодим (Кононов), архим. Верное и краткое исчисление, сколь можно было собрать, преподобных отец соловецких: Агиологические очерки. СПб., 1900; Кадлубовский А. П. Очерки по истории древнерус. лит-ры житий святых. Варшава, 19022; Смирнов С. И. Исследование В. О. Ключевского «Древнерус. жития святых как ист. источник» // ЧОИДР. М., 1914. Кн. 1. С. 53-71; Серебрянский Н. И. Древнерус. княжеские жития. М., 1915; Никольский Н. К. Мат-лы для истории древнерус. духовной письменности. СПб., 1907. (СбОРЯС; Т. 82. № 4); Яблонский В. М., свящ. Пахомий Серб и его агиогр. писания. СПб., 1908; Адрианова-Перетц В. П. Из истории рус. агиографии XVI в. // Sertum bibliologicum в честь А. И. Малеина. Пг., 1922. С. 146-154; Бугославский С. А. Лит. традиция в северо-вост. рус. агиографии // Сб. ст. в честь А. И. Соболевского. Л., 1928. С. 332-336. (СбОРЯС; Т. 101. № 3); Перетц В. Н. Исследования и мат-лы по истории старинной укр. лит-ры XVI-XVIII вв. М.; Л., 1962. С. 8-116; Дмитриев Л. А. Житийные повести Рус. Севера как памятники лит-ры XIII-XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биогр. сказаний. Л., 1973; Грихин В. А. Проблемы стиля древнерус. агиографии XIV-XV вв. М., 1974; Понырко Н. В. Кирилло-Епифаниевский житийный цикл и житийная традиция в выговской старообрядческой лит-ре // ТОДРЛ. 1974. Т. 29. С. 154-169; Курилов А. С. Жанр жития и рус. филология XVIII в. // Литературный сб. XVII в. «Пролог». М., 1978. С. 142-154; Ольшевская Л. А. Своеобразие жанра житий в Киево-Печерском патерике // Лит-ра Др. Руси: Сб. науч. тр. М., 1981. С. 18-35; СККДР. 1987. Вып. 1; 1988. Вып. 2. Ч. 1; 1992. Вып. 3. Ч. 1; 2004. Вып. 3. Ч. 4; Børtnes J. Visions of Glory: Stud. in Early Russian Hagiography. Oslo, 1988. (Slavica Norvegica; 5); Аверина С. А. К жанрово-стилистической характеристике севернорус. агиографии: На мат-ле севернорус. житий XVI в. // Ист. стилистика рус. яз. Петрозаводск, 1990. С. 61-70; она же. О принципах организации агиографического текста // Язык и текст: [Сб. ст.]. СПб., 1998. С. 40-49; Творогов О. В. Древнерус. четьи сборники XII-XIV вв. Ст. 2-я: Памятники агиографии // ТОДРЛ. 1990. Т. 44. С. 196-225; он же. Переводные жития в рус. книжности XI-XV вв.: Кат. М.; СПб., 2008; Владышевская И. В., Сорокина В. Л. Рус. святые, подвижники благочестия и агиографы: Словник-указ. М., 1992; The Hagiography of Kievan Rus’. [Boston], 1992; Дмитриева Р. П. Агиографическая школа митр. Макария: На мат-ле некоторых житий // ТОДРЛ. 1993. Т. 48. С. 208-213; Лурье Я. С. Житийные памятники как источники по истории присоединения Новгорода // Там же. С. 192-195; Пигин А. В. Народная мифология в севернорус. житиях // Там же. С. 331-334; Власов А. Н. Эпизод «преставления» святого как структурный элемент житийного текста: На мат-ле памятников устюжской лит. традиции // Смерть как феномен культуры: Межвуз. сб. науч. трудов. Сыктывкар, 1994. С. 53-75; Дмитриев Л. А., Творогов О. В. Жития // Лит-ра Др. Руси: Биобиблиогр. слов. / Ред.: О. В. Творогов. М., 1996. С. 67-70; Каган-Тарковская М. Д. Развитие житийно-биогр. жанра в XVII в.: Жития Адриана и Ферапонта Монзенских, Трифона Вятского, Симона Воломского, Серапиона Кожеозерского, Арсения Новгородского, Никандра Псковского // ТОДРЛ. 1996. Т. 49. С. 122-132; Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие в древнерус. лит-ре: Жития Филиппа Ирапского, Герасима Болдинского, Мартирия Зеленецкого, Сказание Елеазара об Анзерском ските: Исслед. и тексты. СПб., 1996; Подскальски Г. Христианство и богословская лит-ра в Киевской Руси, 988-1237. СПб., 19962. С. 184-241; Александров А. В. Образный мир агиографической словесности: Ст. и мат-лы. Од., 1997; Brogi Bercoff G. Aspetti dell’agiografia russa nell’epoca di transizione (XVII-XVIII sec.) // Scrivere di santi: Atti del II Convegno di studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, del cilti e dell’agiografia, Napoli, 22-25 ottobre 1997 / A cura di G. Luongo. R., 1998. P. 285-301; Лоевская М. М.
Традиция и ее трансформация в жанре агиографии: На мат-ле старообрядческих житий святых: АКД. М., 1999; Толочко А. П.
Похвала или Житие?: Между текстологией и идеологией княжеских панегириков в древнерус. летописании // Palaeoslavica. Camb. (Mass.), 1999. Vol. 7. P. 26-38; Пак Н. И.
Жизнеописания подвижников XIX в.: Типология жанра // Оптина Пустынь и рус. культура: Тез. докл. конф. Калуга, 2000. С. 67-70; Юхименко Е. М.
Старообрядческая агиография кон. XVIII в. // ГДРЛ. 2000. Сб. 10. С. 563-615; Артамонов Ю. А.
Княжеская власть и рус. агиография XI-XII вв.: (История создания агиогр. сочинений киево-печерской традиции): АКД. М., 2001; Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij: Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Freiburg, 2000. Bd. 1 / Hrsg. Ch. Voss; 2006. Bd. 2 / Hrsg. E. Maier; Бон Д.
Житийная лит-ра как ист. источник: (Две точки зрения: В. О. Ключевского и Г. П. Федотова) // Лит-ра и история: Ист. процесс в творческом сознании рус. писателей и мыслителей XVIII-XX вв. СПб., 2001. Вып. 3. С. 284-293; Аверьянова Е. В.
Функциональная и семиотическая интерпретация эпической поэзии и агиографии Киевской Руси. Тюмень, 2002; Безбородова Е. В.
Категории прекрасного и безобразного в житиях святых юродивых // Вестн. Об-ва исследователей Др. Руси за 2000 г. М., 2002. С. 83-91; Жития святых в древнерус. письменности: Тексты. Исслед. Мат-лы / Отв. ред.: М. С. Крутова. М., 2002; Мир житий: Сб. мат-лов конф. (Москва, 3-5 окт. 2001 г.). М., 2002; Письменные памятники истории Др. Руси: Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания: Аннот. кат.-справ. / Ред.: Я. Н. Щапов. СПб., 2003. С. 193-215; Рогожникова Т . П. Житийные тексты «Макариевского цикла»: Жанр и стиль. СПб., 2003; Черепанова О. А. Жанр житийной повести в традиц. культуре Рус. Севера XX в. СПб., 2003; Дорофеева Л. Г. Современная агиография: Постановка проблемы // Кирилл и Мефодий: Духовное наследие: Мат-лы междунар. науч. конф. (Калининград, май 2003) / Ред.: Н. Е. Лихина, С. В. Свиридов. Калининград, 2004. С. 39-56; Конявская Е. Л. Проблема общих мест в древнеслав. лит-рах: (На мат-ле агиографии) // Ruthenica. К., 2004. Т. 3. С. 80-92; она же. Очерки по истории тверской лит-ры XIV-XV в. М., 2007; Макарий (Веретенников), архим. Св. Русь: Агиография, история, иерархия. М., 2005; Рус. агиография: Исслед. Публ. Полемика / Ред.: Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб., 2005; Т. 2 (в печати); Околович Н. Ф. Жития святых, помещенные в Степенной книге. М.; СПб., 2007; Полетаев Л., свящ. Современная агиография и рус. житийная традиция: Дис. / СПбДА. СПб., 2007. Ркп.; Лосева О. В. Жития рус. святых в составе древнерус. Прологов XII — 1-й трети XV в. М., 2009.
Сербская
Особенностью сербской средневек. лит-ры является то, что жития составляют основную часть корпуса ее текстов и вместе с соответствующими гимнографическими произведениями по существу исчерпывают его. Житийный жанр на серб. почве представлен почти только житиями св. правителей и церковных иерархов, при этом в силу исторических причин среди житий правителей с 1-й пол. XI и до кон. XIV в. отсутствуют (в отличие от древнерусских) сочинения, прославляющие венценосных мучеников. Жития преподобных весьма немногочисленны, отчасти (по аналогии с житиями западноболг. подвижников) это может объясняться тем, что почитание преподобных, живших в древности, не распространялось широко, а сохранялось лишь в местах их упокоения, поэтому при неблагоприятных обстоятельствах (войны, пожары, эпидемии) оно легко могло безвозвратно исчезнуть. Жития св. жен в средневек. серб. лит-ре ограничиваются 2 агиобиографиями правительниц, кор. Елены Анжуйской и деспотицы Ангелины Бранкович (см. ст. Бранковичи), а жития преподобных жен неизвестны. Появление в сербской лит-ре немногочисленных сказаний о перенесении мощей святых как отдельного жанра относится к кон. XIV — cер. XV в. и напрямую связано с тур. завоеванием Балкан, вызвавшим миграцию правосл. реликвий. К особенностям серб. Ж. л. относится и обилие агиографических моментов в пространных жалованных грамотах средневек. серб. правителей (Трифуновић. 1990. С. 24-26; Лексикон. 1999. С. 15). Все это дает основание оценивать серб. Ж. л. XIII — раннего XV в. как своеобразную «династическую историографию». Одну из ключевых ролей в развитии серб. агиографии (а также лит-ры и культуры в целом) на протяжении XIII-XIV вв. играл афонский мон-рь Хиландар, с которым были связаны едва ли не большинство средневековых сербских книжников.
Особенность рукописной традиции серб. Ж. л. состоит в том, что по крайней мере вплоть до XVI в. пространные тексты не включались в минейные Торжественники, а краткие (за исключением Житий святых Симеона и Саввы) — в Прологи. Первые встречаются обычно в составе сборников, а вторые (в соответствии со своей функцией) сопровождают службы святым в служебных и чаще в праздничных Минеях.
Особняком (в историческом, географическом и даже языковом отношении) в серб. Ж. л. стоит Житие дуклянского (зетского) кор. мч. Иоанна Владимира († 1016), созданное, вероятно, в 20-х гг. ХI в. Памятник не сохранился в оригинале, а дошел в лат. переводе в составе т. н. Летописи попа Дуклянина, или «Барском родослове». Предполагается, что в существующем виде текст испытал влияние (возможно, позднейшее) латинских житий мучеников, а в сюжетной линии любви героя и его жены, дочери болг. царя Косары,- мотивов франц. chanson de gestes. На позднейшую серб. агиографию текст воздействия не оказал.
Начало собственно серб. Ж. л. связано с объединением страны во 2-й пол. XII в. под властью вел. жупана Стефана Немани (см. Симеон Мироточивый), основавшего династию Неманичей, правившую в Сербии до 1371 г., и с созданием автокефальной Сербской Православной Церкви (СПЦ). Первыми серб. агиографами стали сыновья Стефана Немани -свт. Савва, архиеп. Сербский, и кор. Стефан Первовенчанный (см. Симон Монах). Очень краткое Житие св. Симеона как преподобного и ктитора мон-ря с момента его прибытия на Афон написано свт. Саввой в качестве 3-й гл. типика Хиландарского мон-ря (Сава. 1998. С. 28) сразу после смерти отца (1199 или 1200). В 1208 г., во время настоятельства в мон-ре Студеница, свт. Савва написал более пространное Житие отца также для устава обители (см.: Студенички типик. 1994. С. 152-190; Сава. 1998. С. 148-190). Биография со мн. перипетиями успешного гос. деятеля играет в этом Житии роль прелюдии к судьбоносному выбору, сделанному героем в пользу Небесного Царства и монашеского подвига. Центром повествования (к-рому предшествует Похвала святому) является рассказ о смерти прп. Симеона, далее следует описание перенесения мощей с Афона в Студеницу. К Житиям, написанным свт. Саввой, тематически примыкает т. н. Хиландарская запись о кончине прп. Симеона, составленная ок. 1206 г. и представляющая редкий образец свидетельств очевидцев о последних часах жизни святого (Богдановић. Кратко житиjе св. Саве. 1976). Пространное Житие прп. Симеона, написанное в 1216 г. Стефаном Первовенчанным, демонстрирует прекрасное знание автором законов жанра византийских агиографических образцов минейного типа — оно обладает функционально-литургическим заглавием, содержит риторический пролог, агиобиографическую часть, Похвалу и посмертные чудеса. Центральное место в этом памятнике занимает часть биографии Стефана Немани, от его прихода к власти до отречения и ухода на Св. Гору. С церковным прославлением прп. Симеона связано создание ок. 1227-1233 гг. его проложного Жития, позднее оно неоднократно редактировалось (Богдановић. Пролошко житиjе св. Симеона. 1976; Он же. 1980. С. 154-155) и сохранилось в многочисленных списках кон. XIII-XVIII в. (начиная с 1-й трети XV в. и в рус. списках).
В сер. XIII — нач. XIV в. наряду с Житием прп. Симеона стало известно Житие свт. Саввы. Т. о., оформляется (см. также ст. Гимнография) совместное почитание отца (как светского правителя и монаха) и младшего сына (1-го главы автокефальной СПЦ) как небесных покровителей и просветителей (последнее определение навеяно, возможно, парным культом равноапостольных Константина (Кирилла) и Мефодия) серб. народа (и шире — Сербского гос-ва, границы к-рого в XIII-XV вв. часто изменялись), а также небесных покровителей династии Неманичей.
У истоков агиографии свт. Саввы лежит его проложное Житие свт. Саввы, представленное уже в списках XIII-XIV вв. неск. (по крайней мере 3) редакциями.
Серб. Ж. л. вплоть до 1-й четв. XIV в. определяет прежде всего творчество хиландарских иеромонахов Доментиана и Феодосия. Первый из них принадлежал, вероятно, к числу младших учеников свт. Саввы. Написанные им по заказу кор. Уроша I Жития Саввы (1243 или 1254) и Симеона (1264) отличаются высоким риторическим стилем, сложностью композиции и обилием поэтических приемов, сближающих их с гимнографическими произведениями (притом что о занятиях Доментиана гимнографией ничего не известно). Жития, созданные по заказу королевского двора и в то же время монашеские и святогорские по миросозерцанию, в совокупности отражают представления серб. общества об идеальной средневек. державе (Богдановић. 1980. С. 159). В основу обоих произведений положены предшествующие тексты — краткое Житие свт. Саввы и сочинение Стефана Первовенчанного. Пространные речи и поучения свт. Саввы, составляющие значительную часть текста его Жития и неизвестные ни в самостоятельных списках, ни в позднейшей (Феодосиевой) редакции Жития, следует, по всей видимости, считать плодом творчества Доментиана. При написании Жития прп. Симеона агиограф воспользовался Похвалой равноап. кн. Владимиру Илариона, митр. Киевского, в составе его «Слова о законе и благодати».
Житие свт. Саввы, написанное Доментианом, в кон. XIII в. послужило источником для создания редакции его вероятным учеником, хиландарским иером. Феодосием, которая является по сути новым текстом с существенными отличиями в содержании, в отборе исторических событий и особенно в стилистике и структуре. Будучи крупнейшим слав. гимнографом своего времени (см. ст. Гимнография), иером. Феодосий в сравнении со своим предшественником решительно разграничил жанры книжного творчества — стиль Жития свт. Саввы гораздо более нарративен, изобилует реалистическими деталями, притом что автор прекрасно владеет приемами агиографической риторики. Лит. образцом для книжника послужило и Житие прп. Саввы Освященного (покровителя свт. Саввы Сербского), написанное Кириллом Скифопольским. Завершает агиографический цикл, посвященный святым Симеону и Савве Сербским, общая Похвала им, написанная тем же Феодосием в соответствии с жанром визант. энкомия.
Перу Феодосия принадлежит и 1-е серб. монашеское (анахоретское) Житие прп. Петра Коришского, написанное ок. 1310 г. Произведение создано на основе воспоминаний учеников отшельника, подвизавшегося в окрестностях Призрена (автор посетил место подвига святого и поклонился его мощам), и ранневизант. лит. образцов (в первую очередь Жития прп. Антония Великого и Патериков).
В 1-й трети XIV в., при кор. Стефане Уроше II Милутине (1282-1321) и его сыне, св. Стефане Уроше III Дечанском (1321-1331), в серб. обществе и Сербской Церкви окончательно сложилось представление о святости династии Неманичей. Отражением этого явилось создание архиеп. Печским Даниилом II сб. «Жития королей и архиепископов сербских» (Данило. 1866), дополненного позднее новыми житиями других авторов. Первоначально сборник включал Жития королей Стефана Уроша I, Драгутина (см. Феоктист, прп.), кор. Елены Анжуйской, кор. Милутина и архиепископов Арсения I, Иоанникия I и Евстафия I (помимо этого цикла Даниилу атрибутируется также Житие Милутина в форме властительской автобиографии, послужившее источником текста в сборнике). Жития, написанные Даниилом (и в особенности цикл в целом), отличаются сложностью и мозаичным характером композиции, использованием элементов мн. жанров: молитв, плачей, диалогов героя со своей душой, покаянных исповеданий и поучений. Аристократическое происхождение автора, его многолетняя близость к королевскому двору (как в светский, так и в церковный период его биографии) и личное знакомство с большинством героев делают его сочинения незаменимым источником по истории Сербии сер. XIII — 1-й четв. XIV в.
Труд архиеп. Даниила был продолжен после его кончины. Безымянному «1-му продолжателю» приписывают и заслугу окончательного оформления этого агиографического свода. Во 2-й пол. 30-х гг. XIV в. он написал Жития Стефана Дечанского, кор. Стефана Душана и самого Даниила II; стиль его повествования ближе к стилю Феодосия, чем к манере письма непосредственного предшественника. После 1375 г. «2-й продолжатель» дополнил свод краткими известиями о поставлении 3 Сербских патриархов — Иоанникия, Саввы и Ефрема.
В отечественной научной лит-ре (см., напр.: История рус. лит-ры. М.; Л., 1946. Т. 2. Ч. 1. С. 175; Сиренов А. В. Степенная книга: История текста. М., 2007. С. 371-373) можно встретить мнения о сходстве житийного цикла архиеп. Даниила и его преемников с позднейшей рус. Степенной книгой, однако эта аналогия представляется достаточно отдаленной, не выходящей за пределы самой общей типологии (достаточно сказать, что в серб. цикле в отличие от рус. свода XVI в. жития правителей и церковных иерархов образуют 2 параллельных ряда, а не систему «степеней»). В серб. средневековом изобразительном искусстве аналогом агиографического цикла архиеп. Даниила выступает созданная под его несомненным влиянием композиция «Лоза Неманичей», построенная по аналогии с «Древом Иессеевым» и получившая распространение во фресковых ансамблях соборных храмов с 30-х гг. XIV в. (Дечаны, Печ и более поздние стенописные циклы).
Новый период активизации творчества серб. агиографов приходится на кон. XIV — 1-ю треть XV в. и был вызван сочетанием разнородных причин: тур. завоевания Балканских стран и распространения учения исихазма среди серб. монашества. Трагическая гибель кн. Лазаря в битве на Косовом поле (1389) и установление в скором времени его церковного почитания сопровождались созданием значительного числа посвященных ему житийных текстов, Похвальных слов и плачей, несмотря на то что пространное житие не было написано. Подобная «избыточность» текстов, связанных с культом кн. Лазаря и написанных современниками событий, служит ярким свидетельством того, сколь глубокое впечатление произвела гибель правителя на тогдашнее серб. общество. Автором 3 из них — Похвального слова, проложного Жития и «исторического» слова — был Сербский патриарх Даниил III. Созданный им разножанровый цикл (в к-рый также входит и служба кн. Лазарю) объединяет трактовка косовского подвига князя как мученической победы, триумфа Царства Небесного над царством земным; при этом «историческое» слово стилистически и типологически обнаруживает близость к жанру русских воинских повестей. Отдельные памятники цикла Даниила как бы дублируют сочинения др. авторов, известных по имени и безымянных: наряду с «историческим» словом патриарха существует и «Слово о кн. Лазаре», а также летописное Житие (после 1402); аналог проложному Житию составляет краткое Житие, написанное до 1398 г. и снабженное пространными стихами в начале и конце текста; наконец, Похвальному слову соответствует даже 2 текста — поэтичная Похвала мон. Евфимии, вышитая в 1402 г. на покрове для гробницы кн. Лазаря, и написанное в пышном стиле «плетения словес» сочинение Антония Рафаила Эпактита. Кроме сочинений, посвященных князю-мученику, Даниилом были составлены проложные Жития святых Саввы и Симеона Сербских и кор. Милутина.
В то же время в Сербии и на Афоне было создано 2 монашеских жития, посвященные игум. Русского вмч. Пантелеимона мон-ря старцу Исаии (отождествляемому с соименным переводчиком на слав. яз. «Ареопагитик») и Сербскому патриарху Ефрему. Первое, написанное, вероятно, одним из учеников Исаии, принадлежит к тому же кругу произведений, что и греч. Житие прп. Ромила Видинского (см. разд. «Болгарская»), и оценивается как «одно из лучших кратких жизнеописаний в средневековой сербской литературе» (Кашанин. 1975. С. 285). Написанное в 1402 г. еп. Печским Марком Житие его учителя, патриарха Ефрема, в жанровом отношении близкое к проложным житиям, посвящено почти исключительно пустынножительному периоду биографии последнего.
Большое значение для судьбы серб. Ж. л. имели последствия османского завоевания Болгарии в кон. XIV в., когда болг. книжники, представители книжно-лит. школы Тырновского патриарха Евфимия, нашли прибежище при дворах серб. правителей и церковных иерархов, в первую очередь деспота Стефана Лазаревича. Написанные ими жития серб. святых (Григорий Цамблак о Стефане Дечанском) и Житие деспота Стефана (Константин Костенечский) рассмотрены в разд. о болг. Ж. л.
В последние годы существования полунезависимого серб. деспотства под властью династии Бранковичей со столицей в Смедереве создается 2 сказания о перенесении мощей ап. Луки из Рогоса (1453), написанные в традиционно риторическом стиле «трансляций», вместе с более ранней повестью Григория Цамблака о мощах прп. Параскевы (Петки). Их появление свидетельствует об общенациональном значении культа христ. реликвий.
Лит. деятельность наиболее продуктивных серб. агиографов-святогорцев 2-й четв. XV — 1-й пол. XVI в. Пахомия Логофета и Льва Аникиты Филолога целиком посвящена рус. тематике (см. в разд. «Восточнославянская Ж. л.»). Творчество книжников 2-й пол. XV в., связанных с возрожденным в 1469 г. Рильским мон-рем (Владислав Грамматик, Димитрий Кантакузин), в одинаковой степени принадлежит как болг., так и серб. лит-ре. В полной мере это относится и к агиографам т. н. софийской книжной школы 1-й пол.- сер. XVI в. (см. разд. «Болгарская»).
Специального изучения в ряду слав. житий новомучеников, пострадавших от мусульман в Османской империи, заслуживает стоящее (наряду с Житием нмч. Георгия Нового Кратовского) у истоков традиции пространное Житие Иоанна Нового, замученного ок. 1510 г. в Серрах. Памятник, греч. текст к-рого неизвестен, несомненно близок по времени к описанным в нем событиям и сохранился в единственном (к сожалению, дефектном) списке посл. четв. XVI в. (ОГНБ. № 1/119).
В остальном в серб. Ж. л. в посл. четв. XV-XVI в. преобладают проложные, но при этом достаточно пространные жития. На Афоне в начале периода было написано (вероятно, доместиком Геннадием Святогорцем) Житие прп. Петра Афонского как сопровождение слав. службы ему, представляющее в сравнении с пространным греч. текстом самостоятельную версию (Трифуновић. 1990. С. 11-21, 28). В 1-й пол. XVI в. на Фрушка-Горе в Среме, отданном венг. королями в держание отпрыскам династии Бранковичей и населенном сербами, создается цикл проложных житий, посвященных последним представителям этого рода и повествующих о трагических событиях серб. истории накануне и после утраты национальной независимости. Это Житие деспота Стефана Слепого (написано до 1502), его сына митр. Унгро-Влахийского Максима (деспота Георгия, создано в 1523) и жены Ангелины (1530?). Последними в этом ряду стоят «историческое» и Похвальное слова деспоту Стефану Штиляновичу (Ɨ после 1540) — вассалу венг. кор. Фердинанда и защитнику сербов от тур. набегов; датировка этих текстов колеблется от сер. XVI в. до нач. 30-х гг. XVII в. (Jовановић. 1978; Богдановић. 1980. С. 270-271).
Завершающим этапом развития средневек. серб. Ж. л. является творчество Печского патриарха Паисия (Яневаца): в 1629 г. в связи с открытием мощей кор. Стефана Первовенчанного он написал проложное Житие для службы ему. После 1642 г. патриарх создал пространное Житие царя Уроша (Стефана Уроша V, которого автор представляет как царя-мученика), основанное на исторических источниках (летописи, родословы, царская грамота Сербской Патриархии) и обширном фольклорном материале, его пространный заголовок свидетельствует о новых лит. веяниях. Ядро повествования исторически недостоверно, в его основу положена известная с XV в. легенда об убийстве Уроша его вассалами братьями Мрнявчевичами (Вукашином и Углешей), собственно Житие сопровождает своеобразное резюме средневек. серб. истории, доведенное до завоевания страны османами в 50-х гг. XV в.
В XVI-XVII вв. пространные жития серб. святых получают широкое распространение в рус. книжности (в частности, число рус. списков Феодосиева Жития свт. Саввы и Похвального слова святым Симеону и Савве Сербским существенно превышает количество сербских, достигая 80 — см.: Гаврюшина Л. К. Рус. рукописная традиция Жития Саввы Сербского // ССл. № 1. С. 68-82). В состав ВМЧ пришедшие на Русь памятники серб. агиографии были включены неравномерно. Полностью в них вошли (только в московские комплекты) Повесть о перенесении мощей прп. Параскевы (Петки), Житие свт. Саввы и Похвальное слово святым Симеону и Савве. Кроме того, эпизод Жития свт. Саввы, посвященный гибели болг. царя Калояна во время осады Фессалоники, был включен в цикл посмертных Чудес вмч. Димитрия Солунского под 26 окт. под заглавием «Чудо о Аскалоне (!) царе». Житие Стефана Дечанского послужило источником 2 пространных (составляющих ок. половины объема исходного текста) Чудес свт. Николая Чудотворца, включенных в этот агиографический свод под 6 дек. и под 9 мая (позднее они вошли во все печатные издания службы святому, Жития и чудес этого святого XVII в. и в старообрядческие перепечатки XVIII-XIX вв.). В 1-й четв. XVI в. Жития святых Саввы, Стефана Дечанского и Стефана Лазаревича послужили основными источниками сведений по визант. и южнослав. истории кон. XII — 1-й пол. XV в. при составлении Русского Хронографа и благодаря его посредству вошли в состав Никоновской летописи (1526-1530) и Лицевого летописного свода (сер. XVI в.). Включенные в состав цикла посмертных Чудес свт. Николая Мирликийского фрагменты Жития св. Стефана Дечанского были отдельно проиллюстрированы в современном своду лицевом Житии святителя, созданном кремлевскими мастерами. В 40-х гг. XVI в. в связи с включением ряда серб. святых в число особо чтимых на Руси создаются (на основе пространных) проложные Жития свт. Саввы и св. Стефана Дечанского.
Изд.: Доментиjан, иером. [ошиб.] Живот св. Саве / Изд.: Ђ. Даничић. Београд, 1860 (= Теодосиjе Хиландарац. Живот св. Саве / Изд.: Ђ. Даничић; приред.: Ђ. Трифуновић. Београд, 1973); он же. Житиjе св. Саве / Изд.: Љ. Jухас-Георгиевска, Т. Jовановић. Београд, 2001; Данило, архиеп. Животи краљева и архиепископа српских / Изд.: Ђ. Даничић. Загреб, 1866; Яцимирский А. И. Мелкие тексты и заметки по старинной слав. и рус. лит-рам // ИОРЯС. 1906. Т. 11. Кн. 2. С. 301-303. № 43 [проложное Житие Стефана Дечанского по ркп. XV в.]; Мошин В. А. Житие старца Исайи, игум. Русского мон-ря на Афоне // Юбил. сб. Рус. археол. об-ва в Королевстве Югославии. Белград, 1940. Т. 3. С. 125-167; Трифуновић Ђ. Српски средњовек. списи о кн. Лазару и косовском боjу. Крушевац, 1968. С. 13-39, 78-112, 162-183; он же. Слово о св. кн. Лазару Андониjа Рафаила // Стара српска књижевност. Нови Сад; Београд, 1976. С. 147-178; он же. Писац и преводилац инок Исаjа. Београд, 1980. С. 69-77; Jовановић Т. Похвала св. Симеону и св. Сави Теодосиjа Хиландараца // Књижевна историjа. Београд, 1973. Књ. 5/20. С. 703-778; он же. Похвално и Повесно слово деспоту Стефану Штиљановићу // Там же. 1978. Т. 10/38. C. 335-377; он же. Књижевно дело патриjарха Паjсеjа. Београд, 2001; Богдановић Д. Пролошко житиjе св. Саве у рус. ркп. XVI в. // ЗбМСКJ. 1975. Књ. 23/2. С. 256-258; он же. Кратко житиjе св. Саве // Там же. 1976. Књ. 24/1. С. 5-32; он же. Пролошко житиjе св. Симеона // ПКJИФ. 1976. Књ. 42. С. 9-19; Михаила Г. Первое печатное произведение Григория Цамблака и слав.-румын. традиция его распространения // Palaeobulgarica. 1982. № 6. С. 16-20; Ковачевић Р. Прилог проучавању пролошког житиjа св. Саве // Проучавање средњовек. jужнослов. рукописа. Београд, 1995. С. 167-174; Житиjе св. кн. Лазара / Изд.: Ђ. Трифуновић. Београд, 1989; Студенички типик: Цароставник манастира Студеница / Изд.: Т. Jовановић. Београд, 1994; Шпадиjер И. Два преписа пролошког житиjа св. Петра Коришког // АрхПр. 1997. Бр. 19. С. 211-216; Сава, св. Сабрана дела / Изд.: Т. Jовановић. Београд, 1998. С. 147-192; Стефан Првовенчани. Сабрана дела / Изд.: Љ. Jухас-Георгиевска, Т. Jовановић. Београд, 1999. С. 15-107.
Лит.: Новаковић C. Први основе слов. књижевности међу балканским словенима: Легенда о Владимиру и Косари. Београд, 1893; Розанов С. П. Житие серб. деспота Стефана Лазаревича и Русский Хронограф // ИОРЯС. 1906. Т. 11. Кн. 2. С. 62-97; он же. Источники, время составления и личность составителя Феодосиевской редакции жития Саввы Сербского // Там же. 1911. Т. 16. Кн. 1. С. 136-209; Ћоровић В. Доментиjан и Данило // ПКJИФ. 1921. Књ. 1. С. 21-33; он же. Међусобни одношаj биографиjа Стевана Немање // Светосавски зб. Београд, 1936. Књ. 1. С. 13-38; Динић М. Доментиjан и Теодосиjе // ПКJИФ. 1959. Књ. 25. С. 5-12; Наумов Е. П. Кем написано Второе житие Стефана Дечанского? // Слав. архив: Сб. ст. и мат-лов. М., 1963. С. 60-71; Трифуновић Ђ. Доментиjан. Београд, 1963; он же. Портрет у српскоj средњовек. књижевности. Крушевац, 1971; он же. Азбучник српских средњовек. књижевних поjмова. Београд, 19902. С. 47-77, 248-252, 274-280, 283-287, 317-321; Hafner S. Studien zur altserbischen dynastischen Historiographie. Münch., 1964; Павловић Л. Култови лица код Срба и Македонаца: (Ист.-етногр. расправа). Смедерево, 1965. С. 33-196, 253-277; Мулич М. Сербские агиографы XIII-XV вв. и особенности их стиля // ТОДРЛ. 1968. Т. 23. С. 127-142; Стара књижевност / Приред.: Ђ. Трифуновић. Београд, 19722. С. 11-30, 180-200, 315-317, 337-428, 442-483, 497-517, 548-560; Birnbaum H. The Old Serbian Vita // Aspects of the Balkans: Continuity and Change. Hague, 1972. P. 243-284; idem. Trends and Traditions in Medieval Serbian Biography // Slavic Poetics: Essays in honor of Kiril Taranovsky. Hague, 1973. P. 41-48; Müller-Landau C. Studien zum Stil der Sava-Vita Teodosijes. Münch., 1972; Богдановић Д. Нека запажања о рус. редакциjи Теодосиjевог житиjа св. Саве // ЗбМCКJ. 1975. Књ. 23/2. С. 249-255; он же. Историjа старе српске књижевности. Београд, 1980, 19912. С. 70-74, 150-162, 166-173, 175-181, 191-198, 201-208, 216-220, 227-229, 244-249, 258-259, 262-263, 267-271; Кашанин М. Српска књижевност у средњем веку. Београд, 1975. С. 124-131, 136-151, 154-177, 190-251, 283-286, 289-292, 295-298, 312-327, 332-348, 354-358, 392-393, 398-423, 443-449, 465-471, 489-492; Мошин В. А. Житиjе краља Милутина према архиеп. Данилу II и Милутиновоj повељи-аутобиографиjи. Београд, 1976. С. 109-136; Mircea I.-R. Sur une edition critique des Vies des rois et des archevêques serbes // Текстологиja средњовек. jужнослов. књижевности. Београд, 1981. С. 299-307; Михаљчић Р. Лазар Хребељановић: Историjа, култ, предање. Београд, 1984; Морозов В. В. Южные славяне на миниатюрах Лицевого летописного свода // Изв. на НБКМ. София, 1992. Т. 20/26. С. 67-80; Гаврюшина Л. К. К проблеме ист. развития жанра жития в средневек. лит-рах Сербии и Руси // Славянские лит-ры: Докл. рос. делегации / XI Междунар. съезд славистов. М., 1993. С. 42-55; Лексикон српског средњег века. Београд, 1999. С. 192-194, 426-427, 566-568, 579-580, 667-668; Podskalsky G. Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien, 865-1459. Münch., 2000. S. 334-339, 343-425; Георгиева-Гагова Н., Шпадиjер И. Две вариjанте анахоретског типа у jужнослов. хагиографиjи: (Теодосиjево Житиjе св. Петра Коришког и Jевтимиjево Житиjе св. Jована Рилског) // Словенско средњовек. наслеђе: Зб. посвећен проф. Ђ. Трифуновићу. Београд, 2001. С. 159-176; Благоjевић М. Неманићи и Лазаревићи и српска средњовек. државност. Београд, 2004. С. 51-132; Марjановић-Душанић С. Cвети краљ: Култ Стефана Дечанског. Београд, 2007. С. 85-368; Петковић C. Срби светитељи у сликарству правосл. народа. Нови Сад, 2007. С. 91-104, 140-152.
А. А. Турилов
Ж. л. в Молдавии и Румынии
первоначально распространялась на слав. и греч. языках. Первыми произведениями румын. агиографии считаются написанные в нач. ХV в. на церковнослав. языке Григорием Цамблаком Мученичество вмч. Иоанна Нового Сучавского и его проложное его Житие.
К оригинальным памятникам Ж. л. следует также отнести написанное в Валахии на греч. языке Житие свт. Нифона II, патриарха К-польского, автором к-рого был прот. Афона Гавриил. Биография этого иерарха дана на фоне исторических событий, происходивших в нач. ХVI в. в Валахии. Патриарх Нифонт II († 1508) — 1-й святой, канонизированный не только в Валахии (1517), но и на территории совр. Румынии.
Первые жития святых на национальном языке появились в ХVII в. В 1643 г. вышла кн. «Казания» митр. Молдавии Варлаама, во 2-ю часть к-рой были включены впервые изложенные на молдав. языке жития ряда святых, в частности прп. Симеона Столпника, вмч. Димитрия Солунского, свт. Николая Чудотворца, вмч. Феодора Тирона, вмч. Георгия Победоносца и особо почитаемых в Румынской Церкви вмч. Иоанна Нового и прп. Параскевы (Петки) Тырновской. В 1682-1686 гг. митр. Молдавии Досифей издал 4 тома «Житий и деяний святых», над к-рыми работал 25 лет. 1-й том охватывает месяцы сент.-дек., 2-й — янв.-февр., 3-й — март-июнь и 4-й — июль-авг. Источниками для этого издания были прежде всего «Минеи» Досифея Маргуниоса и «Жития святых» Симеона Метафраста, отпечатанные в греч. типографии Н. Гликиса в Венеции. Митр. Досифей использовал и др. греч. тексты, а также нек-рые слав. переводы, известные в Молдавии. Он упоминает ряд молдав. святых, своих современников, официально не канонизированных: Парфения из Агапии, Епифания Воронецкого, Кириака из Тазлэу, Кириака из Бисерикани и др. Хотя четырехтомник митр. Досифея являлся переводом греч. и слав. текстов, он значительно повлиял на создание молдав. и румын. Ж. л., становление письменного языка, выработку терминологии и отбор персоналий.
Из широко распространенных житий на греч. языке следует отметить Житие нмч. Иоанна Валаха (Румына), уроженца Олтении, казненного турками в К-поле в 1662 г. за отказ изменить правосл. вере и принять ислам. Он был тогда же канонизирован К-польской Патриархией. Его Житие было включено в ряд др. текстов, неоднократно публиковавшихся. Параллельно на территории Молдавии осуществлялись переводы житий и на слав. язык. Примерно тогда же, в ХVII в., на слав. язык в монастыре Бисерикани было переведено Житие Андрея Критского. Следует отметить издания, посвященные и нек-рым др. святым, напр. прп. Василию Новому, прп. Никодиму.
В 1758 г. Евлогий Даскэлул из Ясс закончил работу над переводом сборника житий святых со славянского языка (не изд.). В рукописи остались и некоторые др. переводы, 2 из них находилось в б-ке Историко-археологического церковного об-ва в Кишинёве. В 1782 г. Макарием из Бистрицы с греческого языка были переведены «Жития святых» (опубл. позднее). Важным событием стала публикация 12 томов «Житий святых», выпущенных в типографии Нямецкого мон-ря в 1807-1815 гг. Это был перевод, осуществленный иеродиак. Стефаном, учеником прп. Паисия (Величковского), с одного из изданий Миней-Четьих свт. Димитрия Ростовского.
В равной мере румын. и рус. Ж. л. принадлежат Жития прп. Паисия (Величковского), написанные в 1-й пол. XIX в. Ок. 1814 г., через 20 лет после кончины подвижника, его Житие, освещающее в основном последние 30 лет земного бытия «родимца полтавского», было составлено одним из младших его учеников схим. Митрофаном (изд. впервые в 2004?). Поскольку его труд остался не вполне отредактированным, работа была поручена даскалу схим. Исааку, редакция которого (на румын. яз.), также не вполне завершенная, считается в наст. время утраченной. Иноки Нямецкого мон-ря обратились с просьбой о написании Жития к иеродиак. Григорию (митрополит Унгро-Влахийский; 1823-1824), созданная к-рым «Краткая повесть о жизни блаженного отца нашего Паисия» была издана в обители в 1817 г. Однако она не удовлетворила слав. часть монастырского братства, по инициативе к-рой мон. Платон, состоявший ранее писцом при прп. Паисии, написал в духе традиц. агиографических норм «Житие старца Паисия, собранное от многих писателей», напечатанное в Нямецком мон-ре в 1836 г. (Прп. Паисий Величковский: Автобиография, жизнеописание и избр. творения по рукоп. источникам XVIII-XIX вв. / Рус. на Афоне Св.-Пантелеимонов мон-рь. М., 2004. С. 17-19, 120-121).
В 1843 г. по инициативе Валашского митр. Григория в мон-ре Кэлдэрушани был подготовлен 1-й т. «Житий святых» (не изд.). В 1906 г. в Кишинёвской епархиальной типографии вышел 1-й т. из многотомных «Житий святых», озаглавленный «Виециле сфинцилор пе лимба молдовеняскэ. Ынтокмите пе темейул кэрцилор «Виециле сфинцилор» але сф. Димитрие ал Ростовулуй…» (Жития святых на молдавском языке. Составлены на основе книг «Жития святых» св. Димитрия Ростовского…). Текст был набран кириллицей, распространенной тогда в Бессарабии. В 1916 г. вышел 8-й т. этого издания. Объем каждого из томов составлял 500-600 с.
В соответствии с решением Свящ. Синода Румынской Православной Церкви от 28 февр. 1950 г. в окт. 1955 г. впервые канонизировали ряд правосл. румын. святых. В связи с этим были написаны Жития новопрославленных святых: святителей Каллиника из Черники, Илии Иореста и Саввы Бранковича, митрополитов Трансильвании, свт. Иосифа Нового из Партоша, митрополита Баната; мучеников Виссариона Сарая, Софрония из Чоары и Николая Опри из Сэлиште. В июне 1992 г. Синод канонизировал господаря Молдавии Стефана Великого, сыгравшего огромную роль в строительстве новых церквей и мон-рей, оказавшего сильнейшее влияние на развитие церковной жизни и культуры Молдавского княжества.
Лит.: Арсений (Стадницкий), еп. Исследования и монографии по истории Молдавской Церкви. СПб., 1904; Iorga N. Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a Românelor. Vălenii-de-Munte, 1908-1909. 2 vol.; Ciobanu S. Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă. Chişinău, 1923; Popovschi N. Istoria Bisericii din Basarabia. Chişinău, 1931; Stan L. Sfinţii români. Sibiu, 1945; Русев П., Давидов А. Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска лит-ра. София, 1966; Nestor (Vornicescu), metr. Sfinţii români şi apărători ai Legii strămoşeşti. Bucur., 1987; Mihail P. Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia. Chişinău, 1993; Păcurariu. IBOR. Vol. 2.
В. Я. Гросул
Западная Ж. л.
рассматривается в 2 разделах. 1-й разд. посвящен основным вехам развития лат. Ж. л. в Зап. Европе II-XVII вв. Во 2-м разд. говорится о Ж. л. на народных языках в Зап. Европе. Части этого раздела расположены по географическому принципу (англосакс. и англ., ирл. и шотл., сканд., франц., нем., итал., испан. и португ., венг., чеш., польск. Ж. л.). При необходимости дается общий обзор развития Ж. л. (как на латыни, так и на народных языках) в отдельных регионах с особым вниманием к оформлению почитания местных святых.
Основная часть лат. агиографических сочинений издана в сериях «Acta Sanctorum» и «Patrologia Latina», а также в «Monumenta Germaniae Historica». Масштабные публикации Ж. л. отдельных стран осуществлялись в рамках национальных проектов по изданию важнейших исторических источников (напр., «Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana» в Венгрии, «Monumenta Poloniae Historica» в Польше и др.). Изданий единого корпуса Ж. л. на народных языках не существует. Основным справочником по лат. Ж. л. является «Bibliotheca Hagiographica Latina».
Латинская
подобно греческой, зародилась как повествование о мучениках, пример стойкости к-рых был призван пробудить в христианах готовность в случае гонений пострадать за Христа. Самыми ранними из сохранившихся памятников лат. Ж. л. являются Мученичества Сциллийских мучеников († 180) и св. Перпетуи и Фелицитаты († 203). Мученичество Сциллийских мучеников имеет форму протокола допроса. В основе Мученичества Перпетуи и Фелицитаты лежат автобиографические записи мучеников (в частности, об их видениях) и акты, которые позднее были скомпилированы и снабжены пояснительными вставками редактора и предисловием. По ряду стилистических признаков составление окончательной редакции Мученичества приписывается Тертуллиану (CPL, N 32; см.: Bestiaensen A. A. Atti e Passioni dei Martiri. R.; Mil., 1987. P. 109-110). Этот памятник Ж. л., созданный в христ. общине Карфагена, по своему значению может быть сопоставлен с греч. Мученичеством сщмч. Поликарпа Смирнского. Экзальтированность в описании видений и мученических страданий Перпетуи и Фелицитаты свидетельствует, возможно, о влиянии ереси монтанизма (см. ст. Монтан). Подобные черты характерны и для др. мученичеств африканского происхождения, созданных в период гонений, напр. для Мученичества святых Марина и Иакова (CPL, N 2051), пострадавших при имп. Валериане (253-260). В IV — 1-й пол. V в. эта тенденция нашла отражение в корпусе мученичеств, созданных донатистами, к-рые воспринимали себя как «Церковь мучеников», преемницу древней гонимой Церкви (CPL, N 719-721). Акты мучеников продолжали появляться до конца эпохи гонений на христиан, напр. Акты св. Максимилиана († 295, Тевеста, Нумидия). Особняком стоят 2 версии Актов сщмч. Киприана, еп. Карфагенского, составленные на основе 2 протоколов допросов и 2 приговоров (257 г. об изгнании и 258 г. о смертной казни). После кончины сщмч. Киприана его ученик диак. Понтий составил Житие святого — 1-й пространный панегирик в лит-ре о мучениках.
Проповеди (sermones) о святых и мучениках в большом количестве начали появляться в IV-V вв., они часто встречаются в гомилетическом наследии мн. авторов — свт. Амвросия Медиоланского, блж. Августина, свт. Льва I Великого. Древнейшей проповедью в честь мученика считается Беседа о св. Аркадии, пострадавшем в г. Цезарея Мавританская (сохр. в составе корпуса проповедей свт. Зинона Веронского — CPL, N 2059). Отличие проповеди от сочинений, написанных в жанре похвального слова, состоит в относительной краткости изложения, наличии общих мест и нравственных наставлений, не всегда связанных с темой жизни святого, тогда как в похвальном слове главный герой, к-рому посвящено сочинение, практически всегда находится в центре внимания. В рамках проповеди также создавались агиографические произведения о мучениках (см., напр., т. н. гомилиарий Евсевия Галликана).
Почти все лат. агиографические сочинения о мучениках эпохи гонений происходят из рим. пров. Африка (CPL, N 2049-2055), за исключением испан. Мученичества св. Фруктуоза, еп. Тарраконского (CPL, N 2056), к-рое было создано под африкан. влиянием. Особняком стоит и небольшое число Мученичеств иллирийско-фракийского происхождения: мучеников Серена Сирмийского, Иринея Сирмийского, Иулия Доростольского (CPL, N 2057-2058). Вероятно, мученичества пострадавших во время гонений нач. IV в. были созданы уже после признания христианства при имп. Константине I Великом. Стремление сохранить живую память о мучениках, чтобы она со временем не исчезла и не смешалась с вымыслом, было причиной появления большого количества мученичеств в IV-V вв. Именно в этом видели свою задачу анонимный составитель Мученичества Генесия Арелатского и свт. Евхерий Лугдунский, автор Мученичества Маврикия Агаунского. Эти писатели закрепили бытовавшие в их время предания о мучениках, в т. ч. и нек-рые легенды.
Христ. поэт Пруденций (IV-V вв.) предпринял первую попытку создать перечень мучеников и сведений о них в соч. «О венцах мучеников». Пруденций отмечал, что от нек-рых мучеников не сохранилось никаких актов, мн. протоколы были уничтожены язычниками. К рубежу V и VI вв., периоду гонений на православных в Африке со стороны вандалов-ариан, относится новый расцвет мученической агиографии. Рассказы об исповедниках вошли в состав «Истории гонений в Африканской провинции» Виктора, еп. г. Вита. Появился ряд самостоятельных произведений, как, напр., Мученичество 7 монахов. К этой традиции частично примыкает Житие свт. Фульгенция, еп. Руспийского, приписываемое карфагенскому диак. Ферранду (VI в.).
Поворотным этапом в развитии зап. Ж. л. стало появление 2 лат. переводов Жития прп. Антония Великого, из к-рых наиболее распространенным стал перевод Евагрия Антиохийского (выполнен до 378). Под его влиянием блж. Иероним Стридонский обратился к теме вост. подвижников (Жития прп. Малха, прп. Илариона Великого, прп. Павла Фивейского), а Сульпиций Север написал цикл произведений о свт. Мартине Милостивом. В «Диалогах» Сульпиций говорит о своей цели: он хотел продемонстрировать, что свт. Мартин не только подобен вост. подвижникам, но и превзошел их всех (Sulp. Sev. Dial. 24 sqq.). Так в лат. Ж. л. впервые появился образ епископа-подвижника (confessor), отчасти основанный на ранних житиях монахов-аскетов. Благодаря изысканному языку, выверенной композиции и особому стилю сочинения Сульпиция стали одними из лучших памятников позднеантичной лит-ры и оказали огромное влияние на лат. Ж. л. Достоверность сведений, к-рые содержатся в цикле о свт. Мартине, неоднократно ставилась под сомнение (Э. Ш. Бабю, Т. Барнс), поэтому сочинения Сульпиция остаются предметом научной полемики. В ранних галльских агиографических произведениях особое внимание уделялось аскезе, а не пастырской деятельности святого. Наиболее ярко это проявилось в галльской Ж. л.- у Сульпиция Севера, свт. Илария Арелатского (Житие свт. Гонората Арелатского) и особенно в анонимном Житии свт. Иуста Лугдунского. В сочинениях 2-й пол. V в. тема аскетических подвигов святых уже не является главной. Так, Констанций Лугдунский и Гонорат Массилийский сосредоточились на подробном описании епископской и общественной деятельности свт. Германа, еп. Автиссиодурского, и свт. Илария Арелатского.
Памятники галльской агиографии находились под сильным влиянием произведений ранней латинской Ж. л., созданной за пределами Галлии, прежде всего Жития свт. Амвросия Медиоланского, написанного диак. Павлином, и Жития блж. Августина, составленного еп. Поссидием. Первое было написано в Италии, 2-е — в Африке. В этих Житиях подробно рассказывалось о строгом монашеском образе жизни святых, стремившихся ввести обет целомудрия для клириков, однако акцент в повествовании был смещен на церковно-политическую деятельность свт. Амвросия и блж. Августина. В первую очередь они представлены как пастыри, проповедники, активно боровшиеся с ересями. Еп. Поссидий особо отметил писательскую деятельность блж. Августина, приложив к его Житию список основных сочинений (Indiculum) (этот элемент впосл. был использован Гоноратом Массилийским). Житие блж. Августина отличается от традиций «экзальтированной» мученической африкан. агиографии и в нек-ром отношении может быть сопоставлено с Житием свт. Фульгенция Руспийского.
В нач. VI в. в Галлии появился новый жанр Ж. л.- жития (деяния) настоятелей мон-рей. Первым памятником этого типа стало Житие Юрских отцов Романа, Лупикина, Евгенда (20-е гг. VI в.), к-рое представляло собой последовательное описание жизни 3 первых настоятелей мон-рей в горах Юра. В VII в. эта традиция была продолжена в монастыре Хабенд (ныне Ремирмон, Франция) (Жития Хабендских аббатов Амата, Ромарика и Адельфия) и в мон-ре Агаун (ныне Сен-Морис, Швейцария).
В кон. V — 1-й пол. VI в., когда Галлия подверглась варварским нашествиям и была территориально поделена между варварскими и рим. правителями провинций, епископ стал изображаться не только как молитвенник и пастырь, но и как прозорливец, защитник своего города (напр., Житие св. Аниана, еп. Аврелианского). Эта тенденция отразилась и в Житии св. Геновефы (это первое в лат. агиографии житие св. подвижницы, если не считать эпитафии блж. Иеронима в честь прп. Павлы). В Житии св. Геновефы подробно описаны общественная и церковная деятельность св. девы, ее труды по строительству базилики сщмч. Дионисия Ареопагита, заботы по спасению города от голода и т. п., особо отмечены прозорливость святой и совершенные ею чудеса. Большинство житий этого периода анонимны (напр., Жития Аниана и Авита Аврелианских, Лупа Трикасского), некоторые написаны учениками и преемниками святых (Жития святителей Евтропия Аравсионского, Маурилия Андекавского).
В более традиц. стиле жизнеописания епископа-монаха составлено Житие свт. Кесария Арелатского. В работе над этим обширным сочинением в 2 книгах (в 1-й описывается жизнь святого, во 2-й — его чудеса) участвовали 5 соавторов. На основе воспоминаний современников настоятель мон-ря Лукуллан близ г. Неаполя (Кампания) Евгиппий составил Житие св. Северина, аскета и политического лидера кон. V в., объединившего вокруг себя романское население придунайской пров. Норик. Видным италийским агиографом остгот. периода был свт. Эннодий, еп. Тицина (Папии, ныне Павия), автор Житий прп. Антония Леринского и свт. Епифания, еп. Тицинского.
С сер. VI в. в лат. Ж. л. складываются региональные агиографические школы (главные из них — итало-византийская, испано-вестготская и франко-германская). Этот процесс в значительной степени стал результатом завоевательной политики имп. Юстиниана I на Западе, а также усилившейся дезинтеграции регионов бывш. Римской империи. Подчинение Африканской Церкви Александрийскому Патриархату неблагоприятно сказалось на развитии там лат. Ж. л.: африкан. агиографическая традиция постепенно затухает со 2-й пол. VI в.
В Италии, оказавшейся тесно связанной с вост. провинциями, прослеживается сильное влияние вост. (и, вероятно, не только греч.) Ж. л. Наиболее значительным агиографом кон. VI в. был папа Римский свт. Григорий I Великий. Самым известным его сочинением стали «Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов и о бессмертии души». В этом сочинении, за редким исключением (прп. Венедикт Нурсийский, к-рому посвящена вся 2-я кн. «Диалогов», единственный ранний источник об этом святом), Григорий Великий не дает полного жизнеописания святых, а сообщает о множестве чудес или видений, используя их для богословских рассуждений (напр., о бессмертии души и ее загробной участи, о чистилище). В VII в. оформилась римская агиографическая школа, возникшая на рубеже V и VI вв. Традиции этой школы сохранялись в Италии до кон. IX в. В рим. мон-рях, многие из к-рых были смешанными, греко-латинскими, происходило активное усвоение вост. агиографического наследия. Первоначально представители римской школы, видимо, занимались переводами греч. текстов на латынь, а с сер. VIII в. также и наоборот (напр., Римский папа Захария перевел с латинского на греч. яз. «Диалоги» Григория Великого — BHG, N 1445y — 1448b). Позднее представителями этой школы было составлено множество житий древних мучеников Рима и Центр. Италии. Эти чаще всего легендарные повествования, практически однотипные, создавались по единому методу. При работе над ними использовались различные сюжеты, заимствованные из вост. житий, которые дополнялись краткими сведениями общего характера о том или ином мученике. Нередко в новое лат. житие целиком включался к.-л. памятник вост. Ж. л. Так, в основу Мученичества св. Доната, еп. г. Арреций (ныне Ареццо), легло Житие сщмч. Доната Эврийского. Составители этих текстов не всегда заботились о хронологической точности, вслед. чего один и тот же святой в одном памятнике мог быть назван современником Римского папы Урбана I (1-я пол. III в.), имп. Юлиана Отступника (сер. IV в.) и остгот. кор. Тотилы (сер. VI в.). Не имея точных сведений о происхождении святого, агиографы стремились приписать ему знатное происхождение — от консула, префекта Рима и т. п., что часто порождало ошибки. Так, в ряде подобных житий рим. мч. пресв. Александр был спутан с епископом Римским Александром I. В кон. VIII в. появился цикл легенд об умбрийских святых разного времени, к-рых составители искусственно объединили родственными связями (Janningus C. Tractatus praeliminarius ad t. I Iulii de sanctis XII sociis e Syria in Umbria advenis // ActaSS. Iul. T. 1. P. 1-72). Можно, хотя и редко, встретить полный перевод греч. житийного текста, в к-ром изменено лишь имя святого. Так обстоит дело с греч. Мученичеством св. Татианы и его лат. аналогом, Мученичеством св. Мартины. Со 2-й пол. VIII в. представителями римской школы создавались жития зап. мучеников, предназначенные для грекоязычного читателя. Тогда же влияние этой школы обнаруживается и в сев. областях Италии (напр., Мученичество Ермагоры и Фортуната Аквилейских). Лишь под франк. влиянием в Сев. Италии (в королевстве лангобардов) произошло возрождение агиографической традиции. В кон. VIII в. были составлены Жития древних местных епископов — Филастрия Бриксийского, Гауденция Новарского (по заказу еп. Льва), Зинона Веронского (сост. Нотарий Коронат), к-рые по форме и содержанию близки к жанру похвального слова.
Житие блаженного Августина, составленное Поссидием. Англия. XII в. (Ljnd. Brit. Lib. Arundel. 36. Fol. 1r)
Житие блаженного Августина, составленное Поссидием. Англия. XII в. (Ljnd. Brit. Lib. Arundel. 36. Fol. 1r)
Во 2-й пол. VI в., ко времени понтификата Пелагия II, в Риме появился 1-й свод жизнеописаний Римских епископов с ап. Петра, известный как Liber Pontificalis. Сохранившаяся версия относится к кон. IX в., дополнена в XII в. Традиция составления списков предстоятелей важнейших кафедр восходит к III в., подобные списки были известны Евсевию Кесарийскому. В Риме известен Каталог папы Либерия, в нем указаны только даты и продолжительность понтификата Римских епископов, лишь в конце памятника есть заметка о постройках епископа Юлия I в Риме (сер. IV в.). В Liber Pontificalis была сделана попытка собрать все известные сведения о папах. В Италии этот жанр привился лишь в бывш. центре визант. владений Равенне, где в IX в. мон. Агнелл из мон-ря св. Андрея составил «Книгу Равеннских понтификов» (Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis).
В испано-вестготской Ж. л. в VI-VII вв. сохранялся интерес к традиц. сюжетам, появились новые мученичества древних святых, однако в противоположность римской школе вестгот. авторы отличались более строгим отношением к своей работе. В большинстве случаев агиографические сочинения этого типа представляли собой расширенные прозаические переработки гимнов Пруденция (напр., Мученичество св. Евлалии Эмеритской), реже — сборники кратких сведений из устных легенд (напр., Мученичество св. Евлалии Барцинонской, созданное по распоряжению еп. Кирика; приписываемое свт. Браулиону «Мученичество бесчисленных Цезаравгустанских мучеников»). Кроме подвигов мучеников единственно достойным описания считался образ подвижника-монаха (Житие прп. Емилиана, составленное Браулионом), иногда — епископа-монаха (Житие свт. Фруктуоза Бракарского, к-рое приписывается Валерию Бергиденскому (кон. VIII в.), но могло быть составлено и позднее). Особняком стоит произведение, приписываемое Эмеритскому диак. Павлу (сер. VII в., в действительности, возможно, VIII в.),- Жития Эмеритских отцов,- в котором представлена история Церкви в г. Эмерита Августа (ныне Мерида) в кон. VI — нач. VII в. (центральное место занимает описание епископата свт. Масоны). В памятнике также содержатся рассказы о чудесах и видениях, происшедших в Эмерите. В мосарабской Ж. л. эпохи мусульм. господства актуальным вновь стал образ мученика. Сщмч. Евлогий Кордовский составил «Памятную книгу святых» (Memoriale Sanctorum), посвященную новым Кордовским мученикам. После мученической кончины Евлогия его сподвижник Павел Альвар написал его Житие. В XI в. на отвоеванных у мавров территориях зарождалась новая традиция Ж. л., которая в целом хорошо вписывается в общий контекст западноевроп. агиографической традиции. Влияние григорианской реформы заметно в Житии св. Доминика Силосского, составленном его учеником Гримальдом (Гримоальдом). Доминик представлен как аскет и одновременно как церковный администратор, защитник прав Церкви от светской власти. В XI в. на территории христ. гос-в Испании возникло массовое почитание древних епископов Вестготской Церкви, были составлены их жития (напр., после перенесения мощей свт. Исидора Гиспальского (Севильского) в г. Леон было создано 2 Жития — в XI в. (неправильно приписывается Луке Туденскому) и в XII в. (краткое Житие — abbreviatio)).
В королевстве франков во 2-й пол. VI в. среди многих в жанре Ж. л. работали свт. Григорий Турский и свт. Венанций Фортунат. Первому из них принадлежит сб. кратких жизнеописаний галльских подвижников IV-VI вв. «Житие отцов» (Vita patrum), а также «Восемь книг о чудесах», в т. ч. «О славе мучеников» (De gloria martyrum), «О славе исповедников» (De gloria confessorum — краткие заметки о жизни и чудесах многих святых, в т. ч. восточных), сборники Чудес свт. Мартина Милостивого и мч. Иулиана Бриватского. Венанцию Фортунату принадлежит ряд разнородных прозаических агиографических сочинений (Мученичество сщмч. Дионисия, Житие свт. Илария Пиктавийского, Жития свт. Германа Паризийского и св. кор.-инокини Радегунды и др.) и стихотворное Житие в 4 книгах свт. Мартина Милостивого. Слава Венанция Фортуната как агиографа была столь велика, что впосл. ему стали приписывать авторство и ряда др. житий (напр., Житие свт. Медарда и проч.). Ионе из Боббио (сер. VII в.) принадлежит цикл житий, посвященных прп. Колумбану и его ученикам Евстасию и Аттале, Бертульфу и Бургундофаре. В кон. VII в. анонимный составитель Мученичества св. Прейекта Арвернского назвал Иону последним из великих агиографов.
Наряду с этими значительными фигурами известен ряд второстепенных авторов, составивших жизнеописания святых V в.: Стефан Африканец по заказу еп. Авнахария Автиссиодурского написал Житие св. Аматора, а патрикий Динамий — Житие свт. Максима Рейского. К этим памятникам близко анонимное Житие прп. Капрасия Леринского. Др. группа агиографов описывала жизнь своих современников и наставников: мон. Баудонивия составила 2-е Житие св. кор. Радегунды, Баудемунду, ученику свт. Аманда, приписывается Житие его наставника, просветителя Бельгии.
Внутренние распри во Франкском королевстве во 2-й пол. VII — 1-й пол. VIII в. привели к появлению нового типа мучеников, представителей духовенства, пострадавших от светских правителей. Наиболее известной жертвой гос. смуты стал Августодунский еп. Леодегарий, умерщвленный по приказу майордома Нейстрии Эброина. Первое, анонимное Мученичество св. Леодегария было написано в мон-ре св. Симфориана в Августодуне (ныне Отён), автором 2-го стал мон. Урсин из Локотигиака (ныне Лигюже, близ г. Пуатье). После мученической кончины Дезидерия, архиеп. Вьеннского, вестгот. кор. Сисебут составил 1-е Житие св. Дезидерия, к-рое использовал для изложения полемики с франками (франк. переработка Жития датируется VIII в.). К истории древних мучеников обращался Варнахарий из г. Лингоны (ныне Лангр). По просьбе Керавния, еп. Паризийского, он составил 2 сочинения о древних местных мучениках — Мученичество святых Спевсиппа, Елесиппа и Мелевсиппа (II в.) и Мученичество св. Дезидерия, 3-го епископа г. Лингоны, пострадавшего во время нашествия варваров (сер. IV в.).
В VIII в. во франк. Ж. л. преобладал интерес к святым эпохи Меровингов. Появились Жития св. Дезидерия, еп. г. Кадурк (ныне Каор), св. кор. Бальтхильды, св. Элигия Новиомагского (Нуайонского), св. Филиберта, святых Ландеберта (Ламберта) и Губерта, епископов Моза-Траектских (Маастрихтских), и др. Кон. VIII в. датируется творчество мон. Анзона Лобского. Подражая Сульпицию Северу, Анзон создал Жития 2 первых настоятелей мон-ря Лоб — св. Урсмара и св. Ермина (кон. VII — нач. VIII в.). В целом деятели Каролингского возрождения (кон. VIII-IX в.) не внесли ничего принципиально нового в уже сложившийся агиографический канон. В этот период появилось множество новых житий, перерабатывались древние тексты (напр., Житие св. Геновефы). Алкуин написал 2-е Житие прп. Ведаста (1-е было составлено Ионой из Боббио), еп. Иона Орлеанский — Житие свт. Губерта Моза-Траектского. Оттачивая стиль изложения, каролингские агиографы использовали уже сложившиеся лит. формы, обращаясь в основном к подвижникам прошлого, преимущественно меровингской эпохи (Житие свт. Виллиброрда, составленное Алкуином).
В ходе христианизации зарейнской Германии оформился новый образ святого — миссионера, устроителя Церкви, нередко мученика. Одним из первых и образцовых произведений Ж. л. подобного рода является Житие св. Бонифация, составленное Виллибальдом Айхштеттским. Монахиня из Хильдесхайма (ее имя неизв.) записала Жития самого Виллибальда и его брата Виннебальда. Жития миссионеров в Германии создавались до сер. XI в., наиболее значительные из них — Житие Григория Утрехтского, составленное св. Лиутгером Мюнстерским, Житие св. Лиутгера, Житие свт. Ансгара, «апостола Скандинавии» (2-я пол. IX в.), Житие сщмч. Адальберта (Войтеха) (рубеж X и XI вв.).
В каролингскую эпоху сложился жанр исторического мартиролога, близкий к Ж. л. Все сохранившиеся исторические мартирологи были созданы на франк. землях в IX в. Попытка составления 1-го подобного текста принадлежит ученому англосакс. мон. Беде Достопочтенному, который смог заполнить половину годовых памятей. Созданный им Мартиролог был дополнен на континенте, а в сер. IX в. полностью переработан диак. Флором Лионским (первоначальный вариант текста Беды не сохр.). Сочинению Беды подражал Рабан Мавр (сер. IX в.). Свт. Адон Вьеннский, перу к-рого принадлежит ряд др. агиографических трудов (напр., 3-е Житие св. Дезидерия Вьеннского), напротив, ориентировался на совр. ему рим. традицию и составил Мартиролог с наиболее подробными сказаниями. Узуард и Ноткер Заика пытались совместить эти традиции. Они увеличили количество годовых памятей, однако если Узуард шел по пути сокращения сказаний, то Ноткер старался сохранять все подробности в жизнеописаниях святых. В последующую эпоху работа над мартирологами была связана с дополнением и распространением текста Узуарда. Вандальбертом Прюмским был составлен поэтический Мартиролог на все дни года. Поэтические парафразы житий были характерной чертой Каролингского возрождения. В X в. каноник Реймсской Церкви Флодоард составил цикл поэм «О триумфах Христа», где краткие агиографические очерки распределены по регионам (Палестина, Антиохия, Италия).
Со 2-й пол. IX в. началось составление сказаний о перенесении мощей святых и сопутствующих чудесах, что отчасти было связано с массовым перенесением святынь во время нападений норманнов, сарацин и позднее венгров. Примерно с этого времени получили распространение епископские и аббатские деяния (gesta). Одним из ранних памятников этого типа стали Деяния Мецских епископов Павла Диакона (Paulus Diaconus. Gesta episcoporum Mettensium); впосл. появились деяния епископов др. кафедр (напр., Осерской — Gesta pontificum Autissioderensium), однако расцвет жанра приходится на X в. (Деяния епископов Камбре; Деяния епископов Тунгров, Моза-Траекта и Леодия), особенно во Фландрии и в Лотарингии. Одним из примечательных житийных памятников X в. стало жизнеописание св.
Житие св. Леодегария Августодунского. Лист из Пассионала. Кентербери. XII в. (Lond. Brit. Lib. Arundel. 91. Fol. 47v)
Житие св. Леодегария Августодунского. Лист из Пассионала. Кентербери. XII в. (Lond. Brit. Lib. Arundel. 91. Fol. 47v)
Геральда Аврилакского, написанное аббатом Одоном Клюнийским. Агиограф вывел новый тип святого — благочестивого аристократа, живущего монашеской жизнью в миру. Такой образ был актуален в условиях характерного для этого времени антагонизма местной светской и церковной власти.
Начало Жития св. Галла, составленного Валафридом Страбоном. Кон. IX в. (Санкт-Галлен. Stadtbibl. Sang. 562. Fol 3)
Начало Жития св. Галла, составленного Валафридом Страбоном. Кон. IX в. (Санкт-Галлен. Stadtbibl. Sang. 562. Fol 3)
В эпоху Каролингов получил развитие и жанр биографии. Ранние произведения (напр. Эйнхард. Жизнь Карла Великого (Einhardi Vita Caroli Magni) ок. 830-833) близки к традициям позднеантичных биографий (Светоний), но уже в «Деяниях Карла Великого» Ноткера Заики (ок. 883) прослеживается сильное влияние агиографического канона.
Одним из наиболее обширных агиографических собраний эпохи Каролингов является житийная традиция св. Галла, небесного покровителя мон-ря Санкт-Галлен, крупного духовного центра в VIII-X вв. Древнейшее Житие св. Галла, сохранившееся во фрагментах (Vita S. Galli vetustissima), ранее относили ко 2-й пол. VIII в., однако в наст. время основная часть текста датируется ок. 680 г. Ранняя датировка способствовала принятию в науке сведений древнейшего Жития о том, что Галл был учеником прп. Колумбана и впосл. вел отшельническую жизнь близ Боденского оз. В VIII в. к Житию был добавлен рассказ о чудесах святого и об основании мон-ря прп. Отмаром
Титульный лист Жития св. Галла, составленного Валафридом Страбоном. Кон. IX в. (Санкт-Галлен. Stadtbibl. Sang. 562. Fol. 2)
Титульный лист Жития св. Галла, составленного Валафридом Страбоном. Кон. IX в. (Санкт-Галлен. Stadtbibl. Sang. 562. Fol. 2)
(† 759), а затем и новое продолжение — «Хроника святого места»,- к-рое, вероятно, было создано членами монашеской общины. По мере роста мон-ря аббат Госберт (816-837) обратился к Веттину, руководителю школы мон-ря Райхенау, с просьбой составить новое Житие св. Галла. Между 816 и 824 г. Веттин написал пространное Житие, снабдив текст обширными риторическими отступлениями и вставными диалогами. 2-я часть Жития полностью посвящена чудесам и почитанию святого. Возможно, Житие не удовлетворило монахов Санкт-Галлена, и аббат Госберт заказал составление нового текста ученику Веттина Валафриду Страбону. В 833-834 гг. Валафрид создал новое произведение, основанное на древнейшем Житии, тексте Веттина и описаниях чудес от мощей св. Галла, собранных диак. Госбертом Младшим. Композиция его Жития — классического памятника Каролингского возрождения — повторяет композицию агиографического сочинения Веттина. Оно открывается пространным прологом, в 1-й кн. приводится обширное описание жизни святого, дополненное сведениями из составленного Ионой из Боббио Жития прп. Колумбана, во 2-й собраны описания чудес. Житие завершается краткой молитвой св. Галлу. Сочинение Валафрида получило широкое распространение в рукописной традиции. В сер. IX в. на его основе было создано стихотворное Житие св. Галла. Также по заказу монахов Санкт-Галлена и на основе предоставленных ими материалов Валафрид составил Житие св. Отмара (834-838). В 835 г. в Санкт-Галлене была освящена новая базилика, куда перенесли мощи св. Галла. Это событие было описано, вероятно, странствующим ирл. книжником в «Перенесении св. Галла в новую церковь» (не сохр., известно по упом. в каталоге монастырской б-ки IX в.). С развитием в Санкт-Галлене латинской книжности местная агиографическая традиция дополнялась новыми текстами. Руководитель школы Изон († 871) составил описание чудес св. Отмара в 2 книгах, его ученик Ноткер Заика — стихотворное Житие св. Галла (Metrum de vita S. Galli, 885) в форме диалога между автором и учеником Гартманном. Под ирл. влиянием было создано родословие Галла, к-рое, однако, осталось неизвестным в Ирландии. Ок. 884 г. ученик Изона Ратберт составил 1-е описание истории мон-ря от св. Галла (Casus S. Galli), а также Песнь о св. Галле на древневерхненем. языке (сохр. в 3 лат. переложениях, выполненных в XI в. аббатом Эккехардом IV). Понижение уровня лат. словесности в Санкт-Галлене после разорения венграми (926) отражено в простом по стилю и композиции Житии св. Виборады, убитой венграми затворницы, к-рое было составлено поэтом Эккехардом I. Эккехард IV († 1060) продолжил «Casus S. Galli» Ратберта до 972 г., отредактировал Житие св. Галла Ноткера Заики и, возможно, Житие Виборады, которая с учетом этой редакции была причислена к лику святых (1047). Мон. Гериманн составил 2-е Житие Виборады (1072-1076), в текст к-рого введены обширные богословские рассуждения и цитаты из произведений античных авторов. Упадок книжности в мон-ре совпал с одним из следствий григорианской реформы — борьбой за инвеституру на нем. землях.
Григорианская реформа 2-й пол. XI — 1-й четв. XII в., борьба с церковными злоупотреблениями и вмешательством светской власти в церковные дела привели к возникновению нового для Запада образа в Ж. л.- монаха-затворника, полностью отрешенного от мирских дел (см., напр., Жития св. Ромуальда и св. Доминика Лориката, составленные Петром Дамиани). Тогда же получил распространение образ святого — борца против злоупотреблений в духовной и светской сфере (Житие св. Аттона Пистойского), что нашло отражение у Бернарда Клервоского (Житие св. Малахии) и в трудах его ученика Вильгельма из Сен-Тьерри. В серии Житий Фомы Бекета святой представлен как защитник Церкви от посягательств светской власти.
C XIII в. в практику Римско-католической Церкви вошли канонизационные процессы, в актах к-рых содержались сведения о жизни святых и совершенных ими чудесах (католич. святые Елизавета Тюрингская, Франциск и Клара Ассизские, Доминик де Гусман). С XV в. материалы процессов нередко заменяют собственно жития, в корпус материалов были включены более ранние агиографические произведения (в актах процесса канонизации св. Эммы Гуркской († 1045), проведенного при папе Евгении IV (1431-1447), сохр. Жития XI-XII вв.). Иногда жития составлялись уже после канонизации на основе материалов канонизационного процесса, зачастую как дань литературной традиции (Жития св. Антонина Флорентийского († 1459)). Для мн. святых XVI в. существовали лишь акты канонизационного процесса (напр., католич. св. Алоизий Гонзага).
Житие св. Северина. Лист из Пассионала. Кентербери. XII в. (Lond.Brit. Lib. Arundel. 91 Fol. 158v)
Житие св. Северина. Лист из Пассионала. Кентербери. XII в. (Lond.Brit. Lib. Arundel. 91 Fol. 158v)
С XIII в. получили распространение житийные сборники, особенно составленная доминиканцем Иаковом из Варацце († 1298) «Золотая легенда» (Legenda Aurea). Немного ранее Цезарий Гейстербахский († ок. 1240) составил «Восемь книг о чудесах». Оба автора использовали не только письменные тексты, но и фольклорные сказания. Ряд рассказов о святых вошел в «Зерцало истории» Винцентия из Бове (XIII в.). В XIV в. венецианский агиограф Петр Наталис составил «Перечень святых», в к-ром попытался собрать имена всех подвижников и сохранившиеся сведения о них. Однако механическое использование источников и отсутствие в труде исторической критики привели к противоречиям и путанице. Метод работы Петра Наталиса связан с традицией итал. агиографии XIII в., ярким представителем к-рой был доминиканец Пинамонте да Брембате, автор ряда агиографических легенд. В составленном им Житии св. Граты из Бергамо он объединил сведения из всех известных ему памятников, где встречалось имя святой, как древних (Мученичество св. Александра Бергамского, VI в.), так и новейших (эпическая поэма Моисея Брольского «Пергамин», XII в.). В результате был создан искусственный образ древней царицы, благочестивой вдовы, похоронившей мч. Александра, и одновременно св. девы, дочери каролингского герцога, прославившейся благотворительностью. Подобный подход в целом был характерен для итал. Ж. л. позднего средневековья, когда события, близкие по времени, месту или просто по имени святого, группировались вокруг одного лица. Вслед за Петром Наталисом перечни святых или легенды (сборники сказаний о святых) были составлены в XV в. Иларионом Миланским и Бонином Момбрицием. В кон. XV в. в Кёльне и Лувене были изданы сборники сказаний о святых (Legenda Colonensis; Legenda Lovaniensis), копировавшие по форме «Золотую легенду», но отличавшиеся от нее по содержанию.
Для последующего изучения средневек. Ж. л. важную роль сыграл кард. Луиджи Липпомано (1500-1559), к-рый предпринял издание обширного сборника житий, первоначально изданного в 8 томах (Sanctorum priscorum patrum vitae. Venetiae, 1551-1560; 2-е изд. в 2 т.: Lovanii, 1564). Нем. картузианец Лаврентий Сурий (1522-1578) использовал его в качестве основы изданного им 6-томного собрания житий (De probatis Sanctorum historiis ab Aloisio Lipomano olim conscriptis nunc primum a Laurentio Surio emendatis et auctis. Coloniae, 1570-1577). Этот труд неоднократно переиздавался и в свою очередь послужил базой для работы болландистов.
По поручению Римского папы Григория XIII кард. Цезарь Бароний предпринял ревизию Римского Мартиролога в связи с календарной реформой (1582). В качестве основного источника Бароний использовал Мартиролог Узуарда с дополнениями из «Диалогов» свт. Григория Великого и др. агиографических сочинений, в т. ч. на греч. языке. В 1589 г. в Риме был опубликован окончательный вариант Мартиролога (Martyrologium Romanum, cum notationibus Caesaris Baronii), получивший статус официального. В XVI в. возродился жанр исторического мартиролога. В XVII в. стали появляться исторические мартирологи регионального типа, где в календарном порядке помещены краткие сказания о местных святых: «Каталог святых Италии» Ф. Феррари (1613), «Галльский Мартиролог» А. дю Соссея (1637) и «Испанский Мартиролог» Х. Тамайо де Саласара (1655).
С XVI в. история Ж. л. на Западе связана преимущественно с деятельностью ордена иезуитов. Сразу после смерти Игнатия Лойолы
Житие вмц. Маргариты. Лист из Часослова. XIII в. (Lond. Brit. Lib. Add. 48985. Fol.124v)
Житие вмц. Маргариты. Лист из Часослова. XIII в. (Lond. Brit. Lib. Add. 48985. Fol.124v)
(1556) при участии его сподвижника Херонимо Надаля начался сбор сведений о его жизни. В своих проповедях об Игнатии Лойоле Надаль ввел концепцию «созерцание в действии» (in actione contemplatio), ставшую одной из основных в иезуитской духовности. Надаль рассматривал свою задачу в создании «официального» образа наставника, к-рый мог бы служить целям морального поучения и одновременно воплощал бы вершину христ. духовности. В 1567 г. по настоянию иезуитов генерал ордена Педро Лайнес поручил составление жизнеописания Игнатия его ученику Педро де Рибаденейре, труд к-рого был первоначально издан на лат. языке (Vita Ignatii Loiolae. Neapoli, 1572). В 1583 г. в Мадриде был издан дополненный испан. перевод, последующие издания (до 1594) содержали разного рода прибавления. В работе над жизнеописанием Лойолы Рибаденейра использовал не только воспоминания о личном общении с католич. святым, но и архивные материалы, а также автобиографию Лойолы. Рассматривая произведение как офиц. биографию основателя ордена, Рибаденейра постарался не только описать все известные события из его жизни, но и выразить личное — от лица всего ордена — благоговение перед его жизнью и деяниями. Однако, отмечая, что мистик и созерцатель Лойола умел скрывать свою внутреннюю жизнь от др. людей, биограф не смог проследить его духовный путь. Руководство ордена, в т. ч. новый генерал Эверард Меркуриан, расценивало это как серьезнейшее упущение Рибаденейры. Составление др. биографии было поручено итальянцу Джованни Маффеи, однако его соч. «О жизни и характере основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы» (De vita et moribus Ignatii Loiolae, qui Societatem Jesu fundavit. Venetiis, 1585) по лит. достоинствам заметно уступало произведению Рибаденейры и не получило широкого распространения. После беатификации (1609), а затем и канонизации (1622) Лойолы количество его жизнеописаний значительно возросло, однако все они были основаны на сочинениях самого католич. святого, архивных документах и существовавших к тому времени биографиях. Важным источником были также «неофициальные» воспоминания о Лойоле и об основании ордена (Л. Гонсалес Камара, Х. Поланко и др.). Статус официального получило обширное жизнеописание Лойолы, составленное историком ордена Д. Бартоли (Della vita e dell’istituto di Sant’Ignazio fondatore della Compagnia di Gesù. R., 1650). Широкое распространение получили различные версии истории ордена, а также жития др. иезуитов, в т. ч. Житие Франциска Ксаверия. В иезуитской Ж. л. черты агиографического канона сочетались с элементами ренессансной (впосл. барочной) лит-ры и со временем растворились в новых лит. веяниях.
Следствием упадка агиографического творчества стали систематизация и изучение средневек. Ж. л., связанные прежде всего с работой болландистов. Иезуит Г. Росвейде (1569-1629), профессор философии в коллеже г. Дуэ, работая во фламандских церковных б-ках, пришел к выводу о необходимости публикации житийных текстов в той форме, в какой они содержатся в рукописях. В 1603 г. руководство ордена иезуитов одобрило проект Росвейде, и он опубликовал план буд. труда (Fasti sanctorum quorum vitae in belgicis bibliothecis manuscriptiae. Antverpiae, 1607). Росвейде предполагал издать 16 томов житий святых, не считая комментариев и указателей. Первые 3 тома должны были содержать сведения о земной жизни Христа, Богородицы и об установленных в их честь праздниках, а также об особо почитаемых святых. В 12 томах содержались жития святых в календарном порядке, в отдельном томе следовало собрать различные мартирологи. В др. томе Росвейде предполагал поместить сведения о житиях и почитании святых. Он не успел подготовить к печати ни одного тома, за исключением отдельных изданий нек-рых мартирологов, сборника житий отцов-пустынников, житий католич. святых Игнатия Лойолы и Филиппа Нери. Разобрать бумаги Росвейде было поручено иезуиту Иоанну Болланду (1596-1665), к-рый продолжил задуманный его предшественником труд. Работая в церковных б-ках и переписываясь с настоятелями мон-рей по всей Европе, Болланд пытался собрать о каждом святом все возможные сведения. Значительную помощь ему оказал нем. иезуит И. Гаманс, собравший большое количество житий. Как и Росвейде, Болланд распределил собранные сведения в календарном порядке, в соответствии с Римским Мартирологом. После 14-летнего труда в 1643 г. в Антверпене были изданы первые 2 январских тома собрания «Acta Sanctorum». Помощь в подготовке издания Болланду оказывали др. бельг. иезуиты, Г. Хеншен (Геншений) и Д. Папеброх (с 1659). Критический метод Хеншена, примененный при подготовке материалов о св. Аманде, оказал значительное влияние на работу Болланда. Папеброх в соч. «О различении ложного и истинного в старых пергаментах» (1675) заложил основы критического подхода к использованию древних рукописей. После публикации 3 февральских томов (1658) труд Болланда и его помощников получил высокую оценку Папского престола, болландисты были приглашены в Рим. После смерти Болланда основную работу проводил Хеншен, к-рому удалось издать 6 майских томов и подготовить материалы по следующим месяцам. Болландисты издавали календарные тома до роспуска об-ва в 1788 г. Продолжая их труд, премонстранты из мон-ря Тонгерло издали 53-й т. (окт.). Издание дальнейших томов (до 11 нояб.) и повторная публикация уже изданных связаны с деятельностью восстановленного об-ва болландистов (с 1845). Тем не менее работа болландистов остается незавершенной. В 1882 г. был основан ж. «Analecta Bollandiana», задуманный как приложение к сер. «Acta Sanctorum», в к-ром публикуются издания и исследования Ж. л. Подготовленный при участии И. Делеэ каталог «Латинская агиографическая библиотека» (Bibliotheca Hagiographica Latina, 1898-1899) является крупнейшим сводом данных о памятниках лат. Ж. л., в т. ч. об их публикациях.
Одновременно с ранними болландистами в Париже работал маврист Ж. Мабильон (1632-1707), к-рого считают основателем критической палеографии. Он собрал значительное количество житий святых, вошедших в сб. «Акты святых ордена св. Бенедикта» (Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti), 1-й том к-рого был издан в 1701 г. Коллеги Мабильона Э. Балюз, Л. С. Тиймон (Тильмон) и Ш. Дюканж занимались исследованиями в области филологии, критической церковной истории и агиографии. Как и болландисты, они подвергались критике со стороны отдельных католич. кругов, считавших их работу чрезмерно академичной, далекой от нужд католической Церкви. Недовольство вызывал и критический метод исследования, который рассматривался как шаг к опровержению основ католич. вероучения. Однако высшие католич. церковные власти неизменно поддерживали болландистов и мавристов.
Окончательный упадок Ж. л. как жанра в Европе можно отнести к XVII в. С одной стороны, Ж. л. слилась с биографией (большинство поздних житий святых представляют собой беллетризованные биографии), с другой — ряд агиографических сюжетов проник в художественную лит-ру, драматургию и др. С XVII в. агиография в традиц. смысле слова исчезает из европ. лит-ры.
Библиогр.: Poncelet A. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bibliothecae Vaticanae. Brux., 1910; BHL; Gli studi agiografici sul Medioevo in Europa: 1968-1998 / A cura di E. Paoli. Tavarnuzze (Firenze), 2000; Bibliografia agiografica italiana: 1976-1999 / A cura di P. Golinelli et al. R., 2001; Bulletin des publications hagiographiques // AnBoll. 2001. T. 119/2. P. 410-454.
Лит.: Delehaye H. Les légendes hagiographiques. Brux., 1905; idem. Les Passions des martyrs et les genres littéraires. Brux., 1921; idem. Cinq leçons sur la méthode hagiorgaphique. Brux., 1934; idem. L’œuvre des bollandistes à travers trois siècles (1615-1915). Brux., 1959; Aigrain R. L’hagiographie: Ses sources, ses méthodes, son histoire. Brux., 1953, 20002; Craus F. Volk, Herrscher u. Heiliger im Reich der Merowingen: Stud. z. Hagiographie d. Merowingerzeit. Prague, 1965; Heinzelmann M. Translationsberichte u. andere Quellen des Reliquienkultes. Turnhout, 1979; Hagiographie, culture et sociétés, IVe-XIIe: Actes du colloque organisé à Nanterre et à Paris, 2-5 mai 1979. P., 1981; «Legenda aurea», sept siècles de diffusion: Actes du colloque intern. sur la «Legenda aurea», texte latin et branches vernaculaires (Montréal, 11-12 mai 1983) / Sous la dir. de B. Dunn-Lardeau. Montréal; P., 1986; Histoire des saints et de la sainteté chrétienne. P., 1986-1988. 11 vol.; Head T. Hagiography and the Cult of Saints: The Diocese of Orleans, 800-1200. Camb., 1990; idem. Les fonctions des saints dans le monde occidental. R., 1991; Raccolte di vite di santi dal XIII al XVIII secolo: Strutture, messaggi, fruizioni / A cura di S. B. Gajano. Fasano, 1990; Biografia e agiografia nella letteratura cristiana antica e medievale: Atti d. conv. tenuto a Trento il 27-28 ott. 1988 / A cura di A. Ceresa-Gastaldo. Bologna, 1990; Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes / Éd. M. Heinzelmann. Sigmaringen, 1992; Dubois J., Lemaitre J.-L. Sources et méthodes de l’hagiographie médiévale. P., 1993; Nahmer D. V. D. Die lateinische Heiligenvita: Eine Einf. in die lateinische Hagiographie. Darmstadt, 1994; Hagiographies: Histoire intern. de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550 / Sous la dir. de G. Philippart. Turnhout, 1994-2006. 4 vol.; Late Merovingian France: History and Hagiography, 640-720 / Ed. by P. Fouracre, R. A. Gerberding. Manchester; N. Y., 1996; Erudizione e devozione: Le raccolte di Vite dei santi in età moderna e contemporanea / A cura di G. Luongo. R., 2000; Парамонова М. Ю. Культы святых королей в Зап. и Центр. Европе // Другие Средние века: К 75-летию А. Я. Гуревича. М.; СПб., 2000. С. 267-287; она же. Святые правители Латинской Европы и Древней Руси. М., 2003; L’hagiographie du haut Moyen âge en Gaule du Nord: Manuscrits, textes et centres de production / Dir. M. Heinzelmann. Stuttg., 2001; De la sainteté à l’hagiographie: Genèse et usages de la Légende dorée / Éd. B. Fleith, Fr. Morenzoni. Gen., 2001; Арнаутова Ю. Е. Житие как духовная биография: К вопросу о «типическом» и «индивидуальном» в лат. агиографии // Диалог со временем: Альм. интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 5. C. 254-278; она же. Перспективы изучения агиографических топосов // Minuscula: К 80-летию со дня рождения А. Я. Гуревича. М., 2004. С. 182-213; Veyrard-Cosme Ch. L’œuvre hagiographique en prose d’Alcuin: Vitae Willibrordi, Vedasti, Richarii. Firenze, 2003; Goodich M. Lives and Miracles of the Saints: Studies in Medieval Latin Hagiography. Aldershot, 2004; Les saints et l’histoire: Sources hagiographiques du haut Moyen âge / Éd. A. Wagner. Rosny-sous-Bois, 2004; Kirsch W. Laudes sanctorum: Geschichte der hagiographischen Versepik vom IV. bis X. Jh. Stuttg., 2004. 2 Bde; Scribere sanctorum gesta: Recueil d’études d’hagiographie médiévale offert à G. Philippart / Éd. par E. Renard, M. Trigalet et al. Turnhout, 2005.
Д. В. Зайцев
Ж. л. в странах Европы. Англосаксонская и английская
Англосакс. Ж. л. (VIII-XI вв.) представлена прозаическими и поэтическими памятниками на лат. и народном (древнеангл.) языках, к-рые сохранились как в виде отдельных рукописей, так и в составе более крупных произведений и собраний — мартирологов, пассионариев, сборников проповедей. Большая часть агиографических текстов посвящена общехрист. святым, однако были широко известны и жития англосакс. святых —
Деяния апостолов Петра и Павла. Англия. Сер. X в. (Oxford. St. John’s College. 28. Fol. 2r)
Деяния апостолов Петра и Павла. Англия. Сер. X в. (Oxford. St. John’s College. 28. Fol. 2r)
Кутберта Линдисфарнского, Вильфрида, еп. Эборака (ныне Йорк), Гутлака, кор. Нортумбрии Освальда, Этельтриты, еп. Освальда, еп. Этельвольда и др. Образцом для англосакс. житийных текстов служила континентальная Ж. л., прежде всего сочинения блж. Иеронима, свт. Афанасия Великого и Сульпиция Севера. Лат. агиографическая традиция в англосакс. Англии в целом старше, чем вернакулярная (на народном яз.). Древнейшим является анонимное лат. Житие свт. Кутберта (ок. 700). 710-720 гг. датируется Житие свт. Вильфрида, составленное его учеником Эддием Стефаном, мон. из Инрипа (ныне Рипон). Примерно к этому времени относится созданное в мон-ре Ярроу-Вермут анонимное Житие свт. Кеолфрида. В нач. VIII в. появилось также 1-е оригинальное англосакс. Житие свт. Григория I Великого. С нек-рыми допущениями к произведениям Ж. л. можно отнести трактат свт. Альдхельма († 709 или 710) «О девственности», написанный в 10-х гг. VIII в., в к-ром давались многочисленные поучительные примеры (exempla) из жизни девственников: ветхозаветных патриархов, апостолов, отцов Церкви, мучеников и мучениц. Важным этапом в формировании англосакс. Ж. л. стали труды прп. Беды Достопочтенного († 735): Житие свт. Кутберта, прозаическое переложение Жития сщмч. Феликса, составленное Павлином Милостивым, еп. Ноланским, отредактированная версия Мученичества св. Анастасия, ранее переведенного с греч. языка свт. Теодором, архиеп. Кентерберийским. На основе анонимного Жития св. Кеолфрида Беда Достопочтенный создал «Историю настоятелей Вермута и Ярроу» (Historia abbatum auctore Bede или Vita beatorum abbatum Benedicti, Ceolfridi, Eosterwini, Sigfridi atque Hwaetberthi). Им также был составлен 1-й англосакс. Мартиролог, куда вошли краткие сведения о 114 святых. Существенным вкладом Беды в развитие Ж. л. были повествования о бриттских и англосакс. святых в составе «Церковной истории народа англов». В работе над сочинениями Беда опирался как на письменные тексты (напр., на Житие свт. Германа Автиссиодурского, Житие прп. Фурсы), так и на устные свидетельства, рассказы и предания, бытовавшие в Англии его времени. Приведенные Бедой сведения стали основой для создания позднейших житийных текстов. С именем прп. Беды Достопочтенного связано зарождение лат. агиографической поэзии в Англии — в 10-20-х гг. VIII в. он написал поэму, посвященную свт. Кутберту. Свт. Альдхельм на основе одноименного трактата сочинил «Песнь о девственности». Сер. VIII в. датируются анонимная поэма о чудесах свт. Ниниана (Miracula S. Nynie) и Метрический календарь Йорка — поэма из 82 строк о Нортумбрийских святых. Ж. л. сер.- 2-й пол. VIII в. представлена Житием прп. Гутлака, к-рое было написано в 740 г. неким Феликсом, а также Житиями англосакс. миссионеров святых Виллиброрда, Виллибальда, Виннибальда, составленными на континенте соответственно Алкуином, свт. Бонифацием и мон. Хюгебургой. Позднее Алкуин создал поэтическое переложение написанного им ранее прозаического Жития свт. Виллиброрда. С нек-рой долей условности к разряду поэтической Ж. л. можно отнести поэму «Песнь об аббатах» некоего Этельвульфа (нач. IX в.).
В период нашествий скандинавов в IX-X вв. и последующие 50 лет лат. Ж. л. в Англии переживала упадок. От этого времени сохранилось поэтическое Житие св. Вильфрида, написанное на континенте книжником Фридегодом по заказу Кентерберийского архиеп. Одо. Поводом для написания этого сочинения, так же как и созданного в 971 г. др. книжником, Лантфредом, прозаического Жития свт. Свитуна, послужило перенесение мощей святого. Период бенедиктинской реформы (2-я пол. X в.), ознаменованный преобразованием и возрождением мон-рей, реформированных в духе Клюни (см. Клюнийская реформа), стал временем нового расцвета Ж. л. в англосакс. Англии, когда были созданы лат. Жития свт. Этельвольда (автор Вульфстан, еп. Вустера), св. Эдмунда, кор. Вост. Англии (автор Аббон из Флёри), св. еп. Освальда и св. Эгвине (автор Бюрхтферт), св. Дунстана (автор неизв. англосакс. клирик, живший на континенте). К сер. XI в. относятся анонимные Жития св. Неота, св. Румвольда, св. Бирина, св. Кенельма, св. Индракта и 2-е Житие св. Свитуна.
Св. Гутлак исцеляет бесноватого. Миниатюра. Ок. 1210 г. (Lond. Brit. Lib. Harley. Roll Y.6. Roundel. 10)
Св. Гутлак исцеляет бесноватого. Миниатюра. Ок. 1210 г. (Lond. Brit. Lib. Harley. Roll Y.6. Roundel. 10)
Древнейшим поэтическим памятником Ж. л. англосакс. периода на народном языке считается поэма «Юлиана», написанная Кюневульфом в числе др. поэтических сочинений на религ. темы («Христос», «Елена», «Судьбы апостолов» и др.). Первым прозаическим произведением, созданным в рамках вернакулярной традиции, является Древнеанглийский Мартиролог, составленный предположительно в кон. IX в. в Мерсии. К X в. относятся поэтический Метрический календарь, анонимное прозаическое Житие прп. Гутлака, поэмы Гутлак-А и Гутлак-B. Основной корпус вернакулярных прозаических житий составляют произведения Эльфрика, настоятеля мон-ря Ившем (ок. 950 — ок. 1010). В 3-томное собрание его проповедей включено более 60 написанных ритмической прозой коротких повествований о святых. Ни в одном из них не содержатся оригинальные сведения; при их составлении Эльфрик опирался либо на сочинения Беды, либо на континентальную лат. традицию. Как и автор Древнеанглийского Мартиролога, Эльфрик проявлял определенный пуризм в отношении англосакс. святых, отобрав Жития только наиболее почитаемых — Альбана, Этельтриты, кор. Освальда, Свитуна и Эдмунда. В сочинениях Эльфрик обращался к Деяниям св. апостолов Андрея и Варфоломея (Нафанаила), из общехрист. святых к прп. Венедикту Нурсийскому, сщмч. Клименту, еп. Римскому, вмч. Георгию Победоносцу, прп. Макарию Великому и др. Помимо произведений Эльфрика от 950-1150 гг. сохранилось ок. 30 анонимных древнеангл. житий (Жития свт. Августина, архиеп. Кентерберийского, вмч. Евстафия Плакиды, прп. Марии Египетской, мч. Христофора, св. Милдреды, свт. Хада и проч.). В кон. XI в. мон. Колеман († 1113) составил Житие свт. Вульфстана Вустерского, к-рое сохранилось только в лат. переводе Уильяма из Малмсбери (ок. 1090 — ок. 1143).
После нормандского завоевания (1066) традиция Ж. л. на народном языке пришла в упадок. Лат. агиография в кон. XI — нач. XII в., напротив, переживала подъем, что было вызвано в первую очередь стремлением англ. книжников «оправдать» англосакс. святых перед прибывшими из Нормандии церковными иерархами, к-рые часто относились к этим святым с подозрением. Развитие англ. Ж. л. в этот период связано с церковными писателями Госцелином († 1098), Осберном († ок. 1092), Эадмером (ок. 1060 — ок. 1128). Госцелин, переезжая с 1080 г. из одного англ. мон-ря в другой в поисках материалов для агиографических сочинений, составил т. о. жития святых, почитавшихся в Шерборне, Баркинге, Рамси, Или. Для Госцелина было характерно некритическое отношение к имевшимся в его распоряжении сведениям, тем не менее его сочинения являются ценным источником для изучения местного почитания святых в позднеанглосакс. период. В сочинениях Осберна, регента кафедрального собора в Кентербери, прослеживается явная полемическая и патриотическая направленность. Написанные им Жития свт. Эльфхеаха и свт. Дунстана в большой степени способствовали возрождению офиц. почитания этих святых. Преемник Осберна на посту регента Эадмер составил новые Жития святых Вильфрида, Дунстана, еп. Освальда и еп. Брегвине. Написанное им ок. 1123 г. Житие свт. Ансельма Кентерберийского положило начало новому направлению в англ. Ж. л.: это была гл. обр. биография святого, составленная зачастую на основе личных воспоминаний. С XII в. жанр жития-биографии прочно занял свое место в англ. Ж. л. (см., напр., Жития св. Годрика (автор Реджинальд Даремский), св. Гугона Линкольнского (автор Адам из Ившема), св. Фомы Бекета (автор Иоанн Солсберийский)).
Уильям из Малмсбери, следуя примеру прп. Беды Достопочтенного, включил агиографические повествования в свои сочинения «Деяния английских королей», «Деяния английских епископов» и «О древностях Гластонберийской Церкви». Он составил также Жития св. Дунстана и св. Вульфстана. В его работах, как и в определенной мере в сочинениях Эадмера, продемонстрировано характерное для XII-XIII вв. соединение агиографии и историографии: едва ли не все авторы, внесшие свой вклад в расцвет англ. хронистики этого периода, были авторами и житийных сочинений (Гиральд Камбрийский, Иоанн Солсберийский, Матвей Парижский (Мэтью Парис) и др.).
Важным событием в истории Ж. л., в т. ч. и в Англии, стало появление во 2-й пол. XIII в. собрания лат. агиографических текстов «Золотая легенда», составленного Иаковом из Варацце. Вероятно, под влиянием «Золотой легенды» в Англии стали создаваться собственно англ. собрания житий. Наиболее ранний из сохранившихся кодексов — собрание 47 житий англ. (а также нек-рых шотл., валлийских и ирл.) святых (1300) из жен. мон-ря в Ромси. Иоанн из Тайнмута (1290-1349) составил сборник 156 житий (Sanctilogium Angliae, Walliae, Scotiae et Hiberniae). Подобно Госцелину и Уильяму из Малмсбери, он собирал материал для своего сочинения в монастырских и кафедральных б-ках по всей Англии. Его произведение сохранилось в редакции мон.-августинца историка и теолога Дж. Капгрейва (1393-1464) под названием «Новая легенда Англии». Иногда Капгрейва называют автором собрания, но в действительности его участие ограничилось редакторской работой и изменением порядка расположения житий с календарного на алфавитный. Сам Капгрейв составил ряд житий на латыни (Житие Хамфреда, гр. Глостерского, Житие св. Августина Кентерберийского) и на среднеангл. языке (стихотворное Житие вмц. Екатерины Александрийской и прозаическое Житие св. Гильберта Семпрингемского).
В кон. XI-XIV в. в Англии активно развивалась такая разновидность Ж. л., как описания чудес, составлявшиеся в мон-рях или церквах, где хранились св. реликвии. Импульсом к формированию этого жанра Ж. л. послужило введение папой Римским Иннокентием III (1198-1216) офиц. процедуры канонизации. От позднесредневек. периода сохранилось неск. Мартирологов, в т. ч. Мартиролог Иоанна из Тайнмута (сохр. во фрагментах). Большую известность получил Мартиролог Ричарда Уитфорда († 1555), гуманиста, соратника Эразма Роттердамского и Томаса Мора.
Сцена из Жития Фомы Бекета. Миниатюра из Псалтири. Ок. 1220 г. (Lond. Brit. Lib> Harley. S. 102. Fol. 32r)
Сцена из Жития Фомы Бекета. Миниатюра из Псалтири. Ок. 1220 г. (Lond. Brit. Lib> Harley. S. 102. Fol. 32r)
В XIII в. возродилась Ж. л. на среднеангл. языке, к-рая формировалась под влиянием континентальной, прежде всего франц., традиции. К этому периоду относятся анонимные Жития великомучениц Марины (Маргариты) Антиохийской, Екатерины Александрийской и мц. Иулиании Никомидийской, написанные ритмизованной прозой. Ок. 1280 г. на юге Англии, в районе Вустера или Глостера, был составлен сборник поэтических сказаний о святых, т. н. Южноанглийский легендарий. Он представляет собой собрание материалов для проповедей; в различных его редакциях содержится от 100 до 180 сказаний, к-рые расположены в порядке литургического года. Кроме житий общехрист. и континентальных святых, в основу к-рых легли тексты из «Золотой легенды», в сборник вошли переложения евангельских и ветхозаветных сюжетов, а также жития мн. англ. и кельт. святых. В целом стилистика этих произведений, содержащих красочные подробности, близка к стилистике популярного в то время жанра рыцарского романа. Особый интерес с художественной т. зр. представляют Жития св. Патрикия (Патрика), св. Брендана и св. Кенельма. Т. н. Североанглийский легендарий вошел в состав собрания проповедей, составленного ок. 1350 г. предположительно в Дареме. Он содержит 34 стихотворных сказания, гл. обр. об апостолах и о раннехрист. мучениках; из англ. святых в нем упоминается только Фома Бекет. Большей оригинальностью отличается Англо-шотландский легендарий, составленный в это же время в Абердине и приписываемый Дж. Барбуру. В нем рассказы о святых расположены в соответствии с их чином (епископы, монахи и т. п.).
На рубеже XIV и XV вв. Ж. л. на среднеангл. языке испытала влияние светской философской аллегорической поэзии. К 1-й пол. XV в. относятся поэмы о святых, написанные последователями Дж. Чосера. Из них наибольший интерес представляют сочинения мон. Джона Литгейта (1370? — 1449?) из мон-ря Бери-Сент-Эдмундс, посвященные Пресв. Богородице, св. Эдмунду и Фремунду, вмц. Маргарите, блж. Августину, св. Эгидию, чудесам св. Эдмунда. Ок. 1447 г. августинец Осберн Бокенхам составил агиографический сборник, в к-рый вошло 13 жизнеописаний св. подвижниц (сохр. в извлечениях). В кон. XV в. мон. Генри Брадшоу из мон-ря св. Вербурги в Честере составил обширное Житие покровительниц мон-ря, включив в их число помимо Вербурги ее родственниц — Этельтриту и Сексбургу. Особенностью вернакулярной Ж. л. XIII-XIV вв. является интерес к жен. образам, в частности к образу Девы Марии, возникший, вероятно, под влиянием светской куртуазной лит-ры.
В нач. XVI в. появились первые печатные издания Ж. л., в т. ч. англ. перевод «Золотой легенды» (до 1527 было 7 переизданий) и печатное издание «Новой легенды Англии».
В период Реформации в Англии за почитание святых преследовали. Тем не менее продолжали создаваться жития новых католич. мучеников (в частности, Житие Т. Мора) и Мартирологи (Дж. Уилсона в 1608, 1627). «Книга мучеников» протестант. проповедника Дж. Фокса (1516-1587), в к-рую были включены жизнеописания первых христ. мучеников, а также вальденсов и катаров, казненных инквизицией, и протестантов, начиная с М. Лютера, представляет собой 1-й образец англ. протестант. Ж. л. В XVII-XIX вв. формируется Ж. л. англикан. Церкви, ориентированная прежде всего на почитание раннехрист. и древних англ. святых. В 1690 г. Г. Уортон выпустил 2-томное собрание «Священная Англия», включавшее созданные ранее жития англ. святых и епископов с VII в. до 1540 г. Католич. Ж. л. в Англии продолжала существовать. В 1741 г. еп. Ричард Чаллонер в ответ на книгу Фокса опубликовал «Памятную книгу миссионеров, священников и других католиков обоих полов, принявших смерть и оказавшихся в заключении в Англии за свою веру, с 1577 г. до конца правления Карла II». В 1745 г. анонимно он издал более объемную работу «Священная Британия», куда вошли написанные им жития бриттских, валлийских, шотл., англ. и ирл. святых. В 1756-1759 гг. католич. пресв. Олбан Батлер выпустил многотомное собрание составленных им житий католич. святых, расположенных в соответствии с литургическим календарем. Книга Батлера, включавшая в момент создания неск. сот житий и периодически дополняемая, регулярно переиздается до наст. времени и занимает важное место в совр. англ. Ж. л. Из более поздних агиографических сочинений следует упомянуть «Жития английских святых», составленные по инициативе и при участии Дж. Г. Ньюмена незадолго до его перехода в католичество в 1845 г.
Лит.: Saints’ Lives and Chronicles in Early England / Ed., trad. C. W. Jones. N. Y., 1947; Colgrave B. The Earliest Saints’ Lives Written in England // Proc. of British Academy. L., 1958. Vol. 44. P. 35-60; Hurt J. Ælfric. N. Y., 1972; Hagiography and Medieval Literature: Proc. of the V Intern. Symp., organized by the Centre for the Study of Vernacular Literature in the Middle Ages, on 17-18 Novembre 1980 / Ed. H. Bekker-Nielsen, P. Foote et al. Odense, 1981; Bridges M. E. Generic Contrast in Old English Hagiographical Poetry. Copenhagen, 1984; Bjork R. E. The Old English Verse Saints’ Lives: A Study in direct Discourse and the Iconography of Style. Toronto; Buffalo; L., 1985; Rollason D. W. Hagiographie: Angelsächsischer Bereich // LexMA. Bd. 4. Sp. 1851-1852; Görlach M. Hagiographie: Alt- u. Mittelenglisch Literatur // Ibid. Sp. 1852-1854; Lapidge M. The Saintly Life in Anglo-Saxon England // The Cambridge Companion to Old English Literature / Ed. M. Godden, M. Lapidge. Camb., 1991. P. 243-263; Thiry-Stassin M. L’hagiographie en Anglo-Normand // Hagiographies: Histoire intern. de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550 / Ed. G. Philippart. Turnhout, 1994. Vol. 1. P. 407-428; Lapidge M., Love R. C. England and Wales (600-1550) // Ibid. Vol. 3. P. 1-120; Cross J. E. English Vernacular Saint’s Lives before 1000 AD // Ibid. Vol. 2. P. 413-427; Whatley E. G. Late Old English Hagiography, c. 950-1150 // Ibid. P. 429-499; Holy Men and Holy Women: Old English Prose Saints’ Lives and their Contexts / Ed. P. E. Scarmach. Albany; N. Y., 1996; Smith E. L. Middle English Hagiography and Romance in XVth-cent. England: From Competition to Critique. Lewiston (N. Y.), 2002; A Companion to Middle English Hagiography / Ed. S. Salih. Woodbridge, 2006.
З. Ю. Метлицкая
Ирландская и шотландская.
Первым известным лит. произведением, созданным в Ирландии, является «Исповедь» св. Патрикия († 493?) — апология христ. миссии на острове в форме автобиографии. Это прозаическое сочинение, написанное на лат. языке с многочисленными библейскими цитатами и аллюзиями, оказало влияние на творчество ирл. христ. авторов. В наст. время наиболее древними из сохранившихся ирл. агиографических текстов считаются лат. гимны в честь святых, составленные в VI-VII вв. Так, авторство гимна св. Патрикию, традиционно приписывавшееся его ученику св. Секундину, возможно, принадлежит св. Колману Эло
Стихи о Колумбе. Ирландия. Сер. XVI в. (Bodl. Laud. 615. P. 37)
Стихи о Колумбе. Ирландия. Сер. XVI в. (Bodl. Laud. 615. P. 37)
(† 611). Гимн состоит из 23 строф, каждая из к-рых начинается с определенной буквы лат. алфавита (A, B, C и т. д.). В нем содержатся восхваления святого как миссионера и аскета, истинного последователя Христа. Отсутствие конкретных сведений затрудняет датировку произведения. Особняком стоит поэма «Чудо Колума Килле» — древнейший памятник Ж. л. на древнеирл. языке (рубеж VI и VII вв.). Поэма состоит из 145 строк и представляет собой посмертный панегирик св. Колумбе († 597). Автором текста, написанного нарочито архаизированным языком, традиционно считался верховный филид Даллан Форгалл, однако в наст. время поэма приписывается анонимному монаху из основанной Колумбой обители Иона. По содержанию сочинение близко к ранним ирл. посмертным панегирикам в честь правителей, созданным вне христ. традиции (напр., «Месс Деллманн»).
Первым известным ирл. агиографом считается св. Ултан († 657), еп. Ард-Брекана (ныне Ардбраккан, близ г. Наван), в основном его труды не сохранились. Ему приписываются сочинение о св. Патрикии, Житие св. Бригиты, а также фрагмент лат. гимна св. Бригите (по первым словам известно как «Xristus in nostra insola…») и гимн на древнеирл. языке «Бригита вечно благая» (Brigit bé bithmaith). Автором др. древнеирл. гимна, «Победоносная Бригита не любила мир» (Ní car Brigit), считается его ученик Броккан. За исключением последнего гимна, содержащего ряд отсылок к житийной традиции Бригиты, эти произведения представляют собой собрание абстрактных восхвалений.
Во 2-й пол. VII в. др. ученик Ултана, еп. Тирехан, составил т. н. Сборник (Collectanea) о св. Патрикии. В этом неоконченном произведении собран ряд легенд о миссионерской деятельности святого в разных частях Ирландии, легенды были объединены в описание странствий св. Патрикия по стране. Композиция Сборника и цели его составления остаются дискуссионными. Стиль Тирехана и его лат. язык, содержащий большое количество гибернизмов, отличаются от стиля и языка др. ирл. лит. произведений VII в. Из несохранившейся ирл. агиографии VII в. следует упомянуть Житие св. Бригиты, написанное Айлераном из Клуан-Ирарда († 665), и книгу о чудесах св. Колумбы аббата Куммиана († 657), фрагмент к-рой был включен в Житие св. Колумбы, составленное в кон. VII в. Адамнаном, аббатом мон-ря Иона. Ко 2-й пол. VII в. относится также и Житие св. Бригиты, подписанное именем Когитос (Cogitosus) и составленное по агиографическому шаблону, к-рый впосл. стал характерным для ирл. Ж. л. Связное вначале изложение легенды о святой после описания принятия Бригитой монашеского пострига превращается в последовательность разрозненных эпизодов. Стиль Когитоса отличается высокопарностью, прикрывающей недостаток сведений о святой. В 90-х гг. VII в. Мурьху мокку Махтени под влиянием сочинения Когитоса составил Житие св. Патрикия, в к-ром представил картину триумфального шествия христианства по Ирландии (т. н. патрикианскую легенду). Патрикий описывался как герой, сокрушавший язычество и побеждавший непокорных правителей во имя Христа. Совершенно особым произведением является Житие св. Колумбы, составленное Адамнаном. Оно представляет собой ряд рассказов из жизни святого, тематически распределенных на 3 части: о его пророческом даре, о совершенных им чудесах и о явлениях Небесных Сил. Житие отличается лит. мастерством и содержит ценные сведения о церковной и светской истории Ирландии и стране пиктов VI-VII вв. Составление протографов ряда др. агиографических текстов, сохранившихся в более поздних редакциях (напр., Житие св. Киарана), датируется VII в. Особую сложность представляет пространное Житие св. Бригиты (т. н. Vita I), в к-ром наиболее полно излагается легенда о святой (датировки Vita I колеблются от VII до VIII в.).
Последующая агиографическая традиция представлена корпусом лат. житийных текстов, значительная часть к-рых сохранилась в поздних переработках. Вероятно, массовое составление житий местных святых началось в VIII в. в связи с консолидацией Церкви и укреплением ее позиций в обществе. Образцами для ирл. агиографов служили ранние континентальные произведения — сочинения Сульпиция Севера, Констанция Лугдунского, свт. Григория I Великого. Влияние более поздней агиографии, в т. ч. меровингской и каролингской, не прослеживается. Как правило, Ж. л. этого периода отличается простотой стиля и тенденцией к распаду нарратива на разрозненные эпизоды, ее слабая текстологическая изученность препятствует выявлению оригинальных раннесредневек. произведений. Свободное отношение к прозаическому тексту в ирл. традиции сводило к минимуму возможность сохранения текста первоначальной редакции. К VIII в. сложился своеобразный шаблон житийного текста, в к-ром персонажи действуют в наполовину вымышленной, «синтетической» реальности. Это характерно для всей раннесредневек. ирл. лит-ры, в т. ч. для саг. Особенностью ирл. Ж. л. было обращение к кругу древних подвижников, живших в эпоху миссии св. Патрикия и в «век святых» (VI-VII вв.), что способствовало размыванию индивидуальных черт святого, к-рый был представлен в Ж. л. как ревностный аскет, могущественный чудотворец и заступник за паству. Исключением является агиографическая традиция св. Колумбы, основанная на Житии, составленном Адамнаном, и отчасти на «Чуде Колумба Килле». Колумба представлен как сильный телом и душой человек, скорый на гнев и на милость, поэтически одаренная натура (Колумбе приписывался ряд стихотворений).
Как правило, в Ж. л. отсутствовал морализаторский пафос, главной целью являлось возвеличение святого, следствием чего было упрочение позиций основанных им церквей или мон-рей. Легче, чем лат. Ж. л. в Ирландии, датировке поддаются агиографические сочинения на народном языке, из к-рых самым ранним произведением считается Житие св. Бригиты (IX в.), переработка несохранившегося лат. текста. В IX — нач. X в. было составлено т. н. Трехчастное Житие св. Патрикия, пространный и перегруженный деталями текст, в к-ром сделана попытка свести воедино предания о просветителе Ирландии. В этих произведениях встречаются отдельные слова и целые фразы на латыни. Ж. л. на народном языке, в т. ч. проповеди, преимущественно состояла из переработок или просто переводов лат. агиографических текстов, создавались также стихотворные жития на народном языке. Особое место в ирл. агиографии занимают краткие истории на ирл. языке — т. н. анекдоты, вероятно созданные в околоцерковной среде. Они близки к фольклору и зачастую гротескны (напр., «История аббата из Друменаха, который превратился в женщину»). Ряд анекдотов о святых, отражавших устную традицию, сохранился в глоссах (70-е гг. XII в.) на Мартиролог Энгуса. Среди др. маргинальных агиографических жанров следует назвать генеалогии святых (основной корпус составлен к X в.), а также перечни святых (наиболее ранний — «Повременной перечень святых Ирландии» (IX-X вв.)).
Кардинальные изменения в ирл. Ж. л. заметны в XII в. в связи с реформой католич. Церкви в Ирландии и влиянием континентальной культуры (нормандской Англии, Франции, Германии). Церковная реформа и англо-нормандское вторжение разрушили традиц. клерикальную среду, в к-рой создавались раннесредневек. лит. произведения, как церковные, так и светские. Старые роды, специализировавшиеся на церковной и околоцерковной ученой деятельности, оказались в значительной мере исключены из структуры Ирландской Церкви, в к-рой возобладали иностранцы или люди с иностранным университетским образованием. Офиц. церковные круги с недоверием относились к ирл. традиции, почитание мн. святых пришло в упадок. В новых «регулярных» мон-рях проводилась ревизия Ж. л., агиографические сочинения подверглись значительной редакторской правке. В частности, из житий были удалены «лишние» подробности и сомнительные с т. зр. новой морали эпизоды, мн. тексты были сильно сокращены. Следствием этой деятельности стало составление в XIII-XV вв. сборников житий ирл. святых (Саламанкский Кодекс, Килкеннийский Кодекс и т. д.). Ряд житий вошел в англ. сборник Капгрейва «Новая легенда Англии».
Житие св. Колумбы, составленное Манусом О’Доннелом. Ирландияю Сер. XVI в. (Bodl. Rawl. B. 514. Fol. 1r)
Житие св. Колумбы, составленное Манусом О’Доннелом. Ирландияю Сер. XVI в. (Bodl. Rawl. B. 514. Fol. 1r)
Реакцией др. кругов ирл. общества, сохранивших приверженность традиции, стало массовое создание агиографических сочинений на ирл. языке в XII-XVI вв. Среди житий, появившихся в это время, есть оригинальные тексты, свободные от влияния старой лат. агиографии (напр., ирл. Житие св. Колмана Эло), что свидетельствует о частичном разрыве традиции и маргинализации агиографического творчества. При этом особое внимание к традиции способствовало сохранению старого агиографического шаблона. Одновременно создается ряд переводных житий (напр., Житие прп. Марии Египетской), нередко в форме проповеди. Новшеством было составление сборников житий на ирл. языке (Книга из Лисмора, нач. XV в.) и проповедей о святых (Пёстрая книга, XIV в.). Развитие ирл. агиографии завершилось Житием св. Колумбы, составленным в 1532 г. Манусом О’Доннелом. При создании этой обширной компиляции были использованы все доступные автору письменные источники и фольклорные предания.
Во время англ. Реформации и тюдоровской колонизации Ирландии основы традиц. письменной культуры пошатнулись. Множество рукописей было уничтожено или вывезено за пределы острова. В 1-й пол. XVII в. ирл. католич. церковные деятели в Лувене и Риме приступили к спасению древних лит. памятников. Терциарий Михал О’Клери в Ирландии собрал и переписал большое количество текстов, т. ч. житий святых на ирл. языке. В Лувене францисканец Дж. Колган, сотрудничавший с болландистами, издал ряд лат. агиографических произведений о святых Патрикии, Бригите и Колумбе и приступил к формированию сер. «Acta Sanctorum Hiberniae» (изд. 1-й том). В кон. XVII в. подчинение Ирландии англ. короне и введение дискриминационных законов против католиков привели к маргинализации, а затем к исчезновению традиц. лит-ры.
Сочинений Ж. л. в Шотландии сохранилось крайне мало. Наиболее древним центром агиографического творчества на территории совр. Шотландии был ирл. мон-рь Иона. Известен краткий рассказ прп. Беды Достопочтенного в «Церковной истории народа англов» о свт. Ниниане, легендарном просветителе пиктов, а также англосакс. поэма о чудесах Ниниана (VIII в.). Между X и XII вв. было составлено Житие св. Сервана, в к-ром заметно влияние ирл. саг. К XII в. относится краткий рассказ на ирл. языке о прп. Дростане, основателе мон-ря Дир, в «Книге из Дира». Др. сохранившиеся тексты, посвященные древним святым, созданы в эпоху англо-франц. влияния. Среди трудов св. Алреда, аббата мон-ря Риво в совр. графстве Норт-Йоркшир (1147-1167), есть Житие свт. Ниниана, в основе к-рого лежит несохранившийся источник, вероятно англосакс. происхождения. По заказу Джоселина, еп. Глазго (1174-1199), цистерцианский мон. Джоселин из Фернесса († после 1214) составил Житие св. Кентигерна, к-рое стало одним из аргументов в юрисдикционных спорах между шотл. прелатами и архиепископом Йоркским. Джоселин составил также Житие св. Вальтеофа († 1159), аббата мон-ря Мелроз на англо-шотл. пограничье.
Шотл. Ж. л. XII в. отличалась высокопарным и усложненным языком, она находилась под влиянием псевдоисторических «реконструкций» (ср. творчество Гальфрида Монмутского в Уэльсе). Житие св. кор. Маргариты († 1093), составленное Турготом (Тюрго), архиеп. Сент-Андруса (1107-1115), близко к франц. традиции. Из Ж. л. на англо-шотл. языке (скотс) сохранилась поэма о жизни и чудесах свт. Ниниана (Sanct Niniane, XIV-XV вв.). Утерянные ныне агиографические памятники были использованы в сочинениях позднесредневек. шотл. авторов, в т. ч. в «Хронике шотландского народа» (завершена ок. 1360) пресв. Иоанна Фордунского (Джона Фордуна), «История шотландского народа» (1527) Гектора Боэция (Бойса) и др. Ценнейшим памятником является Абердинский бревиарий, составленный Абердинским еп. Вильгельмом Элфинстоном (1483-1514) и опубликованный в 1507 г. Проприи мессы и чтения на дни памяти шотл. святых содержат сведения из Ж. л., к-рые во многом расходятся с информацией Иоанна Фордунского и сохранившихся житий. Во время Реформации в Шотландии большая часть агиографических текстов была утрачена.
Лит.: Plummer C. Miscellanea hagiographica Hibernica. Brux., 1925; Grosjean P. Notes d’hagiographie celtique // AnBoll. 1943. Vol. 61-81; Ó Briain F. Irish Hagiography: Historiography and Method // Measgra i gCuimhne Mhichíl Uí Cléirigh / Ed. S. O’Brien. Dublin, 1944. P. 119-131; Peritia: J. of Medieval Academy of Ireland. Dublin, 1982. N 1; Picard J.-M. Structural Patterns in Early Hiberno-Latin Hagiography // Peritia: J. of Medieval Academy of Ireland. Turnhout, 1985. N 4. P. 67-82; Sharpe R. Medieval Irish Saints’ Lives: An Introd. to Vitae Sanctorum Hiberniae. Oxf., 1991; Herbert M. Hagiography // Progress in Medieval Irish Studies / Ed. K. McCone, K. Simms. Maynooth, 1996. P. 79-90; Saints and Scholars: Studies in Irish Hagiography / Ed. J. Carey et al. Dublin, 2001; Celtic Hagiography and Saints’ Cults / Ed. J. Cartwright. Cardiff, 2003.
А. А. Королёв
Скандинавская
Первые агиографические памятники в Скандинавских странах относятся к периоду христианизации региона в XI в. В сочинениях этого типа заметно влияние герм. и англосакс. Ж. л., что объясняется прежде всего деятельностью миссий из Гамбургско-Бременского архиеп-ства (преимущественно в Дании и Швеции) и англосаксонской Англии (в Норвегии и Исландии). Наиболее значительные свидетельства о ранней стадии христианизации Скандинавских стран содержатся в Житии свт. Ансгария, архиеп. Гамбургско-Бременского, составленном его учеником и преемником Римбертом в 70-80-х гг. IX в., к-рое оказало влияние на местную агиографическую традицию. Ряд агиографических рассказов о деятельности миссионеров и сканд. благочестивых правителей вошел в состав «Деяний архиепископов Гамбургской Церкви» Адама Бременского (70-е гг. XI в.). Др. источником агиографии были традиц. устные лит. жанры — скальдическая поэзия и сага. Так, вскоре после смерти кор. Олафа II Святого (1030) придворный поэт Сигват Тордарсон сочинил «Поминальную драпу о св. Олафе» (Erfidrápa Óláfs helga) и др. произведения, в к-рых уподоблял погибшего короля Христу. Скальд Торарин Славослов в «Песни спокойного моря» (Glælognskvia, 30-е гг. XI в.) прославлял Олафа Святого за праведную жизнь, нетление мощей и дар чудотворений. В этом произведении особенно заметно влияние англосакс. традиции, в частности проповедей Эльфрика. В 1-й четв. XII в. англосакс. мон. Эльнот составил Мученичество дат. кор. Кнуда IV Святого.
В XI-XII вв. в Нидаросе (ныне Тронхейм, Норвегия) было составлено Житие Олафа Святого, сохранившееся в краткой (Acta S. Olavi regis et martyris) и пространной (Passio et miracula b. Olavi) редакциях, идентичных по содержанию. Их точная датировка и очередность составления остаются предметом дискуссии. Описания ряда чудес от мощей Олафа в обеих редакциях приписаны Нидаросскому архиеп. Эйнстейну Эрлендссону (1161-1188). В соч. мон. Теодориха «История о древних норвежских королях» (между 1177 и 1188) и в анонимной «Истории Норвегии» (ок. 1170) ядром повествования являются рассказы о 1-м христианском кор. Норвегии Олафе I Трюгвасоне и об Олафе Святом. Ок. 1170 г. было составлено легендарное Житие св. Суннивы (Acta Sanctorum in Selio), в основе к-рого лежат предания о первых поселениях христиан в Норвегии. Вероятно, в кон. XII в. было создано сказание о гибели шведского короля Эрика Святого, однако сохранившийся текст (по 1-й строке известно как «Gloriosi martyris Christi…»), по мнению большинства исследователей, относится к кон. XIII в. (Sands T. R. The Cult of St. Eric, King and Martyr, in Medieval Sweden // Sanctity in the North: Saints, Lives and Cults in Medieval Scandinavia / Ed. T. Du Bois. Toronto, 2007. P. 204-205).
В XII в. Ж. л. появилась в Исландии. Мон. Одд Сноррасон из мон-ря Тингейрар составил лат. Житие Олафа Трюгвасона, сохранившееся преимущественно в исл. переработках (Óláfs saga Tryggvasonar). В этом Житии Олаф был представлен как просветитель норвежцев. На рубеже XII и XIII вв. в Тингейраре работал агиограф Гуннлёуг Лейфссон, к-рый составил сохранившееся во фрагментах 2-е лат. Житие Олафа Трюгвасона (вероятно, переработка сочинения Одда). Созданное им лат. Житие св. Йоуна Огмуннарсона, еп. Хоулара, известно лишь в исл. переработках. Гуннлёуг участвовал в записи чудес св. Торлака, еп. Скаульхольта, признанного святым на альтинге 1199 г. Первое лат. Житие Торлака, от к-рого сохранился 1 фрагмент, было составлено в нач. XIII в., тогда же появилось описание его чудес на исл. языке.
Житие св. Олафа. Кон. XII в. (Oxford. Corpus Christi College. 209. Fol. 57r)
Житие св. Олафа. Кон. XII в. (Oxford. Corpus Christi College. 209. Fol. 57r)
Одновременно с латинской развивалась Ж. л. на народных языках в форме саг. В кон. XII в. была составлена «Древнейшая сага о св. Олафе» (Helgisaga Óláfs konungs Haraldssonar), сохранившаяся во фрагментах. Ее пространной версией является «Легендарная сага о св. Олафе» (1-я четв. XIII в., Норвегия). Стюрмир Карасон († 1245), приор исл. монастыря Видей, составил «Сагу о св. Олафе» (Óláfs saga helga), также сохранившуюся во фрагментах. Большое распространение получили агиографические сочинения исл. поэта и историка Снорри Стурлусона. В его эпической истории норвеж. королей «Круг земной» (Heimskringla, ок. 1230) центральное место занимает «Сага о св. Олафе», впосл. выделенная автором в отдельное произведение (Óláfs saga hins helga). В описании св. Олафа Снорри Стурлусон не придерживался церковной агиографической традиции и рассказал о его деятельности как о факте политической истории Норвегии, отказавшись от упоминания о посмертных чудесах святого. Ок. 1300 г. на основе сочинения Гуннлёуга Лейфссона и «Круга земного» была составлена «Большая сага об Олафе Трюгвасоне» (Óláfs saga Tryggvasonar en mesta). В то же время в связи с перенесением мощей св. Генриха в кафедральный собор в Або (Турку) было составлено Житие этого святого с кратким описанием его миссионерской деятельности и чудес. В 1-й пол. XIV в. каноник собора в Уппсале Израиль Эрланнсон (1260-1332) составил др. редакцию Жития св. Эрика, дополнив его новыми описаниями чудес.
Как и жития св. правителей, форму саг приобрели жизнеописания епископов — т. н. саги о епископах, к наиболее ранним относится рассказ о первых исл. епископах Ислейве Гицурарсоне и Гицуре Ислейвссоне в сб. «Пробуждение голода» (Hungrvaka), а также переработки лат. Житий св. епископов Торлака и Йоуна. Полное исл. Житие св. Торлака сохранилось в рукописи сер. XIV в. (Copenhagen, Arnamagnaeanske Institut. MS 382 4to), в нем сделан акцент на описании борьбы святого за права и свободу Церкви в Исландии. Согласно прологу, основанием для составления Жития было недостаточное описание коварства врагов святого в более ранних произведениях. Оригинальным сочинением является Житие Гудмунда Доброго (Saga Guđmundar Biskups Arasonar), сохранившееся в 3 редакциях (наиболее древняя редакция в ркп. 1-й пол. XIV в. AM 399 4to). Житие, в котором выражена идея противостояния епископа-аскета и традиционного общества, вероятно, основано на сочинении ученика Гудмунда Ламбкара Торгильссона († ок. 1242). Из др. произведений выделяется жизнеописание Хоуларского еп. Лаврентия Кёульфссона (1324-1331) (Laurentius saga biskups), вероятно составленное его сподвижником Эйнаром Хафлидасоном.
В XIII в. были выполнены первые переработки иностранных житийных сочинений. Возможно, Гуннлёугом Лейфссоном был сделан перевод на исл. язык Жития свт. Амвросия Медиоланского (Ambrósíus saga). Впосл. переводились — в прозаической форме и на простом, безыскусном языке — Мученичества вмч. Евстафия Плакиды, сщмч. Власия Севастийского, сочинения свт. Григория I Великого. Произведения XIII-XIV вв. (переработки и переводы лат. легенд о свт. Василии Великом, сщмч. Клименте и свт. Сильвестре Римских, свт. Мартине Турском, сщмч. Еразме Формийском, свт. Николае Мирликийском) относятся уже к т. н. цветистому стилю в исл. лит-ре. В нач. XIII в. появился 1-й исл. сборник сказаний об апостолах Петре, Иакове, Варфоломее, Матфее, Андрее, Павле, в основе к-рых лежали апокрифические деяния. В наиболее полном виде сборник легенд об апостолах содержится в т. н. Книге из Скарда (Codex Scardensis, XIV в.).
К числу оригинальных произведений Ж. л. на народном языке принадлежит фин. «Песнь о смерти епископа Генриха» (Piispa Henrikin surmavirsi) (вероятно, восходит к XIV в., записи XVII-XVIII вв.), независимая от лат. житийной традиции св. Генриха, еп. Або.
Из житий новых святых получили распространение переработки англосакс. и англ. текстов о свт. Дунстане, св. Фоме Бекете, архиеп. Кентерберийском, королях Эдварде и Освальде. К XIII в. относится сборник сказаний о чудесах Богоматери (Maríu Saga). С XIV в. распространяется религ. поэзия о Деве Марии и святых: «Лилия» мон. Эйстейна Асгримссона (1350), «Свет» и «Слезы Страстей Господних» Хоуларского еп. Йоуна Арасона (1522-1550). Расцвет лит-ры в кон. XV — нач. XVI в. в условиях начавшейся Реформации не привел к созданию новой Ж. л. Единственным значительным памятником этого периода является норвеж. «Пассионал», составленный в кон. XV в. на основе «Золотой легенды» Иакова из Варацце и вскоре переведенный на исл. язык.
Реформация привела к уничтожению значительной части лат. рукописей. Религ. лит-ра была ограничена гимнами, подходившими для лютеран. богослужения. В Исландии сохранению текстов Ж. л. способствовала деятельность Хоуларского еп. Торлака Скуласона (1628-1656), Скаульхольтского еп. Бриньольфа Свейнссона (1639-1674) и др., которые организовали копирование древних рукописей и отсылали их в Данию. Плодотворной была собирательская деятельность Арни Магнуссона (1663-1730).
Лит.: Ehrhardt H. Hagiographie: Island u. Norwegen // LexMA. Bd. 4. Sp. 1855-1856; Saints and Saga: A Symp. organized by the Centre for the Study of Vernacular Literature in the Middle Ages / Ed. by H. Bekker-Nielsen, B. Carle. Odense, 1994; Andersson T. M. The Growth of the Medieval Icelandic Sagas: 1180-1280. N. Y., 2006; Sanctity in the North: Saints, Lives and Cults in Medieval Scandinavia / Ed. T. Du Bois. Toronto, 2007.
Французская
На старофранцузском (романском) языке Ж. л. появилась в форме религ. стихов (секвенций и т. п.). Самым древним лит. памятником на старофранц. языке является «Песнь о св. Евлалии» (ок. 880), составленная в монастыре св. Аманда (Сент-Аман-лез-О). К XII в. относятся краткие повествования новеллистического характера, а также драмы (мистерии) и стихотворные поэмы о святых, для к-рых характерно влияние жанра романа. Житийные сюжеты нашли отражение в поэзии трубадуров. В XIV в. трубадур и мон. Леренского (Леринского) мон-ря Раймонд Ферод составил стихотворное Житие св. Гонората, близкое к эпическому жанру и напоминавшее «Песнь о Роланде». Св. Гонорат представлен современником франк. имп. Карла Великого, по зову к-рого он вышел на борьбу с сарацинами. Прозаические произведения средневек. Ж. л. на старофранц. языке имеют много общего с апокрифической лит-рой, в т. ч. с апокрифическими деяниями апостолов и Богоматери; ряд рассказов о чудесах был заимствован из фольклора. Особой популярностью пользовались вост. сюжеты (напр., легенда о святых Варлааме и Иоасафе). Первыми памятниками старофранц. Ж. л. стали переработки лат. переводных Житий вост. подвижниц — преподобных Евфросинии, Таисии, Марии Египетской. В старофранц. Ж. л. реалии визант. Востока адаптировались к реалиям средневек. Франции. В основе «Действа о Феофиле» (на старофранц. яз.) лежит визант. повесть о покаянии эконома Феофила. Интерес к вост. сюжетам прослеживается и в лат. Ж. л. Так, во 2-м Житии прп. Евсикия отец святого представлен как мавританский вельможа из Сарагосы, принявший крещение и переселившийся в Аквитанию; в лат. Житии св. Гемина, составленном в Италии, святой представлен сыном царя Сирии. Однако легенды с «восточным колоритом» оставались во франц. Ж. л. изолированными.
В XIII в. наряду с полуфольклорными переработками древних житий появились агиографические сочинения на старофранц. и провансальском языках, посвященные новым святым. Нек-рые жития способствовали распространению почитания святых в народе, другие имели дидактический характер. Житие кор. Франции Людовика IX Святого было написано его ближайшим советником Жаном де Жуанвилем, к-рый представил его как идеального правителя. Филиппина Порселлет вскоре после смерти католич. св. Дуцелины († 1247) составила на провансальском языке Житие подвижницы, где на примере ее жизни описан образец жен. добродетели.
Лит.: Merk J. Die literarische Gestaltung der altfranzösischen Heiligenleben bis Ende des 12. Jh. Zürich, 1946; Robertson D. The Medieval Saint’s Lives: Spiritual Renewal and Old French Literature. Nicholasville (Kentucky), 1995; Suire E. La sainteté française de la réforme catholique: XVIe-XVIIIe siècles: D’après les textes hagiographiques et les procès de canonisation. Pessac, 2001; Hagiographie et culte des saints en France méridionale, XIIIe-XVe siècle: [37e Colloque de Fanjeaux, 2001]. Toulouse, 2002.
Немецкая
Св. Омар. Лист из Штутгартского пассионала. XII в. (Stuttgart. 58. Fol. 118v)
Св. Омар. Лист из Штутгартского пассионала. XII в. (Stuttgart. 58. Fol. 118v)
также зародилась в форме духовных песен (Lied) на народном языке. От IX в. сохранились «Песнь о Петре» на древневерхненем. языке, составленная, вероятно, во Фрайзинге, и «Песнь о св. Георгии», созданная, возможно, в монастыре Райхенау. Ок. 1080 г. была написана «Песнь о св. Анноне». К кон. XI в. относится деятельность 1-й известной герм. поэтессы Авы, к-рой принадлежит цикл песен о св. Иоанне Предтече (в XII в. эти песни были переработаны в циклах Баумгартенбергского Анонима и пресв. Адельбрехта). В XII в. появились самостоятельные переработки житий древних святых на верхненем. языке — ап. Андрея, мч. Вита, св. Маргариты, св. Альбана. С сер. XII в. произведения нем. Ж. л., преимущественно стихотворные, получили широкое распространение. Ряд житий был создан клириками из обителей, связанных с почитанием местных святых. Таковы Житие св. Иулиании, составленное пресв. Арнольдом в Шефтларне, поэма «Серватий» Генриха фон Вельдеке, кустода ц. св. Серватия в Маастрихте, поэма «Ульрих» Альберта Аугсбургского, созданная вскоре после перенесения мощей св. Ульриха (1187); соч. «Генрих и Кунигунда» Эбернанда Эрфуртского было написано после канонизации герм. имп. Кунигунды в 1200 г.
В XII в. появилась придворная и бюргерская Ж. л. на нем. языке. В целом сочинения этого типа находились под влиянием эпоса и рыцарского романа. Наиболее характерные произведения 1-го типа — Житие вмч. Георгия Победоносца, сочинение Рейнбота Дюрнского, писавшего между 1231 и 1236 гг. по заказу герц. Баварии Оттона II, и Житие Вильгельма Венденского, созданное ок. 1295 г. по заказу кор. Чехии Вацлава II Ульрихом фон Эшенбахом. Для бюргерской среды более характерным было обращение к сюжетам, связанным с древними святыми. Таковы поэмы Конрада Вюрцбургского, посвященные свт. Сильвестру, папе Римскому, прп. Алексию, человеку Божию, вмч. Пантелеимону. Авторы этих произведений видели свою задачу в духовном наставлении. Гартман фон Ауэ (автор поэтического Жития св. Григория Столпника), Вольфрам фон Эшенбах (автор Жития св. Виллехальма) и Рейнбот Дюрнский подчеркивали подлинность своих рассказов, к-рые они противопоставляли выдумкам светской придворной лит-ры. Жития новых святых в нем. Ж. л. появились в XIII в. В 1238 г. Лампрехт Регенсбургский переработал в стихотворную форму лат. Житие Франциска Ассизского, составленное Фомой Челанским. В XIV в. на нем. языке были написаны Жития католич. святых Доминика, Екатерины Сиенской и др. Создавались прозаические переводы лат. житий, к-рые получили локальное распространение. Характерна традиция монастыря Санкт-Галлен, который до XII в. был известен как крупнейший центр латинской словесности. С XIII в. отчасти под влиянием аббата Ноткера III († ок. 1022), оставившего обширное лит. наследие на древневерхненем. языке, санкт-галленские авторы переходят на нем. язык. В сер. XV в. Ф. Кёльнер составил нем. переработки Житий местных святых — Галла, Отмара, Магна и Виборады. На нем. языке было написано соч. Кристиана Кухимайстера «Nüwe Casus Monasterii S. Galli» (Новая история монастыря св. Галла, ок. 1335), продолжение лат. «Casus S. Galli» (История св. Галла), где освещалась история мон-ря в XIII-XIV вв.
Особняком стоят немецкие легендарии — сборники кратких сказаний о святых, предназначенные гл. обр. для пастырского наставления народа. Чаще всего они основаны на лат. прототипах, хотя в подаче материала иногда сильно отличаются от них. Самые ранние легендарии фактически представляют собой гомилиарии (сборники проповедей). Первый нем. гомилиарий был составлен во 2-й пол. XII в. пресв. Конрадом и включал ряд проповедей, посвященных святым. Собственно легендарии появляются с XIII в., среди них — «Vaterbuch» (Книга об отцах), переработка лат. сб. «Vitae patrum», «Эльзасская Золотая легенда», переработка «Золотой легенды» Иакова из Варацце, и др. Стали появляться сборники сказаний о мучениках (Passional, Marterbuch). В кон. XIV в., вероятно в доминиканском мон-ре в Нюрнберге, был составлен сб. «Жития святых» (Der Heiligen Leben), вскоре получивший широкое распространение в Германии. В 1471 г. он был напечатан с миниатюрами и впосл. неоднократно переиздавался вплоть до начала Реформации.
Лит.: Bavaria sacra: Bayerische Heiligenlegende. Münch., 1948; Klüppel Th.
Reichenauer Hagiographie zwischen Walahfrid und Berno. Sigmaringen, 1980; Bischoff K. Die deutsche Otto — Vita des Konrad Bischoff aus dem Jahre 1473. Neustadt, 1982; Die Aachener «Vita Karoli Magni» des 12. Jh. Siegburg, 2002; Krönert K. Trierer Heiligenviten des 8. bis 11. Jh. Trier, 2006.
Итальянская
Галл падает в терновник. Миниатюра из Жития св. Галла Каспара Хартли. 1562 (Санкт-Галленю Stadtbibl. Sang. 542. Fol. 439)
Галл падает в терновник. Миниатюра из Жития св. Галла Каспара Хартли. 1562 (Санкт-Галленю Stadtbibl. Sang. 542. Fol. 439)
В Италии, а также в Испании Ж. л. на народных языках появилась не ранее сер. XIII в. В Италии этот процесс был тесно связан с деятельностью нищенствующих орденов, в первую очередь францисканцев. Франциск Ассизский и его сподвижница Клара Ассизская считаются основателями литературы на народном итал. языке (умбрийском диалекте). Первым произведением итал. агиографии стали «Цветочки» Франциска Ассизского, сборник рассказов о событиях из жизни святого, а также его краткие наставления. Позднее были созданы подобные сборники, посвященные Кларе Ассизской и др. В кон. XIII-XV в. появилось неск. народных сборников о чудесах католич. св. Антония Падуанского. На народный язык было переведено первоначально написанное на латыни Гвидо (Вито) Кортонским Житие св. Гумилианы из Черки, принадлежавшей к францисканскому Третьему ордену. Получила широкое распространение написанная в стиле Ж. л. «История брата Михаила», жизнеописание мон.-францисканца Микеле Берти из Кальчи, к-рый в 1389 г. был сожжен во Флоренции и почитался в народе св. мучеником. Из житий, изначально написанных на итал. языке, следует отметить Житие блж. Иоанна (Джованни) Коломбини. На народный язык целиком или во фрагментах были переведены известные агиографические сборники, напр. «Золотая легенда», нек-рые агиографические сборники подверглись переработке (сб. «Vitae patrum» был переработан доминиканцем Доменико Кавалька († 1342) под названием «Vite dei Santi Padri», соч. Иоанна Мосха «Луг духовный» переработал Фео Белькари († 1484) и назвал «Prato Spirituale»). В XVI-XVII вв. благодаря деятельности антиквариев и эрудитов появляются житийные сборники, посвященные местночтимым святым. Так, Л. Якобили составил 2 сборника о святых г. Фолиньо и святых Умбрии, куда были включены авторские переводы ряда лат. текстов. Его сочинения были своего рода научно-критическими исследованиями.
Лит.: Gajano S. B. Agiografia medievale. Bologna, 1976; Gordini G. D. Aspetti e problemi degli studi agiografici // La Scuola Cattolica. 1981. Vol. 108. P. 281-324; Cioffari G. Agiografia in Puglia i santi tra critica storica e devozione popolare. Bari, 1991; Bibliografia agiografica italiana: 1976-1999 / Ed. P. Golinelli e. a. R., 2001; Biblioteca agiografica italiana: Repertorio di testi e manoscritti, sec. XIII-XV / Ed. J. Dalarun, L. Leonardi et al. Firenze, 2003. 2 vol. + CD.
Испанская и португальская
. На Пиренейском п-ове местная Ж. л. сложилась на каталон., кастильском (испан.) и португ. языках. Каталон. и кастильская традиции зародились приблизительно одновременно, в сер. XIII в. Самым ранним каталон. памятником считается поэма «Песнь о св. Вере» (Cançó de S. Fe; XI в.). В кон. XIII в. в Руссильоне появилась каталон. переработка «Золотой легенды». Возникновение испан. агиографической традиции чаще всего связывается с именем поэта Гонсало де Берсео, писавшего на т. н. придворном романском языке (romano paladino). Наиболее значительным его произведением стало стихотворное Житие Доминика Силосского, прозаическая переработка которого на кастильском языке была вскоре предпринята силосским мон. Перо Марином. Ок. 1235 г. в Кастилии появилось Житие прп. Марии Египетской, среди др. народных переработок восточных легенд — Повесть о святых Варлааме и Иоасафе. Были составлены также народные Жития новых святых — Франциска Ассизского, Доминика, Антония Падуанского, Педро Гонсалеса.
Интерес к древней истории и церковным деятелям вестготско-мосарабской эпохи, характерный для испан. агиографии с XI в., сказался и на вернакулярной традиции. Первое Житие свт. Ильдефонса Толетского было создано на кастильском диалекте мон. Бенефециантом из Убеды. В XV в. толедский архипресв. Альфонсо Мартинес составил прозаические Жития святителей Исидора Гиспальского и Ильдефонса (Ystoria de la vida santa que fizo el bienaventurado Yllefonso). К XIV-XV вв. относятся житийные сборники на испан. языке (Vidas de Santos). От XIV в. сохранился ряд житий древних святых, переделанных с учетом местных фольклорных и лит. традиций, напр. испан. «История кабальеро Пласида, который впоследствии стал христианином и получил имя Евстафий» является переработкой Жития вмч. Евстафия Плакиды в форме рыцарского романа.
В рамках испано-иудейской агиографической традиции на языке ладино имело место активное обращение к ветхозаветным сюжетам. Формирование этого типа Ж. л. связывается с именем Авраама Ибн Эзры (ок. 1092-1167). Среди подобных произведений — «История четырех пленников», в основе к-рой лежит сюжет Книги прор. Даниила, переработанный в «Sefer ha-Kabbalah» Авраама Ибн Сауда. Агиографический оттенок имеют паломнические рассказы Иегуды Галеви..
С XIV в. в Португалии, в мон-ре Алкобаса, велась деятельность по переводу памятников лат. Ж. л. для помощи проповедникам. В XV в. под испан. влиянием создавались сборники сказаний о святых. На португ. языке были составлены Жития почитавшихся в народе кор. Изабеллы (Vida e milagros de Doña Isabel Rainha de Portugal, XIV в.) и инфанта Фернандо (XV в.).
Лит.: Almeida Lucas M. C., de. Hagiografia medieval portuguesa. Lisboa, 1984; Baños Vallejo F. La hagiografía como género literario en la Edad Media: Tipología de doce «Vidas» individuales castellanas. Oviedo, 1989; idem. Las vidas de santos en la literatura medieval española. Madrid, 2003; Velázquez Soriano I. Hagiografia y culto a los santos en Hispania visigoda: Aproximación a sus manifestaciones literarias. Mérida, 2005; Pratiques hagiographiques dans l’Espagne du Moyen âge et du Siècle d’or / Éd. F. Cazal, Cl. Chauchadis et C. Herzig. Toulouse, 2005-2007. 2 vol.
Д. В. Зайцев
Венгерская
Первые памятники Ж. л. в Венгрии были созданы на лат. языке во 2-й пол. XI в. и посвящены прославлению деятелей христ. миссии при кор. Иштване I (см. Стефан I) (997-1038) и его преемниках. Первым датированным текстом считается лат. Житие св. отшельников Зоерарда (Андрея) и Бенедикта, подвизавшихся близ г. Нитра (в совр. Словакии). Житие было составлено свт. Мавром, еп. г. Печ (1036-1070), в основу сочинения легли воспоминания самого Мавра и рассказы очевидцев. В 1083 г. Римский папа Григорий VII по просьбе кор. Владислава I (Ласло) канонизировал 5 венг. святых — кор. Иштвана I, его сына Эмериха (Имре), еп. Герхарда (Геллерта), преподобных Зоерарда (Андрея) и Бенедикта. Совр. исследователи подчеркивают политическую подоплеку канонизации, которая была призвана легитимизировать приход Владислава к власти. Вероятно, во время подготовки к канонизации бенедиктинец из монастыря Печварад составил пространное Житие Иштвана I (Legenda major). В Житии король представлен как «воин Христов», защитник и покровитель Церкви. Среди аспектов его деятельности выделены борьба с языческой оппозицией, формирование церковной орг-ции в Венгрии, укрепление королевской власти. При описании короля используется ряд топосов, вслед. чего его образ практически лишен индивидуальных черт. Исследователь Г. Кланицаи отмечал, что в пространном Житии св. Иштвана впервые появился образ правителя, к-рый достиг святости не мученическим подвигом, но благодаря своей поддержке христ. Церкви (Klaniczay G. Rex Iustus: The Saintly Institutor of Christian Kingship // The Hungarian Quarterly. 2000. Vol. 41. P. 14-31).
После церемонии поднятия мощей св. Иштвана, к-рые хранились в королевской базилике г. Секешфехервар, в мон-ре Паннонхальма было составлено краткое Житие короля (Legenda minor) с описанием канонизационного процесса и рассказом о борьбе Иштвана с языческой оппозицией, где в т. ч. упоминались факты жестокой расправы короля с мятежниками. Ок. 1100 г. некий еп. Гартвик, к-рого исследователи отождествляют с Дьёрским еп. Ардуином, составил новое Житие Иштвана, скомпилировав сведения, взятые из более ранних сочинений. Он вычеркнул эпизоды, свидетельствовавшие о жестокости короля, и с целью оправдать его действия добавил ряд топосов хвалебного характера и ссылки на каноническое право. Еп. Гартвик первым привел легенду о даре короны Римским папой Сильвестром II св. Иштвану. Между 1109 и 1116 гг. мон. Фулькон, использовав сохранившееся наставление Иштвана сыну и пространное Житие короля, составил Житие св. Эмериха, рано умершего сына Иштвана. Вероятно, из-за недостатка сведений в Житии почти нет конкретной информации об Эмерихе. Подчеркиваются его справедливость, скромность и образованность, что, по мнению Кланицаи, свидетельствует о намерении провести параллель между Эмерихом и св. Владиславом — якобы единственным законным преемником св. Иштвана. Приблизительно в это же время было составлено Житие св. Герхарда, еп. Чанадского и помощника св. Иштвана, которое сохранилось в краткой (2-й пол. XII в.) и пространной (XIV в.) редакциях. В Житии описываются миссионерская деятельность Герхарда в Трансильвании и его гибель во время языческого восстания (1046).
Все эти Жития, составленные по заказу королевской власти клириками, преимущественно иностранцами, в разной степени отражали сложное политическое положение в Венгрии в кон. XI — нач. XII в. К этой группе примыкает Житие кор. Владислава, вероятно составленное вскоре после его канонизации (1192). Святой изображен как идеальный король-рыцарь. К Житию приложено описание чудес, которые произошли на могиле короля. В XII в. на основании сочинения Гартвика было составлено не дошедшее до настоящего времени офиц. Житие св. Иштвана, хранившееся у мощей святого в Секешфехерваре (фрагмент Жития содержится в грамоте 1349 г. в картулярии монастыря Паннонхальма).
В XIII в. получили распространение различные версии Жития св. Елизаветы Тюрингской, которая по происхождению была связана с Венгрией. Первое Житие (Legenda vetus) племянницы Елизаветы, св. Маргариты Венгерской, было составлено вскоре после смерти Маргариты (1271), возможно, ее духовником Марцеллом. Традиц. прославление королевской власти соединяется в Житии с учением нищенствующих орденов. Одним из центральных эпизодов является описание сопротивления святой попыткам отца, венг. кор. Белы IV, выдать ее замуж, а также примирения ею отца и брата Стефана (буд. кор. Стефан V). Во время подготовки к канонизации Маргариты (1276) были собраны сведения о чудесах святой.
В XIII в. распространились проповеди о святых, составленные на венг. языке. Так, Бенедикт, еп. Надьварада (ныне Орадя, Румыния) († 1241), составил 2 проповеди о св. Владиславе. Сохранился сборник черновиков проповедей (Pécsi Beszédek) кон. XIII в. из Печа, среди них — 12 проповедей о венг. святых. Вероятно, в нач. XIV в. был выполнен венг. перевод Жития св. Маргариты, к-рый в переработанном виде сохранился в копии нач. XVI в. К кон. XIV в. относится Кодекс Йокаи, где содержится венг. перевод Жития св. Франциска Ассизского. В 1358 г., возможно каноником Марком Кальти из Секешфехервара, была составлена «Иллюстрированная хроника» (Képes Krónika), в к-рой основное внимание сосредоточено на деятельности кор. Владислава. В 1381 г. часть мощей прп. Павла Фивейского была перенесена из Венеции в Буду. В честь этого на латыни была написана «История перенесения мощей св. Павла Фивейского» — своеобразное продолжение Жития прп. Павла, составленного блж. Иеронимом. В фольклоре до тур. завоевания Венгрии (XVI в.) был особенно популярен образ св. Владислава, воплощавший процветание страны под властью благочестивого правителя.
Лит.: Négyesy L. Árpádkori compositio // Budapesti Szemle. Bdpst., 1913. Köt. 154. O. 188-201; Hуman B. A Szent Lászlу-kori Gesta Ungarorum és XII-XIII. századi leszármazói. Bdpst., 1925; Madzsar I. A II. Géza-kori névtelen. Bdpst., 1926; Győrffy Gy. Krónikáink és a magyar őstörténet. Bdpst., 1948; Horváth J. Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bdpst., 1954; Gerics J. Legkorábbi gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bdpst., 1961; A magyar irodalom története. Bdpst., 1964. I. köt.: A magyar irodalom története 1600-ig. O. 60-62; Képes G. A magyar ősköltészet nyomairól // Irodalomtörténeti Közlemények. Bdpst., 1964. O. 1-22, 171-193; Jókai-kódex: XIV-XV. század: a nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője / Bev., jegyz. P. Balázs János. Bdpst., 1981; Claniczay G. Holy Rulers and Blessed Princesses: Dynastic Cults in Medieval Central Europe. Camb., 2002.
Э. П. К.
Чешская
Жития чеш. святых составляют основной корпус оригинальной слав. лит-ры Чехии и свидетельствуют о сохранении здесь кирилло-мефодиевских традиций до кон. XI в. Специфика местной слав. Ж. л. заключалась в том, что она существовала в стране с преобладанием зап. обряда богослужения и развивалась в теснейшем взаимодействии с латиноязычной агиографией. Это объясняется и тем, что главные памятники ранней чеш. Ж. л. представляют Жития, посвященные правителям,- блгв. кн. Вячеславу (Вацлав; 921-935) и его бабушке мц. Людмиле, небесным покровителям Чешского гос-ва. По преданию, чеш. кн. Борживой (870-889) принял крещение от св. равноап. Мефодия, архиеп. Паннонского. В 921 г. вдова Борживоя Людмила погибла в результате заговора, организованного ее невесткой Драгомирой. Придя к власти, внук Людмилы кн. Вячеслав сослал Драгомиру, но впосл. был убит по приказу брата, буд. кн. Болеслава I. Вероятно, во 2-й пол. Х в. в среде слав. духовенства, близкой к княжескому двору, были созданы первые Жития святых Вячеслава и Людмилы. Слав. Житие кн. Вячеслава (т. н. 1-е Житие, или «Востоковская легенда») не сохранилось в рукописях собственно чеш. происхождения, а представлено 3 редакциями в глаголических хорват. бревиариях кон. XIII-XV в. и в восточнослав. (древнерус.) Торжественниках и Минеях-Четьих кон. XV-XVII в. Оно же послужило источником краткого Жития и повести о перенесении мощей князя в составе древнерус. Пролога 2-й редакции. Житие отличается простотой изложения, в нем подчеркивается гармоничное сосуществование слав. и лат. традиций в Чехии.
Слав. Житие мц. Людмилы в первоначальном виде не сохранилось и известно лишь в сокращении в составе рус. Прологов XIV-XVII вв. Сопоставление проложной редакции слав. текста Жития мц. Людмилы с наиболее ранней лат. версией X в. (по 1-й строке известно как «Fuit in provincia Boemorum…») позволяет считать, что несохранившийся памятник послужил для нее основой. По мнению ряда исследователей, на Руси Жития первых чешских князей-мучеников получили известность уже во 2-й пол. XI в. и оказали воздействие на лит. оформление церковного почитания святых Бориса и Глеба и равноап. Ольги (см.: Якобсон Р. О. Русские отголоски древнечешских памятников о Людмиле // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 46-50).
Ранние Жития послужили основой для развития Ж. л. в Чехии. Особенно сложной и разветвленной является житийная традиция блгв. кн. Вячеслава. Вероятно, во 2-й пол. X в. было составлено его лат. Житие (по 1-й строке известно как «Crescente fide Christiana…»), вскоре переработанное в Баварии. В ознаменование учреждения в Праге епископской кафедры (973) герм. имп. Оттон II (973-983) поручил составление нового Жития кн. Вячеслава еп. Гумпольду Мантуанскому, который использовал баварскую редакцию чеш. Жития. Во 2-й пол. XI в. это Житие было переработано в Сазавском мон-ре, дополнено сведениями из 2-го лат. Жития (по 1-й строке известно как «Crescente fide Christiana…») и переведено на старослав. язык. Данная версия Жития («Легенда Никольского») сохранилась в 2 рус. списках XVI в. Гибель святых Людмилы и Вячеслава представлена в контексте борьбы язычества с христианством, их убийцы отнесены к языческому лагерю. В Житии были описаны посмертные чудеса кн. Вячеслава. Наибольшее распространение получила «Легенда Кристиана» — пространное лат. Житие святых Вячеслава и Людмилы (Vita et passio S. Wenceslai et S. Ludmilae aviae eius), составленное мон. Бржевновского мон-ря Кристианом. Житие начинается обширным прологом, в к-ром повествуется об истории чеш. земель, о Вел. Моравии, о миссии равноапостольных братьев Кирилла (Константина) и Мефодия и о принятии чехами христианства. Источниками служили не только более ранние жития, но и предания. Легенда о кн. Вячеславе получила продолжение в Житии, составленном бенедиктинцем Лаврентием из мон-ря Монте-Кассино (Италия), и в Житии, известном по 1-й строке как «Oportet nos fratres…» (рубеж XI и XII вв.).
Широкое распространение получили Жития св. Прокопия († 1053), основателя Сазавского мон-ря. Вероятно, в 60-х гг. XI в. было составлено на латыни его 1-е Житие (Vita S. Procopii antiqua; по 1-й строке известно как «Tempore Henrici III imperatoris Romanorum…»). Краткое лат. Житие Прокопия (по 1-й строке известно как «Fuit itaque beatus abbas Procopius…») было составлено в Сазавском мон-ре не позднее XII в., возможно, на основании несохранившегося слав. Жития — «славянских письмен» (Mares. 1979. P. 134-135). Так, пролог одного из более поздних лат. Житий адресован современнику Прокопия еп. Северу Пражскому (1030-1067). Впосл. краткое Житие стало основой для составления пространного Жития св. Прокопия (Vita maior, XIV в.), к-рое было переработано в стихотворное и прозаическое Жития на чеш. языке. В Сазавском мон-ре, вероятно, был выполнен слав. перевод Жития прп. Венедикта Нурсийского из «Диалогов» св. Григория I Великого.
В XII в. агиографические сюжеты проникают в лит-ру исторического характера. «Легенда Кристиана» послужила одним из источников для «Чешской хроники» (Chronica Boemorum, 1119-1125) Козьмы Пражского, декана собора св. Вита в Праге. В «Сазавской хронике» на основании малого Жития св. Прокопия рассказывается о жизни святого, об истории основанного им мон-ря, о борьбе монахов за богослужение на слав. языке, о канонизации Прокопия в 1204 г. В сер. XII в. в одном из бенедиктинских мон-рей был составлен т. н. Опатовицкий сборник, куда вошло 138 проповедей, в т. ч. о кн. Вячеславе и сщмч. Адальберте, еп. Пражском. В эту эпоху получили распространение религиозные песнопения на старочешском языке, среди которых — песнь «Святой Вацлав» (Svatý Václav), известная в записях со 2-й пол. XIV в. Позднее песнь оформилась в литанию Богородице, ангелам, святым Виту, Адальберту, Людмиле и Прокопию.
В XIII в. в развитии чеш. Ж. л. наступил новый этап, связанный с проникновением в страну нем. «готической» культуры: светских лит. жанров, в т. ч. биографий и поэзии на нем. языке, а также духовной поэзии, близкой к апокрифической традиции, и мистической лит-ры. К кон. XIII в. в Чехии получила известность «Золотая легенда» Иакова из Варацце. В эту эпоху распространилось почитание пражских святых Вячеслава и Адальберта. Герм. имп. и кор. Чехии Карл IV (1346-1378), особо почитавший кн. Вячеслава, составил его Житие (до 1353), источниками к-рого послужили «Легенда Гумпольда» и Далимилова хроника (10-е гг. XIV в.). Житие Вячеслава вошло в ряд исторических произведений, в агиографический сб. «Acta Sanctorum» и «Пассионал» на чеш. языке, созданный по инициативе Пражского архиеп. Арнольда из Пардубице (1344-1364). В «Пассионал» были также включены переводы сказаний из «Золотой легенды», дополненные Житиями почитаемых в Чехии святых Кирилла и Мефодия, Вячеслава, Прокопия и др. Сборник стал широко известен и впосл. был дважды напечатан в Праге (1480, 1495). В это же время был выполнен чеш. перевод лат. сб. «Vitae patrum».
Как свидетельство возросшего интереса к слав. традиции можно рассматривать основание по приказу Карла IV в Праге Эммаусского монастыря, церковь к-рого была освящена во имя святых Иеронима, Адальберта, Прокопия и Кирилла и Мефодия. Император пригласил в мон-рь хорват. монахов, проводивших богослужение на слав. языке и использовавших глаголицу. Связанный с эммаусским кругом канцлер Ян из Стршеды перевел на чеш. язык Житие блж. Иеронима. Вероятно, ему как автору принадлежит также лат. Житие кн. Вячеслава (по 1-й строке известно как «Ut annuncietur…»). В 1-й трети XIV в. были созданы чеш. переводы Житий святых Георгия, Алексия, человека Божия, Ансельма и др. Распространение получил «рыцарский» культ вмч. Георгия, стихотворная обработка сказания о нем, взятого из «Золотой легенды»,- т. н. Брненская легенда — приписывается пресв. Якубу. В повествование введен ряд вымышленных «экзотических» деталей. Возможно, пресв. Якуб составил также Малую (Брненскую) легенду о вмц. Екатерине Александрийской. К сер. XIV в. относится Большая (Стокгольмская) легенда о святой, также на чеш. языке. Сер. XIV в. датируется стихотворное чеш. Житие св. Прокопия, стержнем этого повествования был вопрос о богослужении на слав. языке. Центральный эпизод Жития — изгнание св. Прокопием нем. монахов, к-рому композиционно соответствует сюжет об изгнании бесов из пещеры. В Житии подчеркиваются благородное происхождение святого, чудотворная сила его молитвы, устранены непонятные для агиографа детали (напр., наличие у св. Прокопия родного сына, в Житии он представлен как сын духовный). Одним из последних произведений чеш. средневек. Ж. л. является перевод легенды о святых Варлааме и Иоасафе, выполненный в кон. XIV в. Томасом из Штитне. Сохранились также отрывки стихотворного чеш. Жития блж. Агнессы († 1282), основательницы монастыря кларисс в Праге. Оно составлено с учетом более раннего лат. Жития, созданного под влиянием Ж. л. нищенствующих орденов.
В XV в. по причине богословских споров, инициированных Яном Гусом и его сторонниками, а затем гуситских войн и Реформации Ж. л. в Чехии почти не развивалась. Ее возрождение стало возможным в эпоху Контрреформации в Чехии (с 1620) и было связано с деятельностью иезуитов. Новые агиографические сочинения создавались в русле барочной лит-ры. К ним принадлежит духовная лирика Адама Михны (ок. 1600 — ок. 1676), преподавателя иезуитской коллегии в Йиндржихув-Градеце, ряд канционалов к-рого посвящен святым Кириллу и Мефодию, Норберту и др. Иезуит Феликс Кадлинский (1613-1675), известный как автор цикла мистических гимнов Христу, создал новые Жития святых покровителей Чехии Вячеслава (Жизнь и слава св. Вацлава, изд. в 1699) и Людмилы (Жизнь св. Людмилы, изд. в 1702). Иезуитом Фридрихом Бриделем (1619-1680) были написаны Житие св. Иоанна Пустынника (1656), стихи о святых Вячеславе и Прокопии. Характерными чертами этих произведений являлись использование как стихотворного, так и прозаического текста, чередование словесных и муз. партий. Агиографы-иезуиты подчеркивали идеализированное католич. прошлое Чехии, когда страна, почитавшая своих святых, была могущественной и независимой. В этот период особое распространение получило почитание католич. св. Иоанна Непомука, генерального викария Пражского архиеп-ства, убитого в 1393 г. по приказу герм. кор. Венцеслава (чеш. кор. Вацлав IV). В более поздней традиции Иоанн Непомук изображался как духовник королевы, убитый за отказ выдать тайну ее исповеди. Иезуитский историк и агиограф Богуслав Бальбин составил Житие св. Иоанна Непомука (1670). Отличавшееся драматизмом и трагическим колоритом повествования, оно было отвергнуто архиепископским капитулом как исполненное лит. вымыслов и не соответствующее историческим данным, однако болландисты включили его в изд. «Acta Sanctorum». Бальбину также принадлежит соч. «Святая Богемия, или О святых Богемии, Моравии, Силезии и Лужицы» (1682), он впервые издал «Легенду Христиана». Почитание св. Иоанна Непомука возросло после его беатификации (1721) и канонизации (1729) папой Бенедиктом XIII..
Иезуиты способствовали развитию духовной лирики и гомилетики, инициировали создание театральных произведений, тяготеющих к стилистике барокко (драма о св. Вячеславе, 1723) или к традициям средневековых мистерий («Игра о св. мученике Георгии» Я. Киллара). С завершением эпохи Контрреформации, которое сопровождалось вытеснением иезуитов с господствующих позиций в сфере культуры и образования, житийные произведения исчезают из чеш. лит-ры.
Изд.: Никольский Н. К. Легенда мантуанского еп. Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славяно-рус. переложении. СПб., 1909; Vajs J. Sborník staroslovanskích literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile. Praha, 1929; Сказания о начале Чешского гос-ва в древнерус. письменности / Предисл., коммент., пер.: А. И. Рогов. М., 1970; Mares F. W. An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin. Münch., 1979. P. 104-135; Počatky Přemyslovců: vstup Čechů do dĕjin (530-935) / D. Třeštík. Praha, 1997. S. 146-148, 225-248.
Лит.: Staroslovenske legendy českého puvodu: Nejstarši kapitoly z dĕjin česko-ruskych kulturalnich vztahu. Praha, 1976; СККДР. Вып. 1. С. 181-183; Sazava: Pamatnik staroslov. kultury v Čechach / K. Reichertova, E. Blahova, V. Dvorakova, V. Hunaček. Praha, 1988. S. 58-61, 67-68, 107-109; Мочалова В. В. Чешская литература // История литературы юж. и зап. славян. Т. 1: От истоков до сер. XVIII в. М., 1997. С. 257-336, 604-672; Středovĕké legendy o českých svĕtcích / Ed. J. Kolár. Praha, 1998; Парамонова М. Ю. Семейный конфликт и братоубийство в Вацлавской агиографии: Две агиографические модели святости и мученичества правителя // Одиссей: Человек в истории, 2001. М., 2001. С. 104-139; она же. Агиографическая модель мученика в борисоглебских житиях: Мифологизация обыденного и религ. апология социального страдания // Сравнительная история: Методы, задачи, перспективы. М., 2003. С. 57-92; Kolln H. Westkirchliches in altkirchenslavischer Literatur aus Grossmähren und Böhmen. Copenhagen, 2003. S. 52-63; Heiligenleben zur deutschen-slawischen Geschichte: Adalbert v. Prag u. Otto v. Bamberg / Hrsg. L. Weinrich. Darmstadt, 2005; The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom / Ed. B. Mortensen. Copenhagen, 2006; Svĕtci a jejich kult ve středovĕku / Ed. P. Kubín. České Budĕjovice, 2006.
А. А. Турилов, Э. П. К.
Польская
зародилась в связи с почитанием сщмч. Адальберта, еп. Пражского, погибшего во время миссии среди пруссов в 997 г. До этого в Польше, официально принявшей христианство с крещением кн. Мешко I (966), не было местночтимых святых. Слабое влияние кирилло-мефодиевской традиции и ориентация на Римско-Германскую империю определили дальнейшее развитие польск. церковной культуры. Наиболее значительным церковным деятелем этого времени считался Адальберт, посетивший Польшу по пути к пруссам. Гибель св. Адальберта получила резонанс в Европе. Уже в 998-999 гг. было составлено его 1-е Житие, приписываемое мон. Иоанну Канапарию из мон-ря святых Алексия и Вонифатия в Риме, где жил Адальберт (по др. версии, составителем Жития был знакомый с Адальбертом Римский папа Сильвестр II). В наст. время считается, что Житие было составлено при имп. дворе кем-то из окружения Льежского еп. Ноткера (972-1008) (Fried J. Gnesen-Aachen-Rom: Otto III. u. d. Kult d. hl. Adalbert // Polen und Deutschland vor 1000 Jahren: Die Berliner Tagung über d. «Akt der Gnesen» / Hrsg. M. Borgolte. B., 2002. S. 236-280). В Житии использовались рассказы спутников Адальберта, свидетелей его гибели. Произведение отличается возвышенным стилем, драматизм повествования достигает кульминации в трагической сцене гибели святого. Внутреннее единство сочинения держится за счет нарастания напряженности по мере приближения к финалу, когда все более частыми становятся упоминания о мученическом подвиге, к к-рому движется святой. Основой композиции является противопоставление благополучной жизни святого в Риме его бедствиям в Чехии, а затем гибели от рук язычников. Мощи святого были выкуплены кн. Болеславом I Храбрым и положены в Гнезно, где была основана архиепископская кафедра. В 999 г. папа Сильвестр II по инициативе имп. Оттона III канонизировал Адальберта, после чего почитание святого получило широкое распространение в Европе. В 1000 г. имп. Оттон III посетил Гнезно для поклонения гробнице святого и даровал Болеславу Храброму королевскую корону. Согласно венг. агиографической легенде XI в., Адальберт стоял у истоков христианства в Венгрии — он якобы крестил в Эстергоме венг. кн. Гезу и его сына Иштвана, к-рый впосл. стал королем Венгрии (Legenda S. Stephani regis maior. 4-5 // Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana / Ed. S. Endlicher. St. Gallen, 1849. P. 141-143). Существовала также легенда о том, что Адальберт короновал имп. Оттона III.
В средневековой традиции сщмч. Адальберту приписывалась проповедь о прп. Алексии, человеке Божием, в к-рой содержался призыв к аскетическим подвигам и умалению себя ради достижения вечной жизни (ActaSS. Iul. T. 4. P. 257-258). Продолжателем дела Адальберта стал сщмч. Брунон (см. ст. Бруно Кверфуртский). По инициативе Оттона III папа Сильвестр II назначил Брунона, стремившегося реализовать миссионерские планы Адальберта, «архиепископом язычников». После рукоположения в Магдебурге (1004) Брунон, из-за военных действий между кн. Болеславом и имп. Генрихом II не имевший возможности проехать к язычникам, отправился в Венгрию, где, вероятно, составил 2-е Житие сщмч. Адальберта, к-рый являлся для него образцом истинного миссионера. Так же как и 1-е Житие, это произведение отличалось возвышенным стилем, обилием риторических вопросов и восклицаний, однако его композиционный замысел проще, в нем содержалось больше биографических подробностей. Потерпев неудачу в проповеди среди «темных венгров», Брунон посетил Киев (янв. 1008), проповедовал среди печенегов (кон. февр.- кон. авг. 1008) и затем прибыл в Польшу. Там он узнал о гибели от рук разбойников 5 монахов, насельников мон-ря в Мендзыжече (в совр. Любушском воеводстве), с 2 из к-рых он был знаком в Италии. Брунон составил Житие пяти братьев-отшельников (Vita quinque fratrum eremitarum), в к-ром изложил свои воспоминания о них и размышления о мученическом подвиге. В 1009 г. он был убит во время проповеди язычникам, вероятно полабским славянам, пруссам или мазовшанам. Своеобразным памятником Ж. л. является вымышленная по содержанию краткая повесть о гибели св. Брунона (Hystoria de praedicatione episcopi Brunonis cum suis capellanis in Pruscia, et martyrio eorum), написанная от имени якобы выжившего ученика святого Виперта. В ней сообщается о сожжении епископом идолов и его немедленной казни по приказу языческого кн. Нетимера. Более достоверный рассказ о гибели Брунона содержится в «Хронике» Титмара Мерзебургского (Thietmar Merseburgensis. Chronicon. VI 58), а также в Житии св. Ромуальда, составленном ок. 1042 г. Петром Дамиани, где впервые засвидетельствовано почитание Брунона как мученика.
Дискуссионным является вопрос о происхождении 3-го, краткого Жития св. Адальберта (Passio S. Adalperti martiris), известного по рукописи из мон-ря Тегернзе (Бавария). По одной из версий, оно было составлено вскоре после 1038 г. в Польше, по др. версии — в Германии. Вероятно, Житие отчасти основано на устной традиции: так, в нем впервые со ссылкой на предание (ut fertur) приводится рассказ о принесении неким странником головы сщмч. Адальберта кн. Болеславу. Язык и стиль этого Жития гораздо проще, чем язык и стиль предшествующих произведений, однако автор использует элементы ритмической прозы и аллитерации.
Ранние жития святых миссионеров и мучеников оказали влияние на последующую агиографическую традицию. Это заметно в «Хронике» Галла Анонима, составленной в 10-х гг. XII в. Уделяя основное внимание политической истории страны, хронист рассказывает о св. Адальберте, деятельность которого, по его мнению, способствовала укреплению христианства в Польше, а также о встрече кн. Болеслава II с Оттоном III у мощей Адальберта в Гнезно. Оформление церковной структуры в Польше при Болеславе рассматривалось поздними хронистами как результат миссии св. Адальберта. В «Хронике» также отмечается, что святой спас жителей Гнезно от нападения язычников (Galli Anonimi Chronica et gesta ducum sive principum Polonorum. II 6). По свидетельству Галла Анонима, во время вторжения чеш. кн. Бржетислава I (1039) мощи сщмч. Адальберта были вывезены в Прагу. Однако это не привело к ослаблению почитания: в 1127 г. в гнезненском соборе были обретены якобы спрятанные клириками мощи святого. Ок. 1175 г. для храма, вероятно, в Германии были изготовлены бронзовые двери с 18 рельефными сценами из Жития Адальберта — от рождения святого до захоронения его мощей в Гнезно.
В XII в. развивалось почитание древних мучеников (Маврикия, Флориана, Сигизмунда), реликвии к-рых были доставлены в Польшу. Наиболее почитаемым польск. святым стал Краковский еп. Станислав, казненный в 1079 г. по приказу кор. Болеслава II Смелого в связи с заговором знати. Галл Аноним в лаконичной заметке об этом событии критически оценивает действия как короля, так и «епископа-предателя» (traditor episcopus). Однако уже Винцентий Кадлубек, еп. Краковский († 1223), писал в «Хронике» о несправедливом гневе короля, который осыпал епископа оскорблениями и приказал его, невиновного, казнить (Magistri Vincentii Chronica Polonorum. II 20-21). Доминиканец Винцентий из Кельце († после 1262) составил цикл агиографических произведений о еп. Станиславе. Краткое Житие (Vita minor), в к-ром епископ прямо не именуется святым, было создано до канонизации (1253). Житие написано простым языком, иногда автор прибегает к ритмической прозе и аллитерации. Вероятной целью создания этого памятника Ж. л. было его представление папской комиссии, рассматривавшей вопрос о канонизации. Отчасти это объясняет простоту языка и композиции, сопоставление Станислава с древними святыми, обилие деталей и отступлений исторического характера. Произведение открывается ссылкой на источники («как передают анналы властителей польских и истории их деяний»). Одной из главных целей агиографа было объяснение причин гибели Станислава и опровержение свидетельства Галла Анонима о ее политической подоплеке. Отвергая сомнительный рассказ Кадлубека о заступничестве Станислава за жен, сурово наказанных королем за измену мужьям, Винцентий приводит пространное повествование о развитии конфликта между епископом и Болеславом. Согласно Житию, Станислав чудесным образом воспрепятствовал королю присвоить завещанные Церкви земли, а затем отлучил его за насилие над женами подданных. После этого королевские дружинники убили епископа во время совершения мессы. Житие завершается рассказом об изгнании Болеслава из Польши и о внезапной смерти его сына. Последующий кризис и распад Польского гос-ва, лишившегося статуса королевства, агиограф объясняет Божией карой за убийство святого. Вскоре после канонизации Станислава Винцентий составил пространное Житие (Vita maior), основная часть к-рого содержит переработанный текст краткого Жития с добавлением рассказа о чудесах святого и истории его прославления. Более отчетливо, чем в кратком Житии, в нем выражена идея зависимости судьбы польской короны от почитания св. Станислава. Третьим сочинением Винцентия была рифмованная служба св. Станиславу (Historia gloriosissimi Stanislai), содержащая гимн «Радуйся, матерь Польша» (Gaude mater Polonia), позднее ставший одним из наиболее известных польск. песнопений.
В условиях политической раздробленности обострилось противостояние между архиепископством Гнезно (Вел. Польша) и Краковским еп-ством (М. Польша), отразившееся в лит-ре. Краковские агиографы критиковали династию Пястов, покровителем которой считался св. Адальберт. В Житии св. Станислава впервые изложено предание об основании Адальбертом Гнезненского архиеп-ства (Vita minor S. Stanislai. 19). Между 1260 и 1292 гг. был составлен Сборник чудес сщмч. Адальберта, в котором ранние Жития дополнены легендарными сведениями, представляющими святого как просветителя Венгрии и Польши, основателя митрополии Гнезно. Военные успехи и благополучие Польши при Болеславе I, ее независимость от Германской империи связываются с небесным покровительством Адальберта. В Сборнике чудес сщмч. Адальберта упоминается и св. Станислав, после его убийства рухнуло Польское королевство, созданное молитвами Адальберта. Одновременно была составлена рифмованная служба святому. В это время в Плоцке, принадлежавшем к Мазовецкому княжеству, предпринимались попытки начать канонизационный процесс еп. Вернера, к-рый был убит в 1170 или 1172 г., защищая имущественные права Церкви. Плоцкий еп. Петр Нидлих (1261-1270) призвал к почитанию гробницы Вернера в кафедральном соборе и поручил декану собора Иоанну составить его Житие. Это краткое произведение представляет собой смесь скудных сведений о жизни еп. Вернера, посмертных явлениях и чудесах.
В 1-й пол. XIII в. в Польше начали деятельность нищенствующие монашеские ордена, к-рые принесли новое представление об идеале христ. жизни в миру, отразившееся в Ж. л. Тогда же было составлено Житие св. Ядвиги, вдовы Силезского герц. Генриха, принявшей постриг в цистерцианском монастыре в Тшебнице (канонизирована в 1267). Житие разделено на главы, повествующие о добродетелях святой — воздержании, смирении, набожности, аскетизме и милосердии, а также о ее чудесах и даре провидения. Произведение завершается описанием многочисленных исцелений у ее гробницы. По такому же принципу (за исключением описаний чудес) построено и краткое Житие св. Ядвиги. Аналогичные мотивы, во многом почерпнутые из агиографической традиции католич. св. Елизаветы Тюрингской, присутствуют в кратком Житии св. Анны Силезской, а также в Житиях св. Саломеи, кор. Галицкой, и Кунигунды (Кинги), вдовы князя Краковского (все эти Жития были составлены на рубеже XIII и XIV вв.). Более традиц. по содержанию произведением является Житие и Чудеса св. Гиакинфа, составленное, вероятно, в 50-х гг. XIV в. доминиканцем Станиславом из Кракова. Гиакинф (Яцек Одровонж; ок. 1183-1257) был основателем первых доминиканских мон-рей в Польше, а также мон-ря в Киеве. В XVI в. был сделан ряд добавлений к Житию: об открытии мощей, о новых чудесах и об освящении во имя католич. святого капеллы в доминиканском мон-ре в Кракове.
Новым явлением в Польше стала Ж. л. на народном языке, важность употребления которого подчеркивалась в постановлениях ряда провинциальных синодов XIII в. В 1285 г. Гнезненский архиеп. Якуб Свинка предписал назначать на приходы только знающих польск. язык, чтобы священники произносили по-польски проповеди и некоторые литургические молитвы. На рубеже XIII и XIV вв. доминиканец Перегрин из Ополе составил сборник проповедей (Sermones de tempore et de sanctis), получивший широкую известность (с 1475 неоднократно изд.). Опираясь на «Золотую легенду», Перегрин включил в сборник проповеди о святых Адальберте, Станиславе и Ядвиге. По свидетельству историка Яна Длугоша (1415-1480), уже в XIV в. существовали польск. варианты «Vitae patrum» и «Золотой легенды» Иакова из Варацце. В нач. XV в. были составлены «Гнезненские проповеди» (Kazania gnieźnieńskie), куда вошли 95 лат. и 10 польск. текстов. На рубеже XIV и XV вв. создавались эпические песни на сюжеты Житий святых Алексия, Иова, Доротеи, Екатерины, Христофора. Распространение получили религ. лирика, апокрифические произведения. Одновременно развивалась и «ученая» лат. лит-ра. В 60-х гг. XV в. краковский каноник Длугош в ряду др. агиографических сочинений составил пространное Житие св. Станислава. В рассказе о св. Адальберте, включенном в «Историю Польши» (1455-1480), Длугош писал о превосходстве поляков над чехами, к-рые причинили святому немало бед, а также сообщил о том, что Адальберт, «архиепископ Гнезненский», якобы предсказал учреждение в Кракове митрополии, независимой от Гнезно (это произошло лишь в 1925). Под 1253 г. Длугош подробно описал канонизацию Станислава, приведя соответствующие документы. В 1454 г. в краковском соборе были открыты мощи еп. Иоанна (Яна) I Прандоты (1242-1266), одного из инициаторов канонизации св. Станислава. В 1454-1456 гг. в процессе подготовки к канонизации (несостоявшейся) Иоанна Прандоты было составлено подробное описание 54 чудес от мощей, снабженное краткой биографией епископа (Miracula venerabilis patris Prandothe episcopi Cracoviensis).
Во 2-й пол. XV в. в связи с итал. влиянием в Польше стали распространяться гуманистические идеи. В стране жил бежавший из Рима итал. гуманист Филиппо Буонаккорси (Каллимах) (1437-1496), к-рый составил «Сапфическую песнь о жизни преславного мученика св. Станислава». Ему принадлежат также жизнеописания Львовского архиеп. Григория (Гжегожа) из Санока и кард. Збигнева Олесницкого, созданные в жанре ренессансной биографии. На фоне общего расцвета польск. лит-ры в XVI в. возникает ряд агиографических произведений на польском языке. К ним относится перевод Жития св. Станислава, выполненный Миколаем из Вильковецка († 1601), к-рый нек-рое время был проповедником в мон-ре арх. Михаила и св. Станислава на Скальке в Кракове. Получили распространение духовные романы, в т. ч. о св. Евстафии Плакиде (1529), св. Алексии, человеке Божием, и др., характерными для этих произведений становятся взаимовлияние и переплетение жанров духовной и светской лит-ры. Среди лат. произведений следует назвать поэму о св. Гиацинте (1525) Николая Гуссовского († после 1533). Самобытный поэт Клеменс Яницкий († ок. 1542) составил стихотворные «Жизнеописания Гнезненских архиепископов» (1536-1537, изд. в 1574).
В 1564 г. кард. Станислав Хозюш пригласил в Польшу иезуитов, к-рые определили облик польск. культуры XVI-XVIII вв. и руководили богословской полемикой с протестантами и православными. Крупнейшим представителем польск. Контрреформации был богослов, полемист и проповедник Петр Скарга (1536-1612). Составленные им «Жития святых Ветхого и Нового Завета» (1579), основанные на собраниях Л. Липпомани и Л. Сурия,- наиболее значительный памятник поздней Ж. л. в Польше. В этом компендиуме Скарга как талантливый проповедник использовал стили классической риторики и простонародного языка, подчеркивая героизм и самоотречение подвижников. «Жития святых…» Скарги приобрели широкую популярность и повлияли на лит-ру Польши и др. стран, экспрессивный стиль иезуитского писателя оказал влияние на свт. Димитрия, митр. Ростовского, при составлении Миней-Четьих (1684-1705). Гжегож из Самбора написал лат. поэму о жизни иезуита Станислава Костки (Vita S. Stanislai Costuli Poloni, 1570). Ж. л. широко использовалась в иезуитских коллегиях при создании драматических произведений (напр., незадолго до 1693 на территории Белоруссии появилась драма «Духовное причастие святых Бориса и Глеба»). Однако постепенно из духовной лит-ры исчезает представление об агиографическом каноне, жизнеописания святых все больше приближаются к жанру биографии. Несмотря на распространение идеологии сарматизма, представлений о богоизбранности Польши, рост почитания святых и новые канонизации, агиография приходила в упадок. Возрождение религ. лит-ры в XVIII в. в Польше не повлекло за собой восстановления Ж. л.
Лит.: Brückner A. Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. Warsz., 1904. T. 3: Legendy i modlitewniki; Woroniecki J. Hagiografia: Jej przedmiot, trudności i zadania w Polsce. Kraków, 1940; Hagiografia polska: Słownik biobibliograficzny / Ed. R. Gustaw. Poznań, 1971-1972. 2 t.; Толстая С. М. Языковая ситуация в Польше в XII-XIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма / Отв. ред. Г. Г. Литаврин, В. В. Иванов. М., 1989. С. 280-296; Şw. Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej / Ed. K. Śmigl. Gniezno, 1992; Starnawsky J. Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i lacińskiej w wiekach średnich. Kraków, 1993; Липатов А. В. Польская литература // История литературы юж. и зап. славян. Т. 1: От истоков до сер. XVIII в. М., 1997. С. 342-394, 415-603; Witkowska A. Şw. Wojciech: Žycie i kult: Bibliografia do roku 1999. Lublin, 2002; idem. Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne: Bibliografia hagiografii staropolskiej. Lublin, 2007; Simone F. L’immagine di Stanislao di Cracovia nella produzione storico-letteraria tra XII e XIII secolo // Franciscana. 2004. Vol. 6. P. 24-71; Hoffmann J. Vita Adalberti: Früheste Textüberlieferungen der Lebensgeschichte Adalberts von Prag. Essen, 2005.
А. К.
Литературоведение
Агиография. Основные понятия
Агиография. Источники
Источниковедение
Житийная литература, раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания христианских подвижников, причисленных Церковью к лику святых, чудеса, видения, похвальные слова, сказания об обретении и о перенесении мощей
БОЛЛАНДИСТЫ иезуиты, издатели и агиографы
АВЕРКИЯ (ИЕРАПОЛЬСКОГО) ЭПИТАФИЯ самая ранняя идентифицированная христианская надпись
АГАФАНГЕЛ секретарь арм. царя Трдата IV (298-330) — см. «Агафангел»
«АГАФАНГЕЛ» название, закрепившееся за сочинением Агафангела, секретаря арм. царя Трдата IV
АГИОС 1) В греческой церковной традиции — обозначение важнейшего лика святости 2) Встречается как устойчивое словосоч. с именами изображаемых святых в надписях на иконах
АКРОСТИХ формальный прием организации преимущественно поэтических текстов, используемый обычно в декламационной и песенной поэзии
«ACTA SANCTORUM» крупнейшее собрание житий, текстов и документов о жизни святых
АКТЫ МУЧЕНИКОВ документы судебных процессов против христиан в Римской империи
«ANALECTA BOLLANDIANA» ежегод. периодическое издание об-ва иезуитов-болландистов в Брюсселе (Бельгия)
ANALECTA HYMNICA GRAECA (AHG), 12-томная антология визант. канонов, сохранившихся в рукописных Минеях и не вошедших в печатные служебные Минеи