Чувашский фольклор : Сказки и легенды : Земля УлыпаПо рассказам древних стариков, в те далекие времена, когда людей на нашей чувашской земле еще не было, а лишь шумели сплошные дремучие леса, — с южных Арамазейских гор спустился Улып-Великан. Его послал на нашу землю бог-громовержец Аслати, чтобы творить добро. Улып был огромного роста и обладал богатырской силой. Ему ничего не стоило перешагнуть большую реку. Высокие сосны были ему только по пояс. Спустившись с гор, Улып увидел в долинах многочисленные стада. Их пасли очень маленькие, по его понятиям, люди. Скот, за которым они ухаживали, давал им пищу и одежду. Улып забыл наказ отца Аслати, отобрал у людей скот и разорил их жилища. Выбрав самую красивую девушку, женился на ней и стал жить хозяином всех богатств здешней земли. Жена родила ему двух сыновей. Сыновья от отца-великана росли тоже богатырями-великанами. Они пасли стада и ходили на охоту. Их стрелы поражали любого зверя за семь верст. В весенний праздник Калама умерла их мать. Улып погоревал-погоревал и пошел искать себе жену на родных горах Арамази. День прошел, два прошло, три минуло, нет Улыпа. Сыновья забеспокоились и отправились на поиски отца. Поднялись на самую высокую гору и нашли своего отца прикованным к скале. Увидев сыновей, он сказал: — За то, что я ослушался Аслати и вместо добра сеял зло, боги приковали меня здесь на вечные времена. Так что вы, дети мои, не сейте злые семена, не делайте людям вреда, а поселитесь среди них и живите в мире и согласии. Идите отсюда прямо на север. Через три дня вы дойдете до большой реки, впадающей в море, и продолжите ваш путь вдоль этой реки. Через семь лет вы придете в такое место, где река соединяется с другой такой же большой рекой. Здесь вы жертвоприношением умилостивите богов и попросите их, чтобы они помогали вам в дальнейшей жизни. А после этого — поселитесь: младший — между реками, а старший — по правую сторону той реки, которая впадает в море. Это будет родиной вашего племени. И если вы посеете на этой земле семена добра, ваши потомки будут помнить и почитать вас во веки веков. Сыновья обещали выполнить наказы отца, попрощались и ушли. Зная, что больше он никогда уже не увидит своих сыновей, Улып заплакал горючими слезами. Его слезы растопили горные льды, и с гор потекли в долины ручьи, заливая зеленые луга. Луга покрылись красными и белыми цветами. Сыновья Улыпа пошли со своими стадами на север. Вскоре им преградили путь горные люди, но они отбились от них и через три дня пришли к большой реке, впадающей в море. Они назвали эту реку Адыл — Волга и ее берегом пошли дальше. Здесь им пришлось защищаться от нападений степных людей. Добрались они до горного кряжа, который рассекала река и за которым начинались густые непроходимые леса. Лесные люди тоже пытались остановить их, но они, при своей богатырской силе, легко справились с ними и продолжили свой путь. Ровно через семь лет они пришли в то место, о котором говорил отец: здесь в Адыл вливалась другая столь же великая река. Братья остановились, в ближайшую среду зарезали утку и принесли ее в жертву богу-громовержцу Аслати. — Грозный Аслати! — обратились братья с молитвой к богу. — От всего сердца приносим тебе эту жертву и просим сделать так, чтобы наше племя росло и крепло. Сохрани нас, о великий Аслати, от всех зол и бед, от врагов и недругов, от злых духов, от мора, от огня, от голода. Пусть наш скот плодится и наши стада увеличиваются. Пусть наши желания сбываются. Помыслы наши чисты, и мы надеемся, верим, ждём, что все так и будет! После этого младший сын Улыпа поселился между реками, а старший занял правый берег Адыла вплоть до того места, где впадает в нее тихоструйная Сура. Однажды старший сын охотился и забрел на другой берег Суры. Там он увидел поле, сплошь покрытое желтыми стеблями с колосьями. Он спросил у людей, которые работали на этом поле, кто они и что делают. — Мы — русские, убираем созревший хлеб, — ответили ему. С тех пор сын Улыпа сам начал корчевать леса и очищенные места засевать рожью. Когда во время пашни в лапти набивалось много земли, великан снимал их и вытряхивал. На этих местах образовались большие ли, малые ли холмы, которые и по сей день зовутся Землей Улыпа. И весь наш народ ведет свое происхождение от племени Улыпа. Улып — исполин, богатырь. Аслати – гром. Калам – весенний праздник язычников-чувашей, совпадающий с пасхой. Земля Улыпа : [чувашская народная сказка] / пер. С. И. Шуртакова // Чувашские легенды и сказки. – Чебоксары, 1979. – С. 7-8. |
Улып

Народное творчество
Рассказывают, что родился Улып в широкой степи у подножья волшебной горы Арамази рано утром, когда Ирхи-Шусьм только-только готовилась провожать своего мужа Хевеля в путь, в который он отправлялся каждый день.
Отец новорожденного был властелином большого, сильного племени, а мать — дочерью царя кочевников.
Хайпюрень, дающая жизнь всему живому, решила предупредить Хунхасьси, что ею благословлен только что рожденный. Она ведь знала, что о каждом родившемся Хунхасьси записывает в свою волшебную книгу, а потом дает читать Тангару. А владыка Вселенной разрешает своей любимой жене писать судьбу на лбу новорожденного. Иногда он сам говорит Пюлехсе, кому какую судьбу написать, но в большинстве случаев добрая богиня сама распределяет судьбы вновь родившихся.
В тот момент, когда родился Улып, Хунхасьси не было на месте. Он находился на краю Вселенной и распределял очередность облаков, которые должны были пройти по Сюттенче.
Хайпюрень, не найдя Хунхасьси, пошла к Пюлехсе и поведала ей о том, что она только что дала жизнь новому ребенку.
Надо бы ему скорее судьбу дать, — сказала она своей доброй подруге, богине, пишущей судьбы на лбах вновь родившихся. — Я хотела сообщить о его рождении Хунхасьси, но смотрителя Вселенной нет во дворце. Может, великому твоему супругу ты сама сообщишь о рождении ребенка?
-Рано еще. Мой могучий супруг спит после вчерашнего веселого пира, — сказала Пюлехсе. — И нам его не разбудить. — Что же делать тогда? — растерялась Хайпюрень. —Нельзя же ребенка оставлять столько времени без судьбы.
— Ну, насчет этого ты не беспокойся, мы ему без владыки Вселенной судьбу выберем. Кто он, золото или серебро?
— Золото.
— Значит, мальчик. — Пюлехсе заметила, что Хайпюрень слишком заботится о вновь родившемся. Ей показалось что она стремится покровительствовать ему. Пюлехсе была добрая и решила обрадовать свою подругу, выбрав для вновь родившегося великую судьбу. Если бы новорожденный был девочкой, то есть, серебро, как выражаются боги,то она выбрала бы, конечно, красоту, нежность, верность,счастливую любовь. Так как вновь родившийся был мальчиком, она решила дать ему героическую судьбу, то есть такую, которая помогла бы мальчику прославить свой народ, весь человеческий род.
— Он будет самым великим среди героев, каких знала земля, — сказала Пюлехсе своей подруге.
Великий Тангар, проснувшись, стал читать волшебную книгу Хунхасьси, который уже прибыл из конца Вселенной и занес туда все новости Сюттенче, в том числе и рож-дение Улыпа.
— А кто его родители? — спросил Тангар у бога-смотрителя Вселенной.
— Отец — властелин племени, а мать — дочь царя кочевников.
— И ему дали такую великую судьбу! — вдруг закричал громовым голосом владыка Вселенной. — Где ты был в это время, бездельник Хунхасьси! И кто это без моего ведома распоряжается судьбами людей?! Ведь этот мальчик принесет мне столько беды, столько хлопот! Я хотел ему дать другую судьбу: быструю смерть и счастливую жизнь вСятмахе! А что ты теперь натворил!
— Это не я! Это твоя златоволосая супруга! Это она поторопилась написать ему на лбу судьбу такую! — испуганно стал оправдываться Хуньхасьси. Он знал, как страшен бывает в гневе Тангар и иногда свергает даже богов с небес прямо в Тамак к узалам.
Но смотритель Вселенной здесь допустил оплошность. Тангар любил свою жену и не мог обрушить свой гнев на нее, поэтому воспылал он ненавистью к Хунхасьси за то, что он примешивает к беде и ее.
—Ты еще клевещешь тут на мою царственную супругу! —пуще прежнего рассердился владыка Вселенной.
Он схватил Хунхасьси за шиворот и выбросил из своих изумрудных дворцов.
—Я лишу тебя высокого звания смотрителя и распорядителя Вселенной! — крикнул он ему вслед.
И на эту должность великий венценосец Тангар назначил богиню Кэбе. А Хуньхасьси с того дня лишился своего высокого сана и стал покровителем трав, растений, хлебов. Он также лишился своего места рядом с владыкой Вселенной и был понижен на последний, восьмой, стол на пирах в изумрудных дворцах.
Несмотря на все это, никто уже не мог отнять судьбу эту у Улыпа. Судьба великого героя, до сих пор невиданная, была записана Пюлехсе на его лбу.
Так появился он, великий Улып, в Сюттенче, даже своим появлением лишая богов званий, принеся в их обитель ссору…
Быстро рос Улып. К семи годам стал настоящим богатырем. С малых лет не сиделось ему дома. Часто и подолгу он пропадал в степи, в ущельях гор…
Однажды Улып решил дойти до конца широкой степи и узнать, что за племена живут там, куда он до сих пор не ходил. Одел свои широкие шаровары, обулся в сапоги и пошел на север.
По пути попался ему девственный большой лес. Деревья мешали Улыпу шагать, цепляясь ветвями за шаровары, за сапоги, несколько раз он споткнулся и чуть не упал. Рассердился тогда Улып и стал вытаскивать деревья прямо с корнями. За несколько минут он раскорчевал столько деревьев, что образовалась широкая просека, и пошел он по нему далыпе на север.
Лес кончился. Опять началась степь. И тут Улып почувствовал: что-то мешает ему шагать. Оказыватся, когда он выкорчевывал лес, комья земли попали в сапоги. Поняв это, Улып сел на землю, разулся и высыпал из сапог всю землю.
И образовались на том месте два больших кургана, которые чуваши до сих пор называют Улып тапри — Земля Улыпа.
Стояла чудная весенняя погода. Хевель-Солнце подни-малось на ленивом быке на небо. Пчелы летели в поисках меда. Птицы пели на редких степных деревьях.
Идет, шагает семимильными шагами Улып дальше на север. Вот уже родная степь кончается. Начинаются холмистые поля, разрезанные оврагами. И вдруг Улып заметил небольшое, похожее на него самого, необыкновенное существо, которое во что-то железное запрягло другое четвероногое существо и ковыряло землю.
А это был человек, землепашец, который пахал землю на своей лошади.
—Ах ты, червячок, портишь землю! — рассердился Улыпи, схватив человека вместе с плугом и лошадью, положилв карман.
Мать встретила Улыпа у порога своей юрты.
— Ну, ты узнал, кто живет на севере, где кончаются наши степи?’ — спросила она.
— Там земли много, но пусто, никого нет. Ни табунов,ни хозяев нет, — ответил Улып. — Только вот такого червяка я увидел, который запряг другое четырехногое существо и портит землю.
Сказав так, Улып вытащил из кармана землепашца с его плугом и лошадью.
—И-и-и, сын мой, это не червяк, это — человек, землепашец, — сказала ему мать. — Он землю не портит —обрабатывает ее, пашет, потом сеет и в конце получает хо-роший урожай. Ты не обижай его, отнеси туда же, откуда принес. И помни: через многие годы нас не будет на земле.Тогда маленькие люди и заселят все поля, все степи, в том числе и нашу прекрасную степь…
Много подвигов совершил Улып во имя счастья людей. Он дал им огонь, выстрелом стрелы отколов кусок небесной Огненной звезды, спас девушек из плена эшкеров — полузверей-полулюдей, победил злого колдуна Чиге-старика — Хурсухала, пытавшегося уничтожить людей…
У великого героя Улыпа было много детей. Выросли они и стали жить в степи, пасти свои многочисленные стада.
Однажды к Улыпу собрались его сыновья.
—Отец, — сказали они, — наши стада с каждым годом увеличиваются, они поедают много трав, и поэтому степи наши обеднели. Если ты разрешишь, то мы хотим откочевать в другие степи, на другие благодатные земли.
— Сыны мои, — промолвил тихо Улып, — уж на белом свете сделано так: дети, как только вырастают, покидают жилище отцов. Орла, что родился летать, не привяжешь навечно к скале, также и я не остановлю вас в вашем желании. Но скажите, куда же вы хотите откочевать?
— У каждого — свое счастье, говорят. Чьи глаза какуюсторону полюбят, туда и хотим мы, — ответили те.
Услышав это, Улып задумался. Несколько раз вздохнул глубоко-глубоко. И воздух, который он выдохнул, прогнал с неба все облака далеко-далеко, на край света. Погода стала солнечной, чистой, теплой. И Улып, любуясь, оглядел всех своих богоравных сыновей. Каждый его сын был таким же богатырем, как и он сам: кареглазым, черноволосым. И наконец Улып сказал одному сыну:
—Жарко стало, солнце сильно греет, плюнь-ка ты на землю.
Услышав это, сын очень удивился, но не мог ослушаться отца, плюнул на землю. Но его плевок, как только упал на землю, тут же высох на солнце. Земля, проголодавшаяся по воде, не смогла принять даже немного влаги.
—Теперь, дети мои, соберитесь вокруг этой ложбинкии все разом плюньте туда, — сказал Улып всем сыновьям.
Удивились его сыновья. Но делать нечего. Нельзя же не выполнять просьбы и приказы отца. Они собрались вокруг ложбины и разом плюнули. И в ложбине тут же образовалось глубокое озеро.
— Вот видите, дети мои, — показал им на озеро Улып, —один плюнет — высохнет, всей семьей плюнем — озеро образуется. Я неспроста спросил: куда вы хотите откочевать? Если вы по одному разбредетесь по безбрежным степям, то вряд ли счастье найдете. Куда бы ни ушли, старайтесь держаться вместе.
— Отец, мы ведь нигде не хотим создавать новое озеро, —высказался самый младший сын Улыпа. — Озер, овраговитак на земле достаточно. Нам нужны степи для наших бесчисленных стад. Живя все вместе, мы будем мешать друг другу.
Услышав слова младшего сына, нахмурил брови Улып. Даже солнце поторопилось уйти за горы, оно знало: добра не жди, коль сердится великий герой.
Но Улып не стал сердиться. Немного подумал он и подошел к своему дому, которой был с высотою горы. Около дома лежали два веника. Веники были огромные. Каждый веник Улып собирал из целого болыного леса.
Не понимая мысли отца, стояли сыновья Улыпа, не промолвив ни слова.
Улып притащил веники к сыновьям. Взял он один, развязал веревку и раздал прутики детям. Сказал:
— Попробуйте, сможете ли сломать?
— Сможем, — ответили те.
И вправду, все прутики были ими разломаны.
— Отец, мы не только веник, мы железную гору можем разрушить, — похвалился тут самый младший сынУлыпа.
— Не торопитесь с такими словами, дети мои, — нравоучительно сказал им Улып. — Вот вам еще один веник. Попробуйте его разломать.
Он покрепче связал другой веник и дал младшему сыну. Тот всю силу приложил, чтобы разломать веник, но не смог. Веник как был целым, таким и остался.
—Дай-ка мне, я быстро с ним справлюсь, — сказал ему старший брат. Он взял от младшего веник и, собрав все силы, старался его разломать. Но это и ему не удалось.
Сыновья старика один за другим брали в руки этот веник, но так и не смогли справиться с ним.
И Улып, улыбнувшись, сказал своим детям:
— Говорят: один голову к долу клонит, а кто вместе с общиной — на коня садится. Прутья первого веника вы поодиночке быстро сломали, а второй веник, целый, не смогли. Почему? Потому что каждый прутик этого веника под защитой другого. Каждый прутик помогает другому. И вы так же, будете жить по одному, горе и несчастье поборют вас. А вместе будете, то никакое горе вам не страшно. Никто вас не победит. Поняли, дети мои?
— Поняли, — сказали те.
— И ты понял? — спросил Улып младшего сына.
— Понял, — ответил и он.
Послушав отца, дети Улыпа не разошлись по безбрежным степям по одному. Они разделились на три части: девять сыновей пошли на север, семеро сыновей, собравшись, — на запад, а остальные — на юг. Каждая группа звала с собою отца.
— Нет, дети мои, — не соглашался с ними Улып. — Я пойду в страну Мальен, откуда восходит солнце. Ведь когда-то наши предки все жили в Мальене. Мальен священен. И вы, где бы ни были, каждое утро смотрите туда, ждите моего знака. И как только будет мой знак — перекочуйте на восток. В Мальене мы все и встретимся и создадим Страну Счастливых.
Почитая завещание Улыпа, до сих пор чуваши свои дома ставят так, что двери их открываются в Мальен. Они никогда не забывают его завещания и ждут знака, чтобы собраться всем вместе и создать Страну Счастливых.
ЧУВАШСКИЕ ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ
ЗАВЕТНОЕ СЛОВО
…И собрался добрый молодец в путь-дорогу. И пошел, как и было ему наказано, на восход солнца. Леса дремучие, горы высокие, реки текучие вставали на его пути, и если бы не слово заветное да не сила-удаль молодецкая — впору назад ворочаться. А перед тем словом заветным и леса дремучие расступались и горы высокие раздвигались…
За мутным, заледенелым окном воет на разные голоса январская вьюга. Словно кто-то большой и рассерженный ходит за стенами избы и то засвистит по-разбойничьи, то с размаху кинет снегом в окошко, то грозно, устрашающе загудит в трубе. И так-то уютно, так-то сладко в такой вечер лежать на теплой печи и слушать сказку, которую рассказывает мать…
Нынче сказки чаще читают, чем рассказывают. Но и все равно — вспомните-ка себя пяти-шестилетними, вспомните, как у вас замирало сердце, когда добру-молодцу в его пути-дороге встречались то враги, то чародеи-колдуны, то злые ведьмы, и как он с ними бился из последних сил и в конце концов побеждал.
А еще давайте попробуем представить те времена, когда сказки не читались и не писались, а вот именно только сказывались. Но хотя письменности не было, книги не издавались, песенники не печатались, однако же это вовсе не значит, что и языка не было, сказок и песен не было. Люди в праздники водили шумные хороводы, пели чудесные песни, а долгими зимними вечерами рассказывали сказки, легенды, народные предания. Так было и так шло из века в век. Шло, шло и до нас, до нашего времени дошло.
Но ведь это легко сказать: шло, шло и дошло. А как дошло? Как могло дойти? Ведь не по солдатской шеренге, не по приказу, слово в слово передавалось…
Ныне изданная, даже не очень удачная книга все же может «дойти» до потомков: будут или не будут ее читать, она сохранится в библиотеках, в личном архиве автора.
А как, через какую библиотеку могла дойти до нас пустая песня или неинтересная, никчемная сказка? Примитивная, состоящая из случайного набора слов, песня на столь же примитивный мотив «ла-ла-ла» — не дойдет. Какие там потомки! Огромное число песен умирает на наших глазах, умирает, едва успев родиться. Остается и доходит до новых поколений только настоящее, только истинное.
Устное народное творчество потому так и называется, что песни и сказки, легенды и предания передавались в веках не посредством пера и бумаги, а из уст в уста. И как же можно было заставить человека запомнить да еще и кому-то передать ничтожную песню или скучную сказку?! Передаваться могло только нечто достойное, мудрое и прекрасное. Можно предполагать, что первоначально и песни и сказки создавались не коллективно, а отдельными художниками. Но поскольку созданная одним человеком сказка, песня или легенда потом передавались из уст в уста дальше и дальше, то вполне естественно, что каждый передающий волен был что-то изменить по своему вкусу и разумению, что-то добавить или убавить. Так песня или сказка шлифовалась, доводилась до полного совершенства, и автором их становился уже не один человек, а весь народ. Потому-то мы и зовем их народными, потому-то и не перестаем восхищаться их поэтичностью, мудростью и глубиной.
Когда заходит речь о сказке, мы любим повторять заученное еще со школы: «Сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Слово «ложь» здесь, понятное дело, означает не вранье, а выдумку, вымысел, иносказание. Что же до урока добрым молодцам, то в каждой сказке он действительно есть.
Сказки учат. Они всячески прославляют и возвеличивают добро и добрые дела, творимые человеком для других, и столь же определенно и решительно порицают всякое зло, бичуют коварство и плутовство, высмеивают зависть и жадность, лень и себялюбие. Сказки учат храбрости и мужеству, товариществу и самопожертвованию ради других. Они же внушают отвращение и презрение к трусости и предательству. Излюбленный герой сказок — силач, богатырь. Но он лишь тогда удостаивается всеобщего признания и любви, когда свою силу употребляет не столь для своего личного утверждения и прославления, сколь для помощи другим, более слабым и нуждающимся в его поддержке.
Сказки учат… Однако же самая главная ценность и прелесть народных сказок в том и состоит, что в прямом смысле слова они как раз не учат, не поучают. «Я не поучаю — я рассказываю», — изрек один мудрец. Так вот и в сказках никто никого не поучает, никто никому не говорит: быть добрым и храбрым — хорошо, а злым и трусливым — плохо. В сказке просто и увлекательно рассказывается то ли о какой-то деревне, то ли о тридесятом царстве-государстве, но из самого рассказа, из всего, что происходит с героями, из их поступков и деяний слушатель, даже самый маленький, самый несмышленый, легко усваивает, что творить добро — дело достойное и похвальное, а делать зло — низкое и презренное. Сказки дают каждому из нас еще в самом раннем детстве первые уроки человечности: они всем ходом разворачивающихся в них событий, всем своим смыслом незаметно для нас самих внушают нам: будь терпеливым и настойчивым в достижении цели, будь честным и щедрым, чужое горе принимай близко к сердцу, как свое, а если попал в беду — сам погибай, но товарища выручай…
В сказках отложились, выкристаллизовались за века нравственные понятия народа, его морально-этические установления, его жизненная философия. Отложились не в назидательных формулах, а в живых образах и ярких, запоминающихся на всю жизнь картинах.
При всем общем, что присуще разноязычным сказкам, у каждого народа свой неповторимый фольклор, свои сказания и легенды. Таково и чувашское народное творчество. А если в этом сборнике встретятся сказки, в которых речь идет, скажем, о том, как чуваши у русских научились пользоваться серпом, или как чуваш стал кумом Петра Первого — так это лишь указывает на то, что наши народы с незапамятных времен жили в самом близком и самом добром соседстве.
Взаимопроникновение отдельных сюжетов или имен сказочных персонажей — вполне естественно и понятно. Я, родившийся на нижегородской земле, недалеко от Суры — этой условной границы между русскими и чувашами — еще с детства помню, что персонажами многих сказок были чуваши. Неудивительно, что и некоторые русские волшебные или, тем более, исторические сказки и легенды проникали в чувашский фольклор.
…Сказочный добрый молодец, как мы знаем, имел на своем вооружении, кроме ретивого коня и булатного меча, еще и слово заветное, перед которым не могли устоять ни силы врагов, ни чары злых колдунов.
Заветное слово объясняется в словарях и как слово, известное немногим, слово, так сказать, секретное, слово-пароль (именно его знал наш добрый молодец). Но во втором, а точнее будет сказать, в первом и главном своем значении заветное слово — это слово завещанное и свято хранимое.
Так вот сказка — не заветное ли слово народа, сохраненное в веках и завещанное потомкам?! Через сказки до нас дошли и народная мудрость, и понятия о добре и красоте, и народные чаянья и надежды. Читая заветное слово сказки, мы как бы прикасаемся к самому сердцу народа, узнаем его характер, его национальную неповторимость.
СЕМЕН ШУРТАКОВ
ЛЕГЕНДЫ
ЛЕГЕНДЫ ОБ УЛЫПЕ
Земля Улыпа
рассказам древних стариков, в те далекие времена, когда людей на нашей чувашской земле еще не было, а лишь шумели сплошные дремучие леса, — с южных Арамазейских гор спустился Улып-Великан. Его послал на нашу землю бог-громовержец Аслати, чтобы творить добро. Улып был огромного роста и обладал богатырской силой. Ему ничего не стоило перешагнуть большую реку. Высокие сосны были ему только по пояс.
Спустившись с гор, Улып увидел в долинах многочисленные стада. Их пасли очень маленькие, по его понятиям, люди. Скот, за которым они ухаживали, давал им пищу и одежду.
| Улып | |
|---|---|
| чуваш. (b) Улӑп | |
| Жанр | эпос (b) |
| Автор | Хведер Сюин (b) |
| Язык оригинала | чувашский (b) |
| Дата написания | 1980 (b) |
| Дата первой публикации | 1996 (b) |
«Улып» (чуваш. (b) Улӑп) — чувашский (b) героический эпос (b) , опубликован в 1996 году автором Хведером Сюиным (b) [1]. Создан на основе героических мифов, песен и сказаний. В адаптированном для детей варианте эпос выходил в свет ещё в 1980 (b) году[2].
История создания
Чувашский народный эпос «Улып» (Улăп) в наиболее полном варианте увидел свет в 1996 году.
Одним из первых о необходимости создания чувашского эпоса, опирающегося на подлинные народные сказания, предания и песни, писал в 1924 году С. М. Лашман (b) [3]. «Улыпиада» — так предлагал он называть произведение.
В 1975 году о той же необходимости писал А.К.Салмин (b) [4].
Суждено было претворить в жизнь эту задачу Хеведеру Сюину.
Содержание
Народный эпос несет в себе могучую энергию многих поколений. Каждая песнь — а их сорок — это гимн героическому прошлому чувашского народа. Добрый и мудрый великан Улып воплощает лучшие черты своих предков. Он пашет землю, водит стада, защищает родину от врагов и нечистой силы, чудесным образом путешествует по небу и разговаривает с богами.
Публикации
«Улып» опубликован на таких языках: чувашском (b) (1996 (b) , автор Хв. Сюин)[5], русском (b) (2009 (b) , перевод А. И. Дмитриева)[6][7], турецком (b) (2012 (b) , перевод Бюлента Байрама (Bülent Bayram))[8].
Указом Главы Чувашии от 20 июня 2012 года Дмитриеву Аристарху Ивановичу присуждена Государственная премия Чувашской Республики 2011 года в области литературы и искусства, присвоено звание «Лауреат Государственной премии Чувашской Республики» за перевод чувашского народного эпоса «Улып» на русский язык[9].
Литература
- Васильев, П. «Улӑп» эпос пирки / П. Васильев // Хыпар. – 2010. – 13 ака. – С. 3.
- Васкир, Г. Улăп чунлă Çуйăн Хĕветĕрĕ / Г. Васкир // Тантăш. – 2003. – 31 утă (№ 31). – С. 8.
- Ефимов, Г. Асăну сăмахĕ / Г. Eфимов // Хыпар. – 2002. – 15 çу.
- Смирнова, Н. «Улӑп — вырӑсла» / Н. Смирнова // Хыпар. – 2009. – 19 раштав. – С. 4-5.
- Юмарт, Г. «Улăп» улăпла ĕç / Г. Юмарт // Чăваш ен. – 1996. – 25 ут`. – 3 çурла (№ 30).– С. 13.
- Андреев, П. Богатырский эпос – богатырский труд / П. Андреев // Чебоксар. правда. – 1999. – 5 янв. (№ 1). – С. 7.
- Афанасьев, П. Сюин Хведер (Федоров Симон Федорович) // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 388.
- Гордеева, С. Eсть эпос в чувашских селеньях! : презентация / С. Гордеева // Чăваш ен. – 1996. – 21–28 сент. (№ 38). – С. 2
- Ендеров, В. А. Сюин Хведер / В. А. Ендеров, В. Г. Родионов // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 162.
- Тихонов, П. По следам Улыпа / П. Тихонов // Чебоксар. новости. – 1996. – 29 нояб.
- Федоров Симон Федорович (Сюин Хведер) // Край Цивильский : краткая энцикл. р-на. – Чебоксары, 2008. – С. 307.
- Ялгир, П. Сюин Хведер (Федоров Симон Федорович) // Ялгир, П. Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. – Чебоксары, 2005. – С. 109–110.
Примечания
- ↑ Ендеров В.А., Родионов В.Г. Сюин ХведерАрхивная копия от 2 декабря 2020 на Wayback Machine (b) — Статья в электронной чувашской энциклопедии.
- ↑ Улăп. Çуйăн Хĕветĕрĕ сăвăланă халапсем.Архивная копия от 1 июля 2019 на Wayback Machine (b) Ш., 1980.
- ↑ <Лашман С.М.> Юрă-сăвăсене, халапсене пухса йĕркелесе поэма çырма пулĕ-ши? — Сунтал, 1924, № 2-3.
- ↑ Салмин А.К. Чăваш эпосне йĕркелесе яма май пур-и? // Ялав, 1975, № 7.
- ↑ Улӑп : чӑваш эпосӗ / Ҫуйӑн Хӗветӗрӗ пухса сӑвӑланӑ, В. Г. Бритвин илемлетнӗ. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 1996. – 573 с. – (Улып).
- ↑ Улып [Текст] : чувашский народный эпос / пер. А. Дмитриев. – Чебоксары , 2009. — 461, [1] с.
- ↑ Васильев, Лев. Улып заговорил по-русски.Архивная копия от 28 ноября 2020 на Wayback Machine (b) — Советская Чувашия, 17 декабря 2009.
- ↑ ЧУВАШСКИЙ ЭПОС ИЗДАЛИ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕАрхивная копия от 10 августа 2020 на Wayback Machine (b) — Ирĕклĕ сăмах.
- ↑ Писателю, журналисту, переводчику — Государственная премия Чувашской Республики.Архивная копия от 19 января 2021 на Wayback Machine (b) — 21.06.2012 11:28. Сайт Союза журналистов Чувашии.
Ссылки
- Васильев, Лев. В «Улыпе» — душа чувашского народа. — Советская Чувашия, 3 марта 2010.
- Мордовский народный эпос «Масторава»
- «Масторава» получила всероссийское признание
Сильно помогали улыпы чувашам. Лес подсекать, пни корчевать, целину пахать да засеивать. А когда нападали вражьи полчища, улыпы врагов прогоняли, защищали чувашей.
Так вот в старину, чувашей очень сильно припекли татары. Сколько раз ни приходили они на чувашей с войной, всякий раз чуваши с помощью Улыпа прогоняли врагов.
Сильно разозлился татарский хан Субэдэй, собрал всех магов и колдунов и стал у них совета искать.
— Рассказывайте, сколько народов покорил я? Сколько народов страшится нас? А еще скажите, сколько людей стоит в моем войске?
— Кто же может пересчитать все песчинки на берегах Атала? — отвечают ему колдуны.
— Расскажите тогда, сколько лет бьемся мы с чувашами? Сколько лет не можем покорить их? Сколько людей потерял я, сражаясь с ними?
— Сколько было, столько и положил. Сколько положил столько и новых пришло, — отвечают колдуны.
— Расскажите тогда, в чем сила чувашей? Как чувашского Улыпа-батора победить? — спрашивает Субэдей. — А того из вас, кто найдет, как Улыпа побороть — сделаю повелителем над чувашами.
Ни один из колдунов, ни плохого ни хорошего слова не молвил в ответ.
Сорок дней дал Субэдэй им на размышление, а как сорок дней прошло, снова собрал их и спрашивает как в первый раз:
— Рассказывайте, мудрецы, сколько народов подчиняется мне? Сколько народов платит мне дань?
— Кто же может пересчитать все песчинки на берегах Атала? — отвечают те.
— А расскажите-ка, мудрецы, сколько войска потерял я, в битвах с чувашами?
— Сколько положил, столько и потерял — отвечают те.
— Расскажите-ка, тогда, как побороть чувашского Улыпа-богатыря?
И на этот раз никто из колдунов, ни плохого ни хорошего слова молвил. Приказал тогда татарский хан каждому десятому голову отрубить. А остальным дал двадцать дней на раздумья и распустил.
В то же время, в одной далекой-далеком селении, жил девяносто девятилетний колдун. На улицу выходить сил у него не было уж, к смерти готовился старец, а перед смертью ремесло свое сыну хотел передать. Говорят, если, колдуны не передадут кому-либо свои знания, то так и мучаются старостью, не умирая. К Субэдэю не ходил тот колдун, сославшись на старость, дома оставался.
Как прошло двадцать дней, Субэдэй в третий раз собрал колдунов и спрашивает как в первый раз:
— Рассказывайте, мудрецы, сколько народов подчиняется мне?
— Кто же может пересчитать все песчинки на берегах Атала? — отвечают те.
— А расскажите-ка, мудрецы, сколько войска потерял я, сражаясь с чувашами?
— Сколько было, столько и положил; сколько положил, столько и новых пришло, — отвечают колдуны.
И снова замерли в тишине колдуны. Снова Субэдэй повелел казнить каждого десятого. В их число и сын того девяносто девятилетнего колдуна попал. Тогда старый колдун, сына пожалев, на колени перед Субэдэем упал и говорит:
— О, Великий государь! Не руби головы невинных людей! Я расскажу тебе, как победить Улыпа!
Субэдэй ему грозно:
— Ах ты, дряхлый старикан, почему не сказал мне об этом раньше? Почему скрыл от великого государя свои знания?
— О, Великий государь, многим невинным народам несешь страдания. Чуваши тебе ничего дурного не делали. Отчего хочешь уничтожить мирных чувашей? Как справиться с Улыпом лишь я знаю. Только всё равно ничего тебе не скажу, — говорит старый колдун.
Приказал Субэдэй схватить и привести сына старого колдуна. Схватили его и начали истязать: принесли беркута, чтобы глаза сыну выклевал. Как принялся беркут глаза сыну клевать, не выдержал старик и сказал:
— Чтобы победить Улыпа, вырой яму глубиной в сорок саженей, прикрой яму навесом из веток, а сверху присыпь землей. Наше войско настил выдержит, а под весом Улыпа не стерпит и провалится. Только после этого сможешь ты чувашей победить, о Великий государь! Субэдэй приказал слугам выкопать яму. Как приготовили яму, выпустил Субэдэй своё войско. Как и сказал старый колдун, навес над ямой не выдержал и под тяжестью Улыпа провалился. Угодил Улып в яму да не смоги выбраться. И разогнало татарское войско чувашей.
Сорок дней лежал Улып в яме, в небо всматриваясь. Пытается выкарабкаться — да не выкарабкаться. Глядит наверх Улып, видит — ворон летит. Просит Улып ворона:
— Эй, ворон-ворон! Ты вольная птица. Где только не бываешь, по всему свету летаешь. Слетал бы ты к чувашам. Рассказал бы чувашам о моей беде. Татары обманом заманили меня в яму. Без воды, без еды, хотят заморить меня до смерти. Пусть придут чуваши, выручают меня!
Ворон ему:
— Умирай, умирай! Как умрешь — глаза выклюю тебе, — прокаркал да улетел.
Сидел-сидел, сорока пролетает. Улып её просит:
— Эй, сорока-сорока! Ты вольная птица, куда хочешь сможешь долететь. Слетала бы ты к чувашам, пусть вытащат меня отсюда. Татары обманом в яму заточили, без еды, без воды заморить хотят. Пусть придут, помогут мне чуваши!
Сорока ему:
— Умирай, умирай! Как умрешь — прилечу глаза клевать тебе, — прострекотала да улетела.
Остался Улып да захмурился один-одинешенек. Глядит наверх: хочет выбраться — да не выбраться. Посмотрел еще раз наверх, да так и замер — дикий гусь летит.
— Эй, гусь-гусушка! Ты вольная птица, где только не бываешь, по белому свету летаешь! Поведай чувашам о моей беде. Татары обманом меня в яму заточили, без еды, без воды заморить хотят. Скажи чувашам, пусть запрягают сорок повозок, пусть привозят на них веревку в сорок саженей да вытащат меня отсюда. Пусть привозят сорок возов с едой да напитками. Без этого пропадут чуваши.
— Га-га-га, га-га-га — полетел гусь на место, где чуваши, кровь проливая, бились, рассказал чувашам о беде, в которой Улып-батор оказался.
Погрузили чуваши на сорок повозок веревку в сорок сажней, да нагрузили сорок возов с едой-напитками и отправились Улыпа вызволять. Сорок дней шли и пришли к яме, где Улып лежит. Улыпа кормили-поили. Как съел Улып сорок повозок с едой, набрался сил. Стали чуваши веревку в яму спускать.
Проведали об этом татары, да перебили чувашей. Начали татары яму с Улыпом землей и камнями забрасывать, чтобы задохнулся Улып под землей.
Долго ли, коротко ли — не знаю, — забросали татары яму доверху да ушли. Думали, наверное, что Улып из-под земли не выберется.
Только Улып, съев сорок возов, сил набрался, да что есть мочи стал камни, что его окружают раздвигать. Толкал-толкал, да выкарабкался из ямы. Выбрался Улып из ямы, да поспешил чувашей выручать.
Когда подоспел Улып, татары чувашей по лесам разогнали. Тогда Улып всё татарское войско перебил. Только чуваши и потом из лесов не вышли, так и остались там жить.
А на месте, откуда Улып из ямы вылез, большой холм остался. Тот холм и сейчас есть. Улыпов холм его называют.
Издавна, во время пахоты, мы с дедом на том холме отдыхали.
Дед говорил, если посидеть на Улыповом холме, силы приходят. И эту быль-небылицу дед мне на том холме рассказал.
БОЛГАРО-ЧУВАШСКИЙ ЭПОС ОБ УЛЫПЕ КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
«Песни чуваш проникнуты тихой грустью, как народа умирающего»,- сказано в книге Элизе Реклю. Ошибся великий географ. Много у чуваш и веселых, жизнерадостных песен. Каких песен больше, никто не считал. Мы не собираемся умирать. Мы собираемся учиться. Овладеем науками и сравняемся с французами, соотечественниками Реклю. Мы трудолюбивы, трудоспособны и можем хорошо учиться. С помощью великого русского народа мы приобщимся к мировой культуре писал И.Я.Яковлев.
Просветитель народов Среднего Поволжья И.Я. Яковлев не допускал мысли о смертности своего (чувашского народа). Возвышение чувашского народа просветитель видел через Священное писание, через изучение чувашского языка, через дружбу с русским народом. И.Я.Яковлев для своих соотечественников писал: «Доделайте то, что, может быть, удастся закончить мне: дайте чувашскому народу Священное писание, полностью завершив перевод Ветхого Завета. Послужите делу христианского просвещения, распространения свет Евангелия среди многочисленных народностей, населяющих русский Восток: по языку и духу вы ближе к этим народностям, чем сами русские. Работой на этой обширной ниве вы заплатите русскому народу часть того великого долга, которым вы обязаны ему, получив из его рук свет веры Христовой.
И.Я. Яковлев мечтал, что чувашский народ понесет свет Евангелия среди многочисленных народностей, населяющих русский Восток: по духу стоящих ближе к ним, чем русские. По И.Я.Яковлеву чуваши -просвещенные и православные понесут свет Иисуса Христа инородцам русского Востока. И.Я.Яковлев отрицательно отнесся к идее французского географа Элизе Реклю о «чувашском умирающем народе». По Яковлеву чуваши не только не умрут, изучив священное писание понесут свет православия дальше на Восток.
Почему И.Я.Яковлев так думал? Удивительно как высоко ценил просветитель цивилизационную миссию чувашского народа. В 30-е гг. XX в. И.Н.Ашмарин называл чуваш «римлянами» по отношению к народам Среднего Поволжья.
И.Я.Яковлев, Н.И.Смирнов, И.Н.Ашмарин очень высоко оценивали языковой и культурно-просветительский статус чувашского народа:
· Просветители – христианства;
· Чуваши- римляне;
· Цивилизация.
Через христианство и через дружбу с народами ( русскими) он видел путь чувашского народа. И.Я. Яковлев отмечал:
· Крепче всего берегите величайшую святыню — веру в Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний мир, утешает и ободряет душу часы несчастья и горя, очищает и просветляет ее в счастье и удаче. С верой Бога не страшны жизненные испытания: без веры в него холодно и мрачно на земле. Веруйте, что есть воздатель за добро и за зло, что есть высшая правда- есть Божий суд, грозный и праведный. Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума и воли. Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас.
· Ведомый Провидением к великим, на незримым целям, народ этот да будет руководителем и вашего развития: идите за ним и верьте в него. Трудна была жизнь этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе светочей духа и не утратил понимания своего высокого призвания. Да будут его радости вашими радостями, его горести вашим горестями и вы приобщитесь к его светлому и грядущему величию. Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в будущем. Любит его и сближайтесь с ним. На всяком поле есть плевелы, но мой долгий опыт будет порукой тому, что среди русского народа вы всегда встретит добрых и умных людей, которые помогут вашему правому делу. Русский народ выстрадал свою правду, и нет сомнения, правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите ее и она будет вам матерью.
Детство Яковлева прошло в селе и всю свою жизнь он учил деревенских чуваш. Знал он и многие истории, сказки своего народа. Первым делом И.Я. Яковлевым были изданы сказки и легенды своего народа. Многие легенды об Улыпе – болгаро-чувашском богатыре он знал наизусть и часто использовал в различных условиях. Улып для И.Я Яковлева был не только героем и защитником чуваш, нам думается, что читая сказание он читал её историю. Обратим внимание на первые строки героического эпоса болгар.
По рассказам стариков, в те далекие времена, когда людей на нашей чувашской земле ещё не было, а лишь шумели сплошные дремучие леса, с южных Арамазейских гор спустился Улып (горы Арамади).
И.Я. Яковлев знал, что Арамазейские горы (Арамадийские горы) на Кавказе на территории Армении.
Улып — предводитель болгар (чуваш) спустился с Арамази. Попробуем разобраться, какие исторические события, лежат в основе эпоса. Исследователь А.В. Гадло о нахождении болгар и сувар на Северном Кавказе писал, что исключительно важные известия о северокавказских кочевниках V в. заключены в «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци. Они неоднократно вызывали споры исследователей. При этом наметилось два направления: первое — признание хронологии Хоренаци и соответственно полное доверие к его сообщениям, второе — скептическое отношение к его хронологии и соответственно отрицание их ценности для V в. На основе второго направления возникло стремление к пересмотру истории жизни и трудов самого «отца армянской истории», что нашло особенно яркое выражение в работах А. Я. Манандяна.
Труд Мовсеса Хоренаци сложен по своему составу. Им использованы разнообразные и многочисленные литературные источники, часть которых вне его труда до нашего времени не сохранилась, архивные материалы, эпос, фольклор. К этим источникам многое добавлял и сам Мовсес Хоренаци, человек наблюдательный, хорошо образованный, осведомленный,- проживший долгую жизнь. Его собственный комментарий в тексте «Истории» является не менее важным источником, чем компилируемые им -материалы. Хоренаци закончил свою «Историю» в начале 80-х годов V-в., и сообщаемые им сведения нельзя рассматривать вне контекста эпохи, в которую он жил.
Особую настороженность у исследователей, ориентирующихся на византийскую историографию, вызывают упоминания в труде Хоренаци северокавказских племен— булгар, барсилов (басилов) и хазар, из которых последние в поле зрения западных авторов появляются только в VII в. Хоренаци упоминает эти народы в связи с событиями столь отдаленной эпохи, что уже одно это обстоятельство рождает к нему недоверие. Однако это недоверие исчезает, если соответствующие места рассматривать не изолированно, а на общем фоне его труда. [1]
Смысл ее перекликается с рассмотренной выше глоссой о переселении вх’ндур-булгар Вунда. Однако их содержание не тождественно. Создается впечатление, что эта фраза вставлена с целью прокомментировать и откорректировать первую. Здесь указывается относительная хронология переселения, его причины, уточняется масштаб переселения — «многие», наконец, иначе очерчивается район переселения: не узко — Вананд-Басен, а широко—территория к югу от области Кох. Последняя находилась в провинции Тайк, расположенной к северу от Айраратской провинции по соседству с ней, т. е на пути булгар Бунда в Вананд. Таким образом, общий ориентир переселения здесь указан тот же, но в связи с более широкой смысловой задачей раздела, факт переселения очерчен более крупно и обобщенно.
Оба фрагмента несомненно принадлежат одному автору и этим автором был сам Хоренаци, щедро дополнявший и комментировавший свои источники, черпая для этого материл из арсенала народных преданий.. Именно этим, на наш взгляд, объясняется то, что «омуты… в земле булгаров» и факт переселения оказались связаны с именем Аршака. При царе Восточной (сасанидской) Армении Аршаке III (392—396гг.) произошла то крупное вторжение гуннских масс в Закавказье и Переднюю Азию, которое потрясло византийский Восток. Обычное для народной эпической памяти смещение событий вследствие смешения слияния ее хронологических вех — имен царей и героев, ярко проявляется в труде Хоренаци. Здесь, по-видимому, мы также сталкиваемся с фактом смешения царей с именем Аршак и архаизацией событий. Отметим, кстати, что у Фавстоса-Бузанда наиболее раннее упоминание гуннов также связано с царствованием царя Аршака — Аршака II (345— 367 гг.), одного из последних крупных правителей независимого Армянского государства.
Таким же анахронизмом, как и отнесение к эпохе Аршака I появления булгар в Армении, является упоминание Хоренаци басилов (барсилов) и хазир (арм. форма этнонима хазар).
Впервые Хоренаци называет их среди народов Севера в разделе, посвященном царю Вахаршу, сыну Тиграна III и отцу Хосрова Великого. Он говорит: «Во дни его массы горцев, я разумею толпы хазиров и басилов, соединившись, прошли через врата Чора под предводительством царя своего Внасепа Сурхапа. Перейдя через реку Кур, они рассыпались по сю сторону ее. Им навстречу выступил Вахарш… преследуя их перед собою, прошел через ущелье Чора. Здесь… храбрые армяне, опрокинув, обращают их в бегство, однако Вахарш падает от руки мощных стрельцов». Вахаршу наследует Хосров. Он немедленно собирает армянские войска и «переходит гору для отмщения за смерть своего отца. Мечом и дротом он преследует сильные эти племена, берет с каждой их сотни по одному годному заложнику и в знак господства своего воздвигает колонну с греческой надписью как доказательство зависимости от римлян».
Как и в других разделах «Истории», Хоренаци и здесь не скрывает своего источника. «Это нам рассказывает Бардацан из Эдессы, который был историком во дни последнего Антонина», — пишет он. Из труда Бардацана (2-я половина II в.), в руках которого были материалы архива Анийского храма, Хоренаци заимствовал данные для описания периода от начала правления Артавазда до начала правления Хосрова. Но труд Бардацана, как обычно у Хоренаци, передается не буквально. Хоренаци выбирает из него наиболее важные для его истории сюжеты, среди которых оказывается также и рассказ о борьбе Вахарша и Хосрова с «северянами». Этот рассказ предваряет повествование о борьбе с народами Севера любимого героя Хоренацн — Трдата, который, по версии Хоренаци, был наследником Вахарша и Хосрова. Сам факт борьбы царей Армении на рубеже II—III вв. с северными племенами, прорывавшимися в Закавказье через Каспийский проход, не содержит ничего невероятного. Невероятно здесь лишь указание в качестве их врагов хазиров и басилов, но, как следует из текста, хазирами и басилами этих врагов считал только сам Хоренаци («…я разумею…»). Это еще один пример его собственного комментария к источнику. Обнаружив у Бардацана выигрышный для его «Истории» сюжет — героический поход на далекий север предков Трдата и гибель одного из них в этом походе,- Хоренаци использует его и поясняет с позиций своего времени. Поход Объединенных под предводительством одного вождя хазиров и басилов через врата Чора- это реальность эпохи Хоренаци.
По болгаро-чувашской легенде Улып: «Его послал бог-громовержец Аслати, чтобы творить добро. Улып был огромного роста и обладал богатырской силой. Ему ничего не стоило перешагнуть большую реку. Высокие сосны были великану только по пояс.
Спустившись с гор, Улып увидел в долинах многочисленные стада. Их пасли очень маленькие, по его понятиям, люди. Скот, за которым они ухаживали, давал им пищу и одежду.
Улып забыл наказ отца Аслати, отобрал у людей скот и разорил их жилища».
Следует обратить внимание на три момента:
· Хронология оседания болгар, сувар, барсил от II и далее веков;
· Хронология по другим авторам VII в.;
· Барсилы, болгары, сувары постоянно воевали и прорывались в Армению. «Улып отобрал у людей скот и разорил их жилища».
Исследователь о басилах (барсилах) далее пишет, что вторично басилы всплывают в «истории» Хоренаци в рассказе о подвигах царя Трдата III, совершенных им на Севере. Трдат, как повествует Хоренаци, «отправился через землю агванов на северян… воевать со всеми, живущими у подножия горы». Битва Трдата с «северянами» произошла «на равнине Гаргараци», т. е. в Мильской степи на территории современного Азербайджана. Здесь Трдат и встретил басилов. Описание единоборства Трдата с царем басилов — одно из наиболее красочных в художественном отношении мест «Истории» Хоренаци, это яркий образец авторской обработки эпического сказания. Герой Трдат рассек пополам царя басилов и тем самым привел их войско в такой ужас, что они обратились в бегство. «Трдат пошел по их следам и гнал их до земли гуннов», после чего, взяв у «северян» заложников, объединил их войска и направил против Персии.
Судя по последовательности повествования, поход Трдата на «северян» был, по представлению Хоренаци, предпринят с целью создать базу для борьбы с Персией. Трдат воевал с племенами Албании, на помощь которым пришли жившие к северу от Чора в «земле гуннов» басилы. Понятие «земля гуннов», упомянутое вскользь Хоренаци, выдает его авторство, несмотря на то, что в целом раздел, посвященный Трдату, представляет собой переработку ряда источников, в том числе рассказ Иосифа Флавия о борьбе с аланами армянского царя Трдата I (I в. н. э.).
Третий фрагмент, в котором упоминаются басилы, также представляет авторскую ремарку, брошенную по ходу развития основной сюжетной канвы повествования. Она следует за рассказом о походе в Аланию Смбата Багратуни, предка Саака Багратуни, заказчика и покровителя Хоренаци. После похода Смбата в Армении появились аланы, расселившиеся в области Артаз. Хоренаци пользуется случаем указать, что потомки алан [2] были и среди армянских владельческих родов. В связи с этим он приводит родословную рода Аруехеанов, которые якобы происходили от родственников жены Арташеса аланской царевны Сатиник (I в.). Однако суть ремарки не в этом. Род Аруехеанов (у повторяющего Хоренаци Мовсеса Каганкатваци он назван родом Ара ве-гьянов), видимо, считался происходящим не от алан, а от басилов, т. е. был сравнительно молодым. Поэтому Хоренаци вынужден был отметить, что Аруехеаны были возведены в дворянское достоинство и армянское нахарарство еще при Арташесе, а в родство «с одним могущественным басилом, переселившемся в Армению», они вступили позднее, при Хосрове Великом, когда, по его хронологии, впервые басилы появились на исторической арене. Мовсес Каганкатваци говорит о том, что Аруехеаны (Аравегьяны) вступили при Хосрове в родство с «храбрым мужем, который пришел из страны баслов (Василии)». Для нашего сюжета важно то, что в основе имени рода лежит иранское слово (арьяв-аг-гегойский, сильный), а это свидетельствует о его действительной связи с ираноязычными группами Северного Кавказа.[2]
Позиция Гадло по роду Аруехан:
· Аруехан был из барсилов;
· Переводится- герой, сильный;
· Род был молодым;
· Был элитного рода;
· Переселился в Армению.
По чувашской легенде об Улыпе: «Выбрав самую красивую девушку, женился на ней и стал жить хозяином всех богатств здешней земли. Жена родила ему двух сыновей. Сыновья от отца-великана росли тоже богатырями. Они пасли стада и ходили на охоту. Их стрелы поражали любого зверя за семь верст.
В весенний праздник Калама умерла их мать. Улып погоревал-погоревал и пошел искать себе жену на родных горах».
Позиция Мовсес следующая «Аруехенан вступил при Хосрове в родство с «храбрым мужем, который пришел из страны басилов (Барсилии). Родственные племена болгарам и суварам. Что мы видим:
· Вступил в родство (т.е. женился на дочери царя);
· Пришел из Барсилии.
По легенде Улып «выбрав саму красивую девушку, женился на ней и стал жить хозяином всех богатств здешней земли».
Получается, что Улып стал царем и все земли стали его. «История» Мовсеса Хоренаци сохранилась не полностью. Она обрывается на событиях 428 г., когда пресеклась армянская династия Аршакидов. Поэтому в труде Хоренаци не находят прямого освещения ни восстание армян против Ирана в 450—451 гг., в которое оказались втянутыми кочевники Предкавказья и этнические группы южной стороны Большого Кавказа, ни последующие события второго, освободительного восстания, поднятого армянами под предводительством Саака Багратуни. Однако, как свидетельствуют фрагменты «Истории», разбор которых мы предприняли выше, конкретная этнополитическая ситуация, сложившаяся на Северном Кавказе в середине—второй половине V в., нашла в ней отражение. В это время в стране гуннов, лежащей за «воротами Чора», определились относительно четкие племенные объединения — вх’ндур-булгары, басилы (барсилы) и хазары. Облик этих конкретных объединений вытеснил со страниц «Истории» Хоренаци представление о безликой аморфной массе северных варваров — гуннов (хо нов), которое в его время продолжало жить в фольклоре и нашло отражение в «Истории Агатангехоса», в «Истории» Фавстоса Бузанда и в начальных разделах «Истории Тарона», приписываемой автору IV в. Зенобу Глаку (в сборнике VII в. Иоанна Мамиконеана).
Нас интересует и второй вариант по которому мы можем отнести Улыпа к Алп-Илитверу-царю Суварии в составе Хазарского каганата (VIII в.)
Исследователь М.И.Артамонов в работе « История хазар» пишет о христианизации сувар. Алп-Илитвер обратился к армянскому католикосу Сахаку. Христианство к северу от Дербента появилось ещё в VI в. Понятно и стремление варварского князя закрепить свои связи с соседними государствами и свое место среди них, как равного.
О истории Хазарии VII в. очень мало данных. Тем большее значение поэтому имеют довольно подробные сведения о гуннах, этнически родственных не только с хазарами, но и с другими болгарскими племенами, входившими в состав Хазарии.
В рассказе о миссии албанского епископа Исраеля наиболее подробно говорится о религии гуннов. Особым почитанием у них пользовался бог Тенгрихан, которого они представляли в образе героя-исполина; персы его называли Аспандеат. По имени этот бог соответствует владыке неба Тенгри, известному ещё у хуннов и тюркютов, и явно занесен на Кавказ теми или другими пришельцами из Азии. Гунны чтили бога громовика Куара и в случаях поражения молнией человека или вещи умилостивляли его жертвами. Равным образом обожествляли они солнце, луну, огонь, воду и т. п., чтили богов путей. Распространено было поклонение деревьям. Особенно почитался один высокий дуб, находившийся вблизи Варачана. Князь и дворяне, по словам «Истории албан», считали его «спасителем богов, жизнеподателем и дарователем всех благ». С деревьями связывалось представление о Тенгрихане, которому приписывалось управление силами природы. Почитаемым деревьям и богам приносились в жертву лошади, кровь их проливалась вокруг дерева, а голову и шкуру жертвенного животного вешали на сучья. Священные деревья были неприкосновенными. Верили, что тех, кто, хотя бы по незнанию, возьмет от них сучья или ветки, ожидают страшные муки, бешенство и даже смерть. Кроме священных деревьев и рощ, у гуннов были капища и идолы.
Имеются сведения, что в культовые действия у гуннов входили борьба и битва на мечах, причем противники выступали обнаженными один на один или группами, скачки на конях, игры, пляски и оргии. Сопровождалось все это звоном и грохотом барабанов. Большая часть этого рода культовых действии связывалась, по-видимому, с похоронами. В связи с этим же существовал обычай нанесения себе ран и увечий в знак скорби по умершему. В качестве охранительных амулетов гунны носили на себе золотые и серебряные изображения фантастических животных (драконов). Были у гуннов и служители культа: жрецы, колдуны, чародеи и знахари, а также особые служители капищ и деревьев. Интересно отметить, что чародеи в своих заклинаниях призывали силы земли .
В свете изложенных данных религия гуннов выступает в формах обычных для варварского общества и находит себе многие соответствия в культовых обычаях, пережиточно сохранившихся на Кавказе. Те же общие формы, по-видимому, были свойственны религии тюрок, хазар и болгарских племен, насколько их религии известны по отрывочным письменным свидетельствам.
Алп-Илитвер и его вельможи, приняв христианство, приступили к искоренению язычества. С их разрешения Исраель и его священники разрушили капища, срубили священные рощи и жестоко расправились со служителями старой религии —жрецами и кудесниками,— их сожгли на кострах, при дорогах. Вместо старых объектов поклонения были воздвигнуты новые: из священного дерева был сделан громадный крест, разукрашенный изображениями животных и блестящими крестами, которому и должны были теперь поклоняться новообращенные вместо дуба.
Влияние христианства мы можем увидеть в легенде об Улыпе. Многие слова цитируются из Библии.
· За то, что я ослушался Аслати и вместо добра сеял зло,боги приковали меня здесь на вечные времена. Так что вы, дети мои, не сейте злые семена, не делайте людям вреда, а исцелитесь среди них и живите в мире и согласии. Идите отсюда прямо на север. Через три дня дойдете до большой реки, в море, и продолжите ваш путь вдоль нее. Через семь лет вы придете в такое место, где одна река соединяется с другой такой же большой. Здесь, дети мои, жертвоприношением умилостивите богов и попросите их, чтобы они помогали вам в дальнейшей жизни.
Из Библии:
· Он вместо добра сеял зло;
· Дети мои, не сейте злые семена;
· Не делайте людям вреда;
· Живите в мире и согласии.
В книге « Народный эпос» имеются примеры, связанные с христианским прошлым Улыпа. Посмотрим родословную и действия Улыпа.
· Отец Улыпа был царем;
· Мама назвала сына Улып ( герой, богатырь);
· Улып родился в субботу;
· Богатырскую силу дала Улыпу жена бога;
· Отца Улыпа звали Аслати;
· Улыпы жили всегда. Многи погибли в ходе потопа;
· Дети Улыпа были девушками с бело-желтыми волосами;
· Улып жил на небе;
· Улып поддерживал небо;
· Улып разместил луну на небе;
· Улып раньше мог летать как ангел. У него были крылья;
· Бог прогневался на Улыпа и прогнал его на землю;
· Улып ходил на земле с волком;
· Улыпа на Кавказе приковали к горе;
· Улып и животные прошли через Волгу по месту Азамат (радуге);
· Улып раньше всегда кочевал, но его мама попросила его осесть у реки Волга;
· Улыпы пришли из Сибири;
· Улып просил своих детей жить дружно(легенда о сыновьях кагана Кубрата);
· Улып жил в степи, но больше всего в лесу;
· Улып жил в Волжско-Камской Болгарии;
· Улып освобождает себя от цепей и уходит живым;
· Улып добыл огонь для людей из огня падающей звезды (метеорита);
· Улып пережил всемирный потоп;
· Улып борется со злым богом Израилем (вероятнее всего эпоха Хазарского каганата);
· Улып воевал против татар и спас г. Болгар;
· Улып не смог спасти г. Биляр;
· Много улыпов погибло, защищая чуваш (болгар) от татар.
Таким образом, мы можем по легендам проследить исторический путь болгарского (чувашского) народа.
Мы отмечали, что рождение Улыпа произошло в Сибири, жил он на территории Северного Кавказа, взял жену из Армении, вторую из своего племени и погиб прикованный цепями к горам на Кавказе. Мы помним, то по византийским легендам Прометей был прикован к скале Кавказа. В византийской легенде говорится:
Не знают сердца их жалости, в их глазах никогда не светится сострадание, их лица суровые, как скалы, которые стоят вокруг. Печальный,низко склонив голову, идет за ними бог Гефест со своим тяжелым молотом. Ужасное
дело предстоит ему. Он должен своими руками приковать друга своего Прометея. Глубокая скорбь за участь друга гнетет Гефеста, но не смеет он ослушаться громовержца Зевса. Он знает, как неумолимо карает Зевс за неповиновение.
Сила и Власть возвели Прометея на вершину скалы и торопят Гефеста приниматься за работу. Их жестокие речи заставляют Гефеста еще сильнее страдать за друга. Неохотно берется он за свой громадный молот, только необходимость заставляет его повиноваться. Но торопит его Сила:
— Скорей, скорей бери оковы! Прикуй могучими ударами к скале Прометея. Напрасна твоя скорбь о нем: ведь ты скорбишь о враге Зевса.
Сила грозит гневом Зевса Гефесту, если он не прикует Прометея так, чтобы ничто не могло освободить его. Гефест приковывает к скале цепями руки и ноги Прометея. Как ненавидит он теперь свое искусство! Неумолимые служители Зевса все время следят за его работой.
— Сильней бей молотом! Крепче стягивай оковы! Не смей их ослаблять! Хитер Прометей, искусно умеет он находить выход из неодолимых препятствий, — говорит Сила. — Крепче прикуй его, пусть здесь узнает он, каково обманывать Зевса.
— О, как подходят жестокие слова ко всему твоему суровому облику! — восклицает Гефест.
Скала содрогается от тяжких ударов молота, и от края до края земли разносится грохот могучих ударов. Прикован наконец Прометей. Но это еще не все, нужно еще прибить его к скале, пронзив ему грудь несокрушимым острием. Медлит Гефест.
— О Прометей! — восклицает он. — Как скорблю я, видя твои муки!
— Опять ты медлишь! — гневно говорит Гефесту Сила. — Ты все еще скорбишь о враге Зевса! Смотри, как бы не пришлось тебе скорбеть о самом себе!
Наконец все окончено. Все сделано так, как повелел Зевс. Прикован титан, а грудь его пронзило острие. Издеваясь над Прометеем, говорит ему Сила:
— Ну вот, здесь ты можешь быть сколько хочешь надменным, будь горд по-прежнему! Давай теперь смертным дары богов, похищенные тобой! Посмотрим, в силах ли будут помочь тебе твои смертные. Придется тебе самому подумать о том, как освободиться из этих оков.
Прометей хранит гордое молчание. За все время, пока приковывал его Гефест к скале, он не проронил ни единого слова, даже тихий стон не вырвался у него — ничем не выдал он своих страданий.
Ушли слуги Зевса, Сила и Власть, а с ними ушел и печальный Гефест. Один остался Прометей, слышать его могли теперь лишь море да мрачные тучи. Только теперь тяжкий стон вырвался из пронзенной груди могучего титана, только теперь стал он сетовать на злую судьбу свою. Невыразимым страданием и скорбью звучали его сетования:
— О божественный эфир и вы, быстронесущиеся ветры, о источники рек и несмолкающий рокот морских волн, о земля, всеобщая праматерь, о всевидящее солнце, обегающее весь круг земли, — всех вас зову я в свидетели! Смотрите, что терплю я! Вы видите, какой позор должен нести я неисчислимые годы! О горе, горе! Стонать я буду от мук и теперь, и много, много веков! Как найти мне конец моим страданиям? Но что же говорю я! Ведь я же знал, что так будет. Муки эти не постигли меня неожиданно. Я знал, что неизбежны веления грозного рока. Я должен нести эти муки! За что же? За то, что я дал великие дары смертным, за это я должен страдать так невыносимо, и не избежать мне этих мук. О горе, горе!
Но вот послышался тихий шум, как бы от взмахов крыльев, словно полет легких тел всколыхнул воздух. С далеких берегов седого Океана, из прохладного грота, с легким дуновением ветерка примчались на колеснице к скале океаниды. Они услышали удары молота Гефеста, донеслись до них и стоны Прометея. Слезы заволокли прекрасные очи океанид, когда увидели они прикованного к скале могучего титана. Родным был он океанидам. Отец его, Япет, был братом отца их, Океана, а жена Прометея, Гесиона, была их сестрой. Окружили скалу океаниды. Глубока их скорбь о Прометее. Но слова его, проклинающие Зевса и всех богов-олимпийцев, пугают океанид. Они боятся, что Зевс сделает еще более тяжкими страдания титана. За что постигла его такая кара — океаниды не знают. Полные сострадания,. просят они Прометея поведать им, за что покарал его Зевс, чем прогневал его титан.
Прометей рассказывает им, как помог он Зевсу в борьбе с титанами, как убедил мать свою Фемиду и богиню земли Гею встать на сторону Зевса. Зевс победил титанов и низверг их, по совету Прометея, в недра ужасного Тартара. Завладел Зевс властью над миром и разделил ее с новыми богами-олимпийцами, а тем титанам, которые помогали ему, не дал громовержец власти в мире. Зевс ненавидит титанов, боится их грозной силы. Не доверял Зевс и Прометею и ненавидел его. Еще сильнее разгорелась ненависть Зевса, когда Прометей стал защищать несчастных смертных людей, которые жили еще в то время, когда правил Крон, и которых Зевс хотел погубить. Но Прометей пожалел не обладавших еще разумом людей; он не хотел, чтобы сошли они несчастными в мрачное царство Аида. Он вдохнул в них надежду, которой не знали люди, и похитил для них божественный огонь, хотя и знал, какая кара постигнет его за это. Страх ужасной казни не удержал гордого, могучего титана от желания помочь людям. Не удержали его и предостережения его вещей матери, Фемиды.
С трепетом слушали океаниды рассказ Прометея. Но вот на быстрокрылой колеснице принесся к скале сам вещий старец Океан. Океан пытается уговорить Прометея покориться власти Зевса: ведь должен же он знать, что бесплодно бороться с победителем ужасного Тифона. Океан жалеет Прометея, он сам страдает, видя, какие муки терпит Прометей. Вещий старец готов поспешить на Олимп, чтобы молить Зевса помиловать титана, хотя этими мольбами может он навлечь на себя гнев громовержца. Он верит, что мудрое слово защиты часто смягчает гнев. Но напрасны мольбы Океана, гордо отвечает ему Прометей:
— Нет, старайся спасти самого себя. Боюсь я, что сострадание принесет вред тебе. До дна исчерпаю я все зло, которое послала мне судьба. Ты же, Океан, страшись вызвать гнев Зевса мольбою за меня.
— О, вижу я, — грустно отвечает Океан Прометею, — что этими словами заставляешь ты меня вернуться назад, не достигнув ничего. Верь же мне, о Прометей, что привели меня сюда лишь забота о твоей судьбе и любовь к тебе!
— Нет! Уходи! Скорей, скорей спеши отсюда! Оставь меня! — восклицает Прометей.
С болью в сердце покинул Океан Прометея. Он умчался на своей крылатой колеснице, а Прометей продолжил рассказ о том, что сделал он для людей, нарушив волю Зевса. С горы Мосхи, на Лемносе, из горна своего друга Гефеста похитил Прометей огонь для людей. Он научил людей искусствам, дал им знания, научил их счету, чтению и письму. Он познакомил их с металлами, научил добывать их в недрах земли и обрабатывать. Прометей смирил дикого быка и надел на него ярмо, чтобы могли пользоваться люди силой быков, обрабатывая свои поля. Прометей впряг коня в колесницу и сделал его послушным человеку. Мудрый титан построил первый корабль, оснастил его и распустил на нем льняной парус, чтобы быстро нес человека корабль по безбрежному морю. Раньше люди не знали лекарств, не умели лечить болезни, но Прометей открыл им силу лекарств. Он научил их всему, что облегчает горести жизни и делает ее счастливее и радостнее. Этим и прогневал он Зевса, за это и покарал его громовержец.
Но не вечно будет страдать Прометей. Он знает, что злой рок постигнет и могучего громовержца. Не избегнет он своей судьбы! Прометей знает, что царство Зевса не вечно: будет он свергнут с высокого царственного Олимпа. Знает вещий титан и великую тайну, как избежать Зевсу злой судьбы, но не откроет он этой тайны Зевсу. Никакая сила, никакие угрозы, никакие муки не исторгнут ее из уст гордого Прометея.
Кончил Прометей свой рассказ. С изумлением слушали его океаниды. Дивились они великой мудрости и несокрушимой силе духа могучего титана, осмелившегося восстать против громовержца Зевса. Опять овладел ими ужас, когда услышали они, какой судьбой грозит Зевсу Прометей. Они знали, что если эти угрозы достигнут Олимпа, то ни перед чем не остановится громовержец, лишь бы узнать роковую тайну. Полными слез глазами смотрят на Прометея океаниды, потрясенные мыслью о неизбежности велений сурового рока. Глубокое молчание воцарилось на скале, его прерывал лишь неумолкающий шум моря.
Судьба Улыпа сходится с судьбой греческого героя. Улып спасает себя сам. Он рвет цепи и уходит в Среднее Поволжье. В легенде говорится:
«День прошел, два прошло, три минуло, нет Улыпа. Сыновья забеспокоились и отправились на поиски отца. Поднялась на самую высокую гору и нашли его прикованным к скале».
Мы отметили, что в Улыпе имеются сказания о всемирном потопе, о богах, о падении звезды, переходе по радуге зверей. Улыпа можно отнести к языческо-христианскому героическому эпосу. Возможно, а мы так считаем, что в основе героя Улыпа лежат исторические события, связанные с походами в Армению или историй Христианизации при Алп-Илитвере. Артамонов исследовал « Историю Агван» и о церковной ( христианской) реформе в Суварии пишет, что вслед затем Алп-Илитвер обратился к князьям и епископам Албании и Армении с извещением о своем вступлении в семью христианских государей, с просьбою об установлении в его стране епископства и о назначении главою гуннской церкви Исраеля. В «Истории албан» приведены копии писем Алп-Илитвера и армянского католикоса Сахака, которыми они обменялись по этому поводу. Исраель был назначен гуннским епископом и известен в албанской церкви в качестве просветителя гуннов и хазар, однако о последующей его деятельности среди новообращенных сведений не имеется.
Попутно с данными о религии севере кавказских гуннов в рассказе об их христианизации приведены некоторые сведения о формах семейных и общественных отношений у этого народа. Так, упоминается об обычае, связанном, без сомнения, с многоженством и заключающемся в том, что жена умершего, не являющаяся матерью наследника, вместе с другим имуществом покойного переходит к его сыну. Наряду с многоженством у богатых и знатных существовало в качестве его противоположности многомужество: братья, не имевшие возможности обзавестись отдельными женами, брали одну общую жену. У гуннов были богатые и бедные, вельможи и простолюдины. В числе лиц, принимавших участие в переговорах с Исраелем и в посольстве к албанам и армянам, упоминаются гуннские князья или знатные вельможи: Тархан Овчи(Авчи), постельничий Читар-Хазр (Чатгасар) и Зурдкин-Хурсан.[3 ]
Изложенные данные о северокавказских гуннах представляют существенное значение для понимания взаимоотношений между хазарами и подчиненными им племенами, а равным образом для суждения о социальном строе Хазарии в целом. Вероятно, царство гуннов в его отношениях с хазарами не являлось исключением. Такие же формы зависимости существовали и для других племен, подвластных хазарскому кагану, вроде, например, кубанских болгар, во главе которых оставался сын Кубрата Батбай. Таким образом, Хазарская держава складывалась в виде обширной федерации племен, сохранявших в неприкосновенности свою внутреннюю организацию и даже значительную часть внешнеполитической самостоятельности в пределах подчинения верховной власти хазарского кагана.
У нас нет прямых указаний относительно социально-экономического строя древней Хазарии. Несомненно, однако, что он во многом сохранял еще старые патриархальные черты. Тем не менее, наличие так называемых тарханов свидетельствует о существовании и у гуннов и у самих хазар, как и тюрок, социального слоя, свободного от повинностей, которыми облагался «черный люд».
Можно полагать, что степень развития патриархально-феодальных отношений у разных племен Хазарии была не одинаковой, хотя бы вследствие различий в их хозяйстве. Загнанные в узкий проход между морем и горами, гунны рано осели и наряду со скотоводством занимались земледелием. Арабские источники указывают в их стране много городов, т. е. укрепленных поселений. Археологические данные подтверждают это указание: к северу от Дербента имеется много раннесредневековых поселений с мощными укреплениями. Здесь рано мог возникнуть и основной признак феодальных порядков — собственность на землю, как условие дальнейшего усиления зависимости «черного люда». В степях Азовско-Каспийского междуморья, наоборот, еще долго сохранялось кочевое скотоводство, как основной вид хозяйственной деятельности. Хазары были кочевниками, но это не мешало экономической дифференциации и зависи- мости бедноты от крупных собственников стад и табунов.
Такова была в самых общих чертах экономическая и социальная природа Хазарского государства, которое к VIII в. стало самым могущественным политическим образованием Восточной Европы.
К 684 г. относится одно из наиболее значительных нашествий хазар на Закавказье. Закончившие к этому времени борьбу с болгарами, которая до сих пор отвлекала все их внимание и силы, хазары, видимо решили использовать ослабление халифата и распространить свое владычество на давно уже привлекавшие их богатые страны Закавказья. Они опустошили ряд областей, захватили громадную добычу и множество пленных. В сражениях с ними пали правитель Армении Григорий Мамиконян, а также другие грузинские и албанские князья и вельможи.
Возможно, что это нашествие, последовавшее за христианизацией гуннов и установлением тесных дипломатических отношений Алп-Илитвера с Албанией и Арменией, имеет непосредственную связь с этим событием, представляя собой реакцию хазарского правительства на своевольное поведение одного из вассалов, зашедшего в своей самостоятельности далеко за допустимую границу и, по сути дела, связавшего свою страну с закавказскими государствами. Пока хазары были заняты войной с болгарами, они должны были мириться с двойной игрой гуннского князя, ускользавшего из-под их власти, но после победоносного завершения хазаро-болгарской войны стало возможным заняться и гуннами, и Закавказьем.
В «Истории албан (агван)», правда, говорится, что после обращения в христианство Алп-Илитвер «показал много подвигов храбрости в Туркестане хазарскому хану. Он успел снискать его любовь и принужден был дать ему дочь свою в супружество, а сам, достигши почетной старости, прославлен был в трех странах». Но это трафаретное славословие, в котором действительное положение дел отражает разве только упоминание о вынужденной выдаче гуннским князем своей дочери в жены хазарскому кагану. Известно, что и позже хазарские каганы брали в жены дочерей вассальных владетелей. По сведениям X в., в гареме хазарского кагана было 25 таких жен, по числу подвластных хазарам народов.
На рассказе о крещении гуннов повествование об истории Албании в сочинении Моисея Каланкатуйского прерывается. О нашествии хазар в 684 г. в нем нет ни слова. Дальнейшее изложение в «Истории албан» носит совершенно иной характер и, вероятно, принадлежит другому, значительно более позднему автору. Таким образом, нам остается только догадываться о причине резкого изменения отношений Албании с ее северным соседом, а равным образом о последствиях, которые имело нашествие хазар для гуннов. К сожалению, у нас нет сведший и о том, насколько прочной оказалась христианизация гуннов. Достоверен лишь тот факт, что назначенный гуннским епископом Исраель после своего первого посещения Варачана ни разу не был в стране гуннов, а оставался в Албании епископом Мец-Когманца.
По-видимому, обращение князя гуннов Алп-Илитвер а было всего только эпизодом, не сыгравшим сколько-нибудь заметной роли в религиозной жизни страны гуннов, хотя распространение христианства в ней, начавшееся ранее этого эпизода, несомненно, продолжалось и после него. В X в. в г. Семендере, бывшей столице хазар, а теперь главном городе гуннов, было много христиан, хотя князь его уже исповедовал мусульманство. Можно отметить, что наряду с христианством здесь распространялась и иудейская религия, которая, как мы увидим ниже, именно здесь стала религией одной из местных княжеских династий, а затем и религией правящей верхушки хазар.[ 4]
О переселении болгар, сувар, барсил в легенде об Улыпе сказано: «Сыновья Улыпа пошли со своими стадами на север. Вскоре им преградили путь горные люди, но они отбились от них и через три дня пришли к большой реке, впадающей в море. Братья назвали эту реку Адыл — Волга и ее берегом пошли дальше. Здесь им пришлось защищаться от нападений степных людей. Добрались они до горного кряжа, который рассекала река и за которым начинались густые непроходимые леса. Лесные люди тоже пытались остановить их, но они, при своей богатырской силе, легко справились с ними и продолжили начатый путь.
Ровно через семь лет они пришли в то место, о котором говорил отец: здесь в Адыл вливалась другая столь же великая река. Сыновья Улыпа остановились, в ближайшую среду зарезали утку и принесли ее в жертву богу-громовержцу Аслати.
— Грозный Аслати! обратились братья с молитвой к богу. От всего сердца приносим тебе эту жертву и просим сделать так, чтобы наше племя росло и крепло. Сохрани нас, о великий Аслати, от всех зол и бед, от врагов и недругов, от злых духов, от мора, от огня, от голода. Пусть наш скот плодится и наши стада увеличиваются. Пусть наши желания сбываются. Помыслы наши чисты, и мы надеемся, верим, ждем, что все так и будет!
После этого младший сын Улыпа поселился между реками, а старший занял правый берег Адыла вплоть до того места, где впадает в нее тихоструйная Сура.
Однажды старший сын охотился и забрел на другой берег Суры. Там увидел поле, сплошь покрытое желтыми стеблями с колосьями. Он спросил у людей, которые работали на этом поле, кто такие и что делают.
— Мы-русские, убираем созревший хлеб, -ответили ему.
С тех пор сын Улыпа сам начал корчевать леса и очищенные места засевать рожью. Когда во время пашни в лапти набивалось много земли, великан снимал их и вытряхивал. На этих местах образовались большие ли, малые ли холмы, которые и по сей день зовутся Землей Улыпа. И весь наш народ ведет свое происхождение от племени Улыпа.
Выводы
· Героический эпос об Улыпе раскрывает историю болгаро-чувашской цивилизации;
· В эпосе имеются языческо-христианские мотивы;
· Основная идея эпоса – свобода, независимость народа, стремление сохранить его;
· Путь свободы- это путь ухода на территории Среднего Поволжья;
· Борьба Улыпов за свободу продолжалась в условиях Вожско-Камской Болгарии и Золотой Орды Казанского ханства.
Литература
1. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV—X вв./ А.В.Гадло — М., 1979-С. 37-38.
2. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV—X вв. / А.В.Гадло — М., 1979-С. 42-43.
3. Артамонов М.И. История хазар / М.И.Артамонов — М.,1962 — С. 189-190.
4. Артамонов М.И. История хазар / М.И.Артамонов — М.,1962 — С. 190-191.
Рассказы о богах и героях
Подобный материал:
- Тема урока: Внеклассное чтение. Мифы Древней Греции (литературная игра), 83.33kb.
- Мифология древних славян содержание, 173.57kb.
- Сказка Миф вымысел, 61.29kb.
- Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла урок, 44.26kb.
- 1. Почему миф называют мифом. Чем миф отличается от сказки, 172.73kb.
- Реферат по истории культуры Эос и Никта, 149.84kb.
- Ефремов Андрей Георгиевич, Рижский Пушкинский лицей Система мифических персонажей, 112.71kb.
- Обзоры детской литературы на самые разные темы, 62.36kb.
- Литература древней греции > А. Литература периода классики: Гомер «Илиада», 193kb.
- Произведения для 10 а класса выделены, 11.05kb.
ссылка скрыта

Алпамша
Легенды, предания, былины.
Что такое миф, легенда, предание, сказка?
Легенда – чудесный рассказ о прошлом.
Предание – устный рассказ, передающийся из поколения в поколение.
Мифы – рассказы о богах и героях.
Сказка – выдумка, вымысел.
МИФОЛОГИЯ — совокупность мифов какого-либо народа, а также наука, изучающая мифы .
Какие же бывают мифы?
Мифам разных народов присущи сходные и повторяющиеся темы и мотивы. Наиболее типичны мифы о происхождении мира, Вселенной (космогонические мифы) и человека (антропогонические мифы); о солнце (солярные мифы), луне (лунарные или селенарные мифы), звездах и созвездиях (астральные мифы); мифы о животных; календарные мифы и др. Особое место занимают мифы о происхождении и введении культурных благ (добывание огня, изобретение ремесел, земледелия) и др.
Устное народное творчество – одно из составных частей фольклора народов марийского края. Ещё в глубокой древности возникли чудесные легенды, предания и былины о богатырях. Память народа накапливала и сохраняла бесценные творения, бережно передавая их — из уст в уста — от поколения к поколению. Предания и легенды – это многовековое хранилище памяти народа (мар.-«тоштымарий шомак» «тоштымары шая» — «слово предков», тат.-«дастан» -«рассказ», удм.-«выжыкыл» — «сказания предков рода»). Предания «объясняют» происхождение того или иного народа. Обычно речь идет о каком-нибудь предке-богатыре, родоначальнике, с которым связано название племени или народа.
Богатыри. Слово «богатырь» впервые встречается в рассказе о татарских воеводах. Богатырь: в тат. яз.- «батыр», удм.- «батыр», мар.- «патыр», чув.- «паттар». В древнерусском языке понятию богатырь соответствовали слова — «хоробр», «храбр», «резвец», «удалец».
Богатыри-великаны. Для обозначения богатыря-великана в
У русского народа это «полоник», близкое к сегодняшнему языке всех народов издавна имелись специальные слова. «исполин». Есть и другое название велет. Славяне были твердо убеждены, что сначала боги сотворили великанов (велетов), а уж потом людей. Когда еще только создавались материки и моря, места на земле было очень много, поэтому все получалось таким громадным и просторным. И самые первые существа, которых сотворили боги, тоже были огромные- великаны. Они по приказу богов насыпали высокие горы, прорыли русла рек и впадины озер, рассадили леса.
Могучих и справедливых богатырей татары называли «алыпами». Могучие и справедливые богатыри у чувашского народа – «улып». Удмуртские богатыри- великаны назывались «алангасары». В марийских преданиях воины-исполины, великаны называются «онар».
Алып — сказочный богатырь, герой татарского фольклора. Образы алыпов в татарских дастанах – Алпамша (Алпамыш), Ак Кубек. По преданиям, Алпамша рос крепким и могучим. По всей округе снискал он себе славу истинного батыра: ступит на землю – вода пробьется, на камень присядет– камень под ним крошится, а в гору упрется – гора рушится под его рукой. А то, что он был еще и удачливым охотником, метким стрелком, еще больше укрепило его славу. В образе Алпамша воплотились самые лучшие человеческие качества: беззаветная храбрость, рыцарство, самоотверженность, сила.
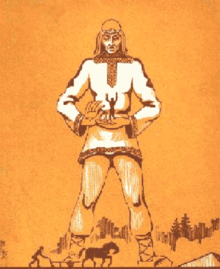
Улып
Улып — могучий и справедливый богатырь чувашского народа. Из рода в род, из поколения в поколение передавались среди чувашей сказания о добром великане Улыпе. Земля Улыпа — так называли чуваши свой древний край. Улып — это сказочный богатырь, обладавший недюжинной силой, добрый и трудолюбивый. Предания о богатыре Улыпе воспитывали любовь к родной земле. Удмуртские богатыри- великаны назывались «алангасары». Были они очень высокого роста, силы непомерной и характера независимого. Свои подвиги алангасары совершали в борьбе между собой. Герои преданий — могучие люди, обладающие сверхъестественной силой: шаг их – в несколько саженей, из лука они стреляли на много вёрст, могли превращаться в животных. Они вели воинственный образ жизни и жили в укреплённых поселениях (удм. «кар»- «гнездо», «город»). Если не находилось подходящего места для возведения крепости, герои преданий брались рукой за землю и вытягивали её вверх, создавая холм. В мирное время они судили народ, а на войне возглавляли войско. Обычные люди подчинялись богатырям, платили им дань, преклонялись перед их силой и мудростью, а после смерти устанавливали обычай — приносить им систематические жертвы. Онар. Согласно народным преданиям, Онар был вождём марийцев, обладал большой силой и огромным нечеловеческим ростом. Был он так огромен, что чуть-чуть не доставал головой радугу. Радугу в старинных легендах называют воротами Онара. У богатыря Онара и шаг был богатырский — в семь верст. Ходил он без всяких дорог, прямо через леса — могучие дубы и сосны перешагивал, словно мелкий кустарник. Не останавливали его и болота: самая большая топь для него была что лужа. Там, где Онар садился отдыхать, – земля прогибалась, следы его ног становились озерами. Там, где он вытряхивал набившийся в лапти песок, – появлялись курганы. Всю землю он обходил за день. Однажды шел Онар по берегу Волги, и ему в лапти набился песок. Разулся Онар, вытряхнул песок. С той поры остались на берегу Волги курганы и песчаные холмы. Про многие холмы и озера в марийском крае народ говорит, что это следы древнего великана. Марийцы называют свой край землей богатыря Онара. Много легенд связано и с другими известными в народе богатырями — Чоткаром, Чумбылатом, Акпарсом, Болтушем и др.
Последний Онар. С.Чавайн
Нам повествуют старые былины,
Что в каждом уголке родной земли
Отважные Онары -исполины
Повыше вековых дубов росли.
А ведь тогда, густой листвой играя,
Деревья подпирали небосвод.
Теперь таких в марийском нашем крае
Никто и при желанье не найдет.
С годами люди ниже ростом стали,
Да и леса постиг судьбы удар…
Лишь не познал тогда беды-печали,
Не изменился лишь один Онар.
Он как-то поутру шагал полями,
Алея, солнца круг над ними рос.
Онар дубы повыдергал руками
И к матери охапкою принес:
— Смотри-ка, мама, коноплю какую
Я в поле для тебя натеребил,
Как роща- частую, как тень- густую,
Вот только посконь отделить забыл.
— Ой, сын мой! Ты и вправду невезучий,
Не коноплю ты вырвал, а леса! —
И затуманились слезой горючей
Ее большие ясные глаза.
Онар ответу очень удивился.
Он постоял и дальше пошагал.
И вдруг заметил пахаря-марийца,
Что землю для посева поднимал.
— Какой жучок ползет передо мною! —
Подумал вслух идущий великан.
Он пахаря с лошадкой и сохою
В свой необъятный положил карман.
Потом Онар увидел на поляне,
Как топором работал человек,
И в этом- то Онаровом кармане
Стал пахарю соседом дровосек.
Онар весь день бродил в раздольях здешних,
А к вечеру сказал, увидев мать:
— Вот, мама, я жучков тебе потешных
Принес нарочно, чтобы показать!
Один копался, землю ворошил,
Другой, наверно, дерево пилил.
— Ой, сын, мой сын! Да это же ведь люди.
Или уже о них ты позабыл…
Они теперь всегда такими будут,
Онарам только рост не изменил!
Сынок, имея силу неземную,
Ты не кичись, не наноси обид!
…Сидит Онар последний и горюет,
И на него с печалью мать глядит.
А мир большой по-прежнему клокочет,
Бурлит волнами, птицами поёт,
И солнце, восходящее из ночи,
Лучами заливает небосвод.
Прочитайте марийскую легенду «Живой камень».
Зимою среди белоснежной пустыни, а в летнее время среди зелени веселых полевых цветов возвышается над тихой речкой утес Живой камень. Не всегда, однако, бывало так пустынно вокруг него.
В давно минувшие времена здесь были большие селения черемисского народа, и жил среди них могучий и славный богатырь по имени Чумбылат. Человек он был простой, трудолюбивый и тихий в обычное время, но как только неприятель угрожал нападением на родную страну, богатырь поднимался на ее защиту. Верхом на буром коне с косматой белой гривой, вооруженный с головы до ног, Чумбылат выступал впереди своего народа, непобедимый и грозный, и всякий раз быстро сокрушал врагов и обращал их в бегство.
Долго жил богатырь на свете, оберегая свою родину и народ, но пришла и ему пора умирать. Собрались вокруг него черемисы, плакали и скорбели о нем, а он утешал их:
— Не бойтесь. Я никогда и мертвый не дам вас в обиду. Когда плохо придется, когда самим вам не справиться с неприятелем, подойдите тогда к моей могиле и скажите громким голосом: «Вставай, Чумбылат! Враги у ворот!» Я встану и обороню вас.
С этим и умер Чумбылат. Торжественно похоронили черемисы своего богатыря в каменной круче в полном вооружении, какое надевал он на битву, похоронили вместе с бурым конем его, белохвостым, с косматой гривой. В каком виде выступал он, бывало, против врагов, в таком и похоронили. Справили по нему богатые поминки и долго оплакивали тяжелую потерю:
— Не стало среди нас великого Чумбылата! Нет с нами нашего богатыря!
Шло время. Все было благополучно, и мало-помалу Чумбылата начали забывать. И забыли бы , может быть, совсем, как вдруг появился сильный враг и начал окружать черемисов непробиваемым кольцом. Вспомнили они тогда о своем богатыре, побежали к скале, к могиле его, и стали громко звать на помощь:
— Вставай, Чумбылат! Вставай, враги у ворот!
И дрогнула каменная круть, раскололась надвое, и появился из темной расщелины Чумбылат на коне своем, в кольчуге и шлеме, со щитом на руке, с копьем у стремени, с мечом над головой. Бросился он на чужих, колол, рубил, топтал обезумевших от страха врагов и быстро обратил в бегство неприятельское войско. А когда опасность миновала, Чумбылат, ни на кого не взглянув, молча вернулся к своей скале; снова замкнулась она за ним и поглотила его вместе с конем.
Много времени прошло. И всякий раз, когда приближалась беда, Чумбылат выручал свой народ, никакой враг не был страшен тогда черемисам.
Подсмотрели однажды ребятишки, как старшие вызывали на помощь себе Чумбылата. Начали они играть в войну, подбежали к скале и давай звать богатыря:
— Вставай, Чумбылат! Враги у ворот!
Дрогнула скала. Выехал Чумбылат на коне, в полном вооружении. А неприятеля нет. Ни направо, ни налево — нет никого. Повернулся тогда богатырь, молча поехал обратно к горе и исчез в ней.
Ребятишкам это понравилось. Сколько было страху и хохоту, сколько всяких рассказов!
Стали опять играть в войну и опять вызвали Чумбылата.
Выехал снова на их зов богатырь. Не увидя врага, он нахмурился и сердито повернул коня обратно.
Мало и этого показалось мальчишкам. Они в третий раз вызвали богатыря:
— Вставай, Чумбылат! Враги у ворот!
Затряслась земля. Со страшным грохотом разверзнулась гора, выехал оттуда разгневанный Чумбылат с мечом над головой. Конь с пеной у рта взвился на дыбы — только бы ринуться в бой! А неприятеля и в помине нет. Только окрестные черемисы в ужасе сбегались на грохот.
Увидел их Чумбылат и крикнул им:
— Не цените вы моих трудов, черемисы! Я вас спасал от всякого врага, а вы надо мной потешаться начали, понапрасну меня тревожить! Помните: ухожу теперь от вас навсегда!
Опустил Чумбылат свой победный меч, повернул коня и скрылся в скале.
Не стало с тех пор у народа защитника. Начались войны, и некому было заступиться за черемисов.
Молчалив стал и тих серый утес над рекой; оброс он снизу мхом и травой, где шуршат иногда ящерицы, а на вершине его садится отдыхать дикий ворон.
Но не пропали надежды у черемисов. Камень таит в себе живую силу. Настанет время — забудет Чумбылат обиду и защитит свой народ от всякого врага.
Потому и зовется этот камень Живым, что жива за ним великая сила в народе и не умирает вера в человеческое будущее.
Акпарс. Камень
Задание: прочитайте и ответьте на вопросы.
- Что такое миф, сказка, легенда, предание, мифология?
- Какие бывают мифы по содержанию?
- Как назывались богатыри-великаны в легендах и преданиях разных народов: русских, татар, чуваш, удмуртов, марийцев?
- Запишите несколько строк из стихотворения С.Чавайна об Онаре, показывающие его величину и силу.
- Что обещал своему народу Чумбылат? Почему он позже отказался от своего обещания?

