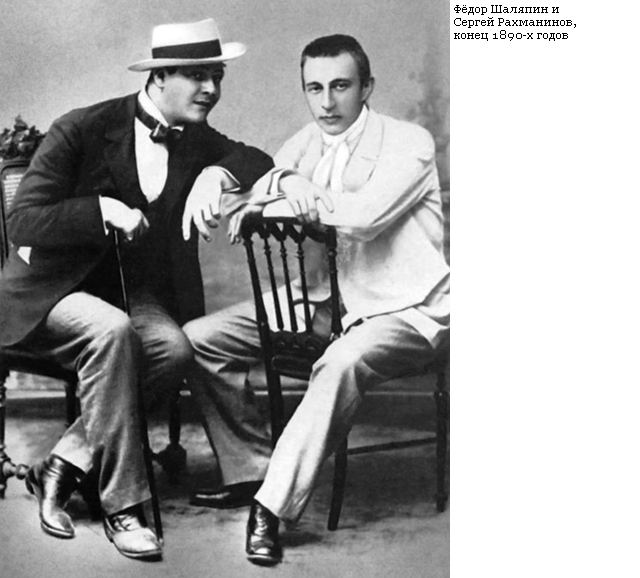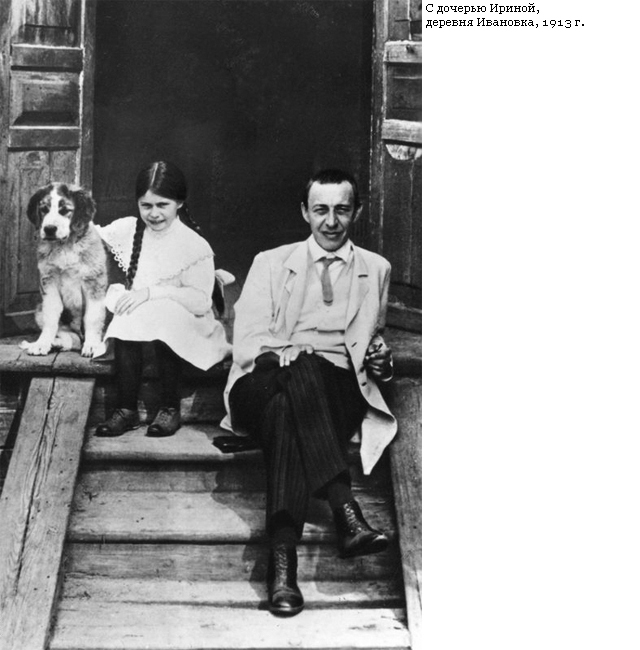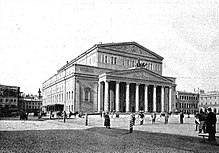Это продолжение истории, рассказанной в статье «Почему Рахманинов лечился у психиатра?»
Итак, мы остановились на том, что провал симфонии не был единственным поводом для тяжёлой депрессии Рахманинова.
Хронически несчастен
У молодого Рахманинова был целый букет причин впасть в такое состояние. Вот примерный перечень его личных проблем, которые он не мог решить годами.
Рахманинов был мучительно и рабски влюблён в чужую жену (Анна Лодыженская). Не мог выбраться из нищеты, постоянных долгов и перебивался ненавистными его натуре частными уроками и преподаванием фортепиано в женских учебных заведениях.
Устроиться на работу в консерваторию он не мог по причине давнего конфликта с её директором.
Он постоянно и тяжело болел (то ли малярия, то ли лихорадка, то ли даже воспаление мозга, больные почки), жил у чужих людей: то у тётки, то у друга, то снимал самые дешёвые меблированные комнаты.
Неожиданная смерть Чайковского (в 1893), который всегда поддерживал юного Рахманинова, стала для него личной трагедией.
И у него не было семьи. Он был в холодных отношениях с отцом, разорившем семью и бросившим его мать и пятерых детей, почти не знал своих братьев (с двенадцати лет он жил один в другом городе), и у него никогда не было духовного контакта с матерью.
Эта рана всегда саднила в его душе.
Той же Наталье Скалон Рахманинов писал, что ему очень тяжело, что на душе у него большое горе, что Москва кажется ему адом, а уехать он не может, потому что нет денег. Что кутежи и алкоголь не облегчают его состояния.
Вот строчка из письма, написанного за четыре года до роковой премьеры:
«Мне бывает иногда невыносимо тяжело. В одну из таких минут я разломаю себе голову, кроме этого, у меня каждый день спазмы, истерики, которые кончаются обыкновенно корчами, причём лицо и руки до невозможности сводит».
Неудивительно, что провал его Первой симфонии доканал его психику окончательно.
Доктор Даль
Когда стало очевидно, что состояние Рахманинова угрожает его жизни, близкие устроили ему встречу с московским доктором Николаем Владимировичем Далем, который совсем недавно прошёл курс обучения психотерапии в Европе ( в том числе, освоил технику лечебного гипноза).
Это фото Н.В.Даля сделано спустя 20 лет после описываемых событий:
Вопреки встречающейся информации в Интернете, он не имел никакого родственного отношения к В.И.Далю — автору известного словаря.
Николай Владимирович Даль был хорошим виолончелистом, в его доме собирались любители квартетной игры. И, следовательно, он мог глубже понять музыкальный ракурс болезни Рахманинова.
Главный вектор этих встреч заключался в том, чтобы внушить Рахманинову уверенность в собственных творческих возможностях. Поскольку Рахманинов был связан обещанием написать фортепианный концерт для Лондона (но два года не мог написать ни ноты), все усилия доктора были направлены в эту сторону.
Во время почти ежедневных сеансов (они продолжались около трёх месяцев) Даль с помощью гипноза внушал ему уверенность в том, что он обязательно напишет свой самый лучший фортепианный концерт. Кроме того, они много разговаривали, и Рахманинов до конца жизни был благодарен своему доктору за то, что он научил его «мужаться и верить».
Постепенно Рахманинов перестал бояться чистого нотного листа. И некоторое время спустя начал сочинять. Закономерно, что свой новый фортепианный концерт он посвятил доктору Далю.
Этот концерт (Второй) имел огромный успех у публики и страстно любим ею до сих пор, потому что это шедевр от первой до последней ноты.
Здесь можно его послушать — 🎧
Но это не хеппи-энд
Критикам, конечно, надо десять раз подумать, прежде чем публично давать оценку сочинениям молодых композиторов. В случае Рахманинова нанесённая ими душевная травма имела далеко идущие последствия.
Спустя 15 (!)лет после вышеописанных событий Рахманинов писал Мариэтте Шагинян:
«…я в себя не верю. Если я когда-нибудь в себя верил, то давно, — очень давно — в молодости! …болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, всё глубже. Немудрено, если через некоторое время решусь совсем бросить сочинять и сделаюсь либо присяжным пианистом, либо дирижёром, или сельским хозяином, а то, может, ещё автомобилистом…»
Через шесть лет Рахманинов покинет Россию и действительно станет «присяжным пианистом» — величайшим в 20 веке. Но за 25 лет жизни на Западе он напишет только шесть опусов. Только ли тоска по Родине и занятость мешала ему сочинять?
Ещё на эту тему: «Что нужно знать о Сергее Рахманинове?»
Всегда было интересно как в оригинале звучали бы великие композиторы или исполнители, творившие во времена, когда записать звук напрямую было либо технически невозможно, либо, из-за несовершенства техники, сохранившиеся записи сильно искажены. Вот как бы звучал сейчас Иегуди Менухин? Или Паганини? Или Рахманинов? Казалось бы, узнать это сейчас можно только с помощью спиритического сеанса, но нет, пытлив человеческий ум и беспокоен.
И вот, занимаясь историей русского авангарда я наткнулся на диск Рахманинова. Вообще-то записей Рахманинова сохранилось довольно много. Есть даже во вполне приличном, даже по современным меркам, качестве, но найденный мною диск записан совсем недавно и на нем сделана попытка восстановить звучание рахманиновской игры, причем практически натурально, ведь пианино играет как бы само по себе, но так, как это бы делал Рахманинов. Чем не сеанс техно-спиритизма?
This is the trailer for «The Ghost Concert» — an evening of «live» music with «the ghost» of maestro Sergei Rachmaninoff, hosted by Roberto Prosseda
Как это возможно? Дело в том, что для воспроизведения “оригинального” звучания используется не запись “оригинального” звука, а восстановленная и записанная по определенным технологиям, с использованием всех возможностей современной техники, игра на реальном, существующем в наше время, инструменте. Как оказалось, разработано несколько технологий подобного восстановления звучания, но диск, о котором идет речь, записан на базе варианта Ampico (AMerican PIano COmpany).
Ampico была одна из систем для механической записи игры на фортепьяно. В результате такой записи звука получался валик с перфорированной лентой, который можно потом на специальном инструменте воспроизводить. Примерно по похожему принципу работают музыкальные шкатулки. Далее я подробнее напишу о там, как работают технологии “спиритического” “восстановления” звучания, тем более, что современные варианты несоизмеримо сложнее своих механических прародителей.
Случай же с Ampico интересен тем, что свое время Рахманинов специально сделал несколько подобных “записей” на перфорированную ленту, которые сохранились, и которые теперь можно “воспроизвести”. Ну и если, сделав эти записи, он не возражал против их тиражирования, то наверно он не считал полученный результат чем-то недостойным, искажающим дух и технику собственной игры.
Хотя, конечно, от прослушивания, и правда, возникают немного странные ощущение потусторонности происходящего, словно ты и правда присутствуешь на спиритическом сеансе, где вызван дух Рахманинова, который, сев за инструмент, начал играть. Особенно, если еще и видеоряд наложить:
Сергей Рахманинов — Элегия (op.3 No.1)
А вот «живой» Рахманинов:
Sergei Rachmaninoff plays his Piano Concerto No. 2
А вот еще один Ampico-вариант:
Schubert: Impromptu, Op. 90 No. 4 (Sergey Rachmaninov, piano)
И альтернативный вариант техно-спиритуализма (Zenph технология):
Rachmaninov Prelude In C Sharp Minor, Op. 3_2
Ну и как водится, подобные эксперименты не могли не найти живой отклик у меломанов. Вот несколько полярных мнений:
PRO
«1. Аркадий (10 Май 07 18:19) Сердечно благодарю за всё, чем было бескорыстно позволено воспользоваться. Разразился бы нелицемерными восторгами, но, к сожалению, не могу, т.к., некогда даже прослушать, только и успеваю, что накачать про запас. Будет время.. Надеюсь.
2. Irina (trapez) (15 Май 07 13:02) Уважаемый Евгений! Совершенно потрясающий диск! Абсолютно не ожидала такого качества архивных записей Рахманинова, хотя слушала его и на виниле,и на дисках. Даже на простом аудио-центре Panasonic этот диск звучит так, что создается впечатление, что концертный рояль у вас в комнате! Кстати, рояль великолепен! Про исполнение не говорю. Сразу же сравнила с диском «прелюдии Рахм.» (Ашкенази), выставленным на Clas. Ucoz.Звук глуховат. А mp3 записи можно просто выкинуть. Огромное спасибо за этот дивный диск!
3. Женя (classical) (15 Май 07 14:34) Это, видимо, восстановленная цифровым способом запись. Как и запись органа Альберта Швейцера, которую я когда-то здесь выложил.
4. keykid (keykid) (27 Декабрь 07 01:33)
Качество — потрясающее, в связи с чем закрались сомнения, что это Рахманинов. Больше похоже на искусно-выполненную подделку. Человек, который играет на этой записи — виртуоз высшего класса. Но ни за что не поверю, что записи периода 1919-1929…. А современная реставрация на ТАКОЕ не способна — говорю со знанием дела! Даже, если предположить, что аудио было переведено в миди, с последующей «осемпловкой», всё равно, таких динамических (и не только) нюансов добиться нельзя.
5. Женя (classical) (27 Декабрь 07 03:17) Как я теперь знаю, это записи Рахманинова на перфолентах Ampico. Перфоленты записаны Рахманиновым тогда, а воспроизведено это недавно на рояле, оборудованном системой воспроизведения записей с перфолент. Отсюда и качество звука. Это Вам на грампластинки.»
CONTRA
«22. Peter (Gtn) (11 Сентябрь 09 22:08) Интересный эксперимент! Мысли о чем-то подобном возникали у меня лет 20 назад. «Интерполировать» по сеткам старых записей современное звучание инструмента. Что есть тут хорошего. Ну впечатляет, конечно, если представить, что какой-нибудь лауреат современных конкурсов так бы заиграл… В этом много современного и стильного. Что удручает — конечно это уже не Рахманинов. Не справились в очень многом с его звуковой атакой. Индивидуальным тембром, не столько даже на инструментах того времени. сколько в отношении соединения звуков. Темпы искажены. Почему-то весьма растянуты. Стремительность пассажей Рахманинова низведена на уровень довольно-таки тяжеловесный и чересчур массивный. Он так не играл бы никогда, придавая необходимый тембр не по отдельным нотам а по целым художественным комплексам.. Но попытка интересная и поучительная. Хотя, наверное в не меньшей мере и вредная для молодых музыкантов. Ибо подменяет элементы настоящего искусства имитацией с совсем другой стороны. С нарушениями технологии пианистического искусства.
29. Александр (Trompete) (12 Сентябрь 09 13:06) Настоящий ли это Рахманинов? Конечно, нет. Это ВИРТУАЛЬНЫЙ ПИАНИСТ, возможно даже почти великий (согласен с igor120765), и притом похожий на Рахманинова. Этот виртуальный пианист создан из документальной информации (перфорированная лента) на основе некоторой математической модели (довольно сильной, но неизбежно ограниченной по возможностям). Эта модель, как говорят в науке, решает ОБРАТНУЮ ЗАДАЧУ воссоздания первоисточника по его известному образу. Математикам, физикам, инженерам и т. п. прекрасно известно, что решение подавляющего большинства обратных задач носит приближенный и вероятностный (с той или иной степенью) характер. Как оценивать полученный результат? Как всегда. Одни скажут, что стакан наполовину полон, а другие, что наполовину пуст. Если сравнивать, с тем звучанием, что обычно воспроизводится на механических роялях и пианинах с сохранившихся валиков Ампико или Вельте-Миньон, то стакан наполовину (а м.б., даже на 90%) полон. Если сравнивать с реальными акустическими записями пианистов (хоть и загрязненными шумами), то стакан наполовину пуст.
Так что каждый решает этот вопрос сам. Но я лично очень бы хотел, чтобы такая же превосходная инженерная работа была бы проделана с валиками Бузони и других. Пусть таких виртуальных пианистов будет больше.
30. Peter (Gtn) (12 Сентябрь 09 13:30) возможно за этим методом какое-то будущее, но сейчас это — первый блин комом. Беда в том. что он больше отнимает у записей, нежели им добавляет. Соотношение даже не 5050 а гораздо более драматическое. Причем то. что записи потеряли — неизмеримо музыкально и художественно ценнее, чем тупой звук «виртуального» лауреата, без всякой музыкальной идеи в голове. Потерян подлинно художественный звук, несущий важнейшую музыкальную и эстетическую «информацию». Можно, кстати уже давно! и Венеру Милосскую отлить с руками и в более современном материале, пластике — без сколов и неровностей. Стоит ли говорить о таком «исполнении» всерьез?
31. igor (igor120765) (12 Сентябрь 09 14:19) Я согласен,что это не совсем Рахманинов.Но надо сказать,что наш виртуальный пианист взял у него очень много!Повторюсь,что современные исполнители Его,даже увешанные лаврами,сильно проигрывают!даже живьем… Недостаток, естественно, непреодолим-отсутствие обратной связи во время исполнения-записи.Современные технологии скорее всего позволяют слышать результат немедленно:то есть копия будет Абсолютной(кроме поля исполнителя).то есть они играют на данной ямахе как на рояле со всеми присущими ему нюансами(тут главная проблема-добиться одинаковости привода непальцевого и пальцевого,думаю,она очень сложна,и похожих реакций виртуальной клавиатуры).Но при решении этой проблемы действительно мы сможем слышать в реале живущих великих(другой вопрос-а есть ли они сейчас,великие),а видео дополнит впечатление. Отдадим должное безумству храбрых-мечтать об этом в 20е…эх, Расея, где у тебя такие люди…увы. И все же это прекрасные записи. Я не сноб…
34. Peter (Gtn) (13 Сентябрь 09 13:01)Категорически не согласен! дело не в снобизме а в настоящей ПОДДЕЛКЕ! Я Вам на компьютере раскрашу Троицу Рублева и вставлю вместо ликов фотографии топ-моделей. А Вы наслаждайтесь»
В следующий раз подробнее расскажу о дисках с «восстановленным» Рахманиновым. И интересно будет узнать мнение профессиональных музыкантов об этих записях. Сам я ощущаю разницу, но не могу сформулировать в чем она заключается. Наверно, мне просто нравится Рахманинов 
(продолжение следует)
Оглавление
- История вопроса и введение
- Дискография техно-спиритуализма
- Технологии
- Биография Рахманинова
- Слепой тест
- Другие “спиритические” записи
- Слепой тест II
- Вместо заключения
Дул сильный ветер, путешественник придерживал поля шляпы и смотрел на тающий в дымке берег. Люди обходили стороной хмурого человека и тихо шептались, кивая в его сторону головой. На пароходе обсуждали переворот в России, страшные перемены в стране и возможность выживания на чужбине. Эти разговоры путнику не нравились. Глаза его слезились то ли от пароходного дыма, то ли от нахлынувших воспоминаний… Четырёхлетний мальчик сидит за роялем и угрюмо долбит по клавиатуре. Рядом всегда улыбающаяся мать, Любовь Петровна. Она накрывает его худенькую ладонь своей рукой: «Ты обязательно будешь хорошо играть. Смотри, какие у тебя руки».
Текст: Наталья Оленцова
Сейчас об этих руках ходили легенды. Красивые, холёные, без вздувшихся вен и узлов, как у многих концертирующих пианистов, они были словно вырезаны из слоновой кости. Правой рукой он мог охватить сразу двенадцать белых клавиш, а левой — взять аккорд до — ми-бемоль — соль — до — соль. Но дома его искусство стало не нужно. «Это конец старой России, искусства тут не будет долгие годы, — сказал он жене Наталье Александровне незадолго до их отъезда. — А без него жизнь моя бесцельна, ты знаешь». Через две недели Сергей Рахманинов с женой и двумя дочерьми плыл на пароходе в Париж, откуда предстояло отправиться в Стокгольм на гастроли. Представится ли у него возможность эмигрировать в США, Рахманинов ещё не знал. В Россию он планировал вернуться лет через десять, не раньше. От этих мыслей становилось тоскливо. С палубы парохода уже все ушли, темноту ночи резал свет качающихся фонарей. Как всё внезапно происходит в жизни. Только соберёшься жить тихо, ни о чём не беспокоясь, как обязательно что-нибудь случится. Или кажется, что впереди кромешный ад, а жизнь вдруг становится интересной и лёгкой.
Из Петербурга в Москву
… Долгое время мальчишка не придавал значения ни своему идеальному слуху, ни феноменальной музыкальной памяти. Мать заставляла его садиться за рояль. Он быстро играл всё, о чём она его просила, не глядя в ноты, и убегал играть с детьми. Когда отец Василий Аркадьевич, отставной гусарский офицер, «склонный к рассеянному образу жизни», промотал своё состояние и наследство жены, семья была вынуждена продать имение Онег в Новгородской губернии и почти без средств к существованию переехать в Петербург. Но нужно было учиться, и Серёжа легко поступил в консерваторию. Жить мальчика определили к тётке, Варваре Аркадьевне Сатиной. Мать навещала его редко, отец совсем не приходил. Серёжа узнал, что родители развелись. Он грубил своей благодетельнице и её дочерям, хулиганил и пропускал занятия в консерватории. Через три года обучения встал вопрос об его отчислении.
Он стоял перед педагогическим составом, сминая руками полы пиджака, и проклинал свои пылающие огнём уши. Собирался навсегда покончить с музыкой и только и ждал возможности выскользнуть из кабинета. Дома его ждали мать и двоюродный брат, Александр Ильич Зилоти. Ученик Листа и Рубинштейна, в свои 25 лет Зилоти был известен в музыкальных кругах как талантливый пианист. «Серёжа, пожалуйста, сыграй для Саши», — попросила мать. Сын послушно сел к инструменту. По сияющим глазам брата понял, что у него получилось хорошо. «Поедешь в Москву, к преподавателю московской консерватории Звереву. Я за тебя поручусь», — произнёс Александр.
Осенью 1885 года Серёжа выехал из Петербурга в Москву, в семью Зверева. Жены и детей у мастера не было, и он брал на полный пансион талантливых студентов. В этот дом были вхожи выдающиеся люди — директор консерватории Танеев, директор московского отделения Русского музыкального общества Чайковский, а также известные и хорошо образованные господа и дамы, среди которых встречались актёры, юристы, профессора университетов. Общение с ними, посещения театров, концертов и картинных галерей перевернуло представление юноши о жизни. Он всерьёз увлекся музыкой и даже начал сочинять. В 16 лет на консерваторском экзамене Рахманинов играл собственные фортепианные произведения. Худой, сутулый, с длинными ногами и острыми коленками, он поначалу вызвал лишь покровительственные улыбки. Но едва его руки коснулись клавиатуры, как лица экзаменаторов посерьёзнили. Студент получил «отлично», а Пётр Ильич Чайковский на аттестационном листе рядом с пятеркой нарисовал три «плюса» — сбоку, сверху и снизу. В том же году Сергею пришлось уйти из пансиона Зверева — мастер в порыве гнева замахнулся на своего ученика, и они поссорились. Приютила его тётка и две её повзрослевшие дочери, Наталия и Софья. Сергею выделили комнату, и он продолжил учебу и сочинительство. В 19 лет закончил консерваторию с золотой медалью, представив в качестве экзаменационной работы одноактную оперу «Алеко» на сюжет поэмы Пушкина «Цыганы». Он написал её за 17 дней. В том же году «Алеко» была поставлена в Большом театре. На молодого композитора обрушилась слава.
Первая симфония
Во время исполнения он сидел в зале и не знал, куда деться от стыда. Оркестром дирижировал Глазунов, и то ли не понял замысла композитора, то ли предпочел трактовать произведение по-своему, но исполнение, на взгляд автора, получилось ужасным. Из театра Рахманинов сбежал. Утром, прочитав газетные рецензии, заперся в своей комнате и наглухо задернул шторы. Позже он сам говорил, что был подобен «человеку, которого хватил удар и на долгое время отнялись голова и руки». Никогда больше при жизни композитора Первая симфония не исполнялась. Фактически он наложил на нее запрет.
Несколько месяцев вся семья Сатиных ходила вокруг жильца на цыпочках. Наталия и Софья приносили кофе, выбрасывали из переполненных пепельниц окурки и осторожно спрашивали, не желает ли он прогуляться. Рахманинов рассеянно молчал. В то время вытащить его из комнаты смогла только нужда. Надо было зарабатывать на жизнь. Через полгода после сокрушительного провала он согласился на предложение Саввы Мамонтова занять место дирижёра в его частном оперном театре. Проработал там всего сезон, утверждая, что кроме денежной стороны вопроса ничто его там не привлекало, а отношения с оркестром и исполнителями оперных партий лишь удручали. Одним из немногих, кто сразу подружился с молодым дирижёром, был Фёдор Шаляпин. Под руководством Рахманинова тот пел партии Мельника в «Русалке», Головы в «Майских ночах» и Владимира в опере Серова «Рогнеда». Их дружба быстро стала притчей во языцех. Шумный и колоритный Шаляпин и хмурый, с виду высокомерный Рахманинов привлекали внимание, где бы ни появлялись. Общались они очень близко. Федор Иванович знал о творческой неудаче композитора и его переживаниях. и Сергей Рахманинов Не сразу, но он уговорил друга обратиться к знаменитому гипнотизеру Далю, помогавшему ему самому лечиться от депрессии. Два года понадобилось психотерапевту, чтобы Рахманинов снова стал писать. Второй фортепианный концерт, исполненный в 1901 году, был посвящён доктору Далю.
Ещё через год Сергей Васильевич женился на Наталии Сатиной и переехал в небольшую квартиру на Воздвиженке. Жил он тогда весьма скромно. Чтобы обеспечить семью, занял место музыкального инспектора в Елизаветинском и Екатерининском институтах. Ходил на службу с большим неудовольствием, ибо бестолковая работа отнимала много времени и не оставляла возможности сочинять. Несмотря на свою нелюбовь к педагогической деятельности, был вынужден давать частные уроки. За фортепианные концерты по прежнему платили немного. Человек одарённый и талантливый, он разрывался: сочинять музыку, дирижировать или совершенствовать свой исполнительский талант? Противоречия и сомнения мучили его страшно и отпускали только в семье. По выходным композитор часто ходил по дому в полосатой пижаме, сжимая в руках только что написанную партитуру, ронял тут и там пепел, оставлял всюду кофейные чашки. Его ласково журили и всячески за ним ухаживали. Вечерами он с удовольствием принимал гостей и азартно играл в винт. «Сергей Васильевич умеет улыбаться?» — удивлялись пришедшие впервые. И только близкие знали, что за напускной хмуростью композитор скрывает ранимость и невероятную застенчивость.
Мистификация?
После успеха Второго фортепианного концерта в 1901 году и окончательного выздоровления Сергей Рахманинов пишет одно за другим несколько больших произведений, много концертирует, а с 1904 года дирижирует в Большом театре. В салонах Москвы и Петербурга постоянно звучит его имя: «Сергей Васильевич вчера давали концерт…» Его странную манеру выступать называли «авторской». Каждый раз, выходя к роялю, он хмуро смотрел на инструмент, далеко отодвигал стул и садился, широко разводя длинные ноги. Вытягивал руки вперед и клал их на клавиатуру и только потом подъезжал на стуле к инструменту. А однажды зрителям показалось, что рояль сам поехал к исполнителю. Все ахнули. Мистика! Вот такой мощной энергетикой обладал Рахманинов.
В труппе Большого театра его появление для многих оказалось неприятной неожиданностью. Уж слишком рьяно тот взялся всё менять. Переставил дирижёрский пульт так, чтобы видеть оркестр, — традиционно тот стоял возле суфлёрской будки, и дирижёр видел только певцов. В театре в то время дирижировал ещё и знаменитый Альтани. Рабочие возмущались необходимостью переставлять пульт с места на место, в зависимости от того, кто дирижировал оркестром. Рахманинов не потрясал кулаками, не прыгал и не суетился, как это было принято. Каждое его движение было чётким и выверенным. Репортёры не скупились на похвалы. Опера «Евгений Онегин» была названа тонкой и поэтичной, «Князь Игорь» с участием Шаляпина поразил эпическим размахом и богатством оркестрового звучания. «Жизнь за паря», «Пиковая дама», «Борис Годунов» — каждое произведение вызывало бурю восторга.
11 января 1906 года в Большом впервые исполнялись одноактные пьесы «Скупой рыцарь» и «Франческа ди Римини». Зал был полон, несмотря на месяц назад подавленное декабрьское восстание 1905 года. После выступления кто-то спросил Рахманинова, почему партию Скупого и Ланчотто Малатесты исполнял не Шаляпин, а другой артист. Тот в ответ сжал губы и поспешно ретировался. Не объяснять же всем, что Шаляпин, талантливо читавший с листа, поленился выучить предложенные партии, из-за чего друзья серьёзно поссорились на многие годы. А осенью того же года Рахманинов решился на переезд в Дрезден. Прожил в Германии три зимы, совершил большое турне по США и Канаде, а потом понял, что устал от жизни в других странах. Сергей Васильевич купил имение Ивановку в Тамбовской губернии, автомобиль, который сам водил с удовольствием, и поселился вдали от столичной суеты.
Надежды, планы, размеренный уклад — в одночасье жизнь кардинально изменилась. Грянул 1917 год. Решение далось мучительно. Сергей Рахманинов уехал с семьей за границу, чтобы продолжать делать то, что умеет и любит. Он не знал тогда, что это путешествие навсегда отрежет его от родины.
Навсегда
…Париж встретил Рахманиновых портовой сутолокой и вознёй с документами. Предполагали, что будет трудно, но не понимали до конца, насколько. Ему пришлось учить произведения Штрауса, Шумана, Баха, потому что избалованная европейская публика не воспринимала концерты прославленного русского музыканта, состоявшие только из его собственных сочинений. В 1918 году состоялся переезд в Нью-Йорк. Концертировал Рахманинов очень часто, чтобы заработать денег, и быстро прославился как пианист, что сделало его очень богатым. Довольно скоро Рахманинов купил имение Сенар на берегу Люцернского озера в Швейцарии. Отстроил великолепную набережную, катал друзей на лодке и на автомобиле. Каждый год покупал «Кадиллак» или «Континенталь», а старую машину возвращал дилеру. На концерты по Европе и США теперь он отправлялся за рулём.
В своём саду Рахманинов вырастил удивительную чёрную розу, и вскоре её фотографии появились во всех швейцарских газетах. Но от репортеров он тщательно скрывался. Так же, как и от многочисленных поклонниц, осаждавших его дом до конца жизни. Завсегдатаями у Рахманиновых были знаменитые финансисты. С ними он проводил много времени, советуясь, куда вкладывать деньги. Казалось бы, жизнь в изгнании не обернулась страшным сном. Но отчего-то после выступлений музыкант приходил в артистическую, падал в кресло и просил не беспокоить. Его огромные руки лежали ладонями вверх, подбородком он упирался в грудь, а глаза были закрыты. Каждому, кто заставал его в таком состоянии, хотелось вызывать врача. Но он лишь досадливо махал руками, показывая, что всё в порядке.
Временами его мучали боли в спине, и тогда он впадал в жуткую меланхолию. Спасала терпеливая жена и друзья из России, привозившие подарки, которые композитор очень любил. Поднять настроение изгнаннику могла любая необыкновенная мелочь: ручка, открывавшаяся удивительным образом, машинка для скрепления бумаги, а пылесос вызвал бурю восторга! Эту свою игрушку композитор потом часто демонстрировал в работе.
Сергей Васильевич тратил огромные суммы на благотворительность, пересылал в Россию деньги в поддержку деятелей науки, артистов, писателей. Но в 1931 году стал одним из 110 известных эмигрантов, обратившихся с призывом к госдепартаменту США воздержаться от закупки советских товаров. В знак протеста против мракобесия и террора, что творились на его многострадальной родине. В ответ музыка Рахманинова, которая есть «отражение загнивающего мелкобуржуазного духа, особенно вредного в условиях острой борьбы на музыкальном фронте», перестала звучать в СССР.
Десять лет после отъезда из России Сергей Рахманинов ничего не сочинял. Только концертировал. И чем больше ему аплодировали, тем больше он ненавидел себя. Однажды, закончив выступление под бурные восторженные аплодисменты публики, Рахманинов заперся в гримёрке. Когда дверь отперли, композитор был в горячке: «Не говорите, ничего не говорите… Я сам знаю, что я не музыкант, а сапожник!»
Но исполнитель не заглушил в Рахманинове музыканта. Ноты были его голосом, то рыдающим, то восторженным, то зовущим куда-то, где хорошо и покойно. Он тосковал по утраченной родине, объятой пламенем войны, и всё же надеялся, что когда-нибудь его музыка зазвучит там, где больше нет ему места.
Болезнь стала полнейшей неожиданностью для самого Рахманинова и всех его родных. В середине февраля 1943 года композитор стал совсем плохо себя чувствовать, появилась слабость, начали болеть руки. Его доставили в больницу, но через несколько дней выписали, не найдя ничего серьёзного. Положение больного ухудшалось, и жена решила пригласить домой знаменитого американского хирурга. Тот поставил неутешительный диагноз: быстропрогрессирующий рак. 20 марта Сергей Васильевич не смог прочитать поздравительные телеграммы и письма, приходившие со всего мира в честь его 70-летия. Через 8 дней он умер в своём поместье в Беверли-Хиллз.
http://www.liveinternet.ru/community/4989775/post227586128/
MsTataka
Дул сильный ветер, путешественник придерживал поля шляпы и смотрел на тающий в дымке берег. Люди обходили стороной хмурого человека и тихо шептались, кивая в его сторону головой. На пароходе обсуждали переворот в России, страшные перемены в стране и возможность выживания на чужбине. Эти разговоры путнику не нравились. Глаза его слезились то ли от пароходного дыма, то ли от нахлынувших воспоминаний… Четырёхлетний мальчик сидит за роялем и угрюмо долбит по клавиатуре. Рядом всегда улыбающаяся мать, Любовь Петровна. Она накрывает его худенькую ладонь своей рукой: «Ты обязательно будешь хорошо играть. Смотри, какие у тебя руки».
Сейчас об этих руках ходят легенды. Красивые, холёные, без вздувшихся вен и узлов, как у многих концертирующих пианистов, они были словно вырезаны из слоновой кости. Правой рукой он мог охватить сразу двенадцать белых клавиш, а левой — взять аккорд до — ми-бемоль — соль — до — соль. Но дома его искусство стало не нужно. «Это конец старой России, искусства тут не будет долгие годы, — сказал он жене Наталье Александровне незадолго до их отъезда. — А без него жизнь моя бесцельна, ты знаешь». Через две недели Сергей Рахманинов с женой и двумя дочерьми плыл на пароходе в Париж, откуда предстояло отправиться в Стокгольм на гастроли. Представится ли у него возможность эмигрировать в США, Рахманинов ещё не знал. В Россию он планировал вернуться лет через десять, не раньше. От этих мыслей становилось тоскливо. С палубы парохода уже все ушли, темноту ночи резал свет качающихся фонарей. Как всё внезапно происходит в жизни. Только соберёшься жить тихо, ни о чём не беспокоясь, как обязательно что-нибудь случится. Или кажется, что впереди кромешный ад, а жизнь вдруг становится интересной и лёгкой.ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ
… Долгое время мальчишка не придавал значения ни своему идеальному слуху, ни феноменальной музыкальной памяти. Мать заставляла его садиться за рояль. Он быстро играл всё, о чём она его просила, не глядя в ноты, и убегал играть с детьми. Когда отец Василий Аркадьевич, отставной гусарский офицер, «склонный к рассеянному образу жизни», промотал своё состояние и наследство жены, семья была вынуждена продать имение Онег в Новгородской губернии и почти без средств к существованию переехать в Петербург. Но нужно было учиться, и Серёжа легко поступил в консерваторию. Жить мальчика определили к тётке, Варваре Аркадьевне Сатиной. Мать навещала его редко, отец совсем не приходил. Серёжа узнал, что родители развелись. Он грубил своей благодетельнице и её дочерям, хулиганил и пропускал занятия в консерватории. Через три года обучения встал вопрос об его отчислении.
Он стоял перед педагогическим составом, сминая руками полы пиджака, и проклинал свои пылающие огнём уши. Собирался навсегда покончить с музыкой и только и ждал возможности выскользнуть из кабинета. Дома его ждали мать и двоюродный брат, Александр Ильич Зилоти. Ученик Листа и Рубинштейна, в свои 25 лет Зилоти был известен в музыкальных кругах как талантливый пианист. «Серёжа, пожалуйста, сыграй для Саши», — попросила мать. Сын послушно сел к инструменту. По сияющим глазам брата понял, что у него получилось хорошо. «Поедешь в Москву, к преподавателю московской консерватории Звереву. Я за тебя поручусь», — произнёс Александр.
Осенью 1885 года Серёжа выехал из Петербурга в Москву, в семью Зверева. Жены и детей у мастера не было, и он брал на полный пансион талантливых студентов. В этот дом были вхожи выдающиеся люди — директор консерватории Танеев, директор московского отделения Русского музыкального общества Чайковский, а также известные и хорошо образованные господа и дамы, среди которых встречались актёры, юристы, профессора университетов. Общение с ними, посещения театров, концертов и картинных галерей перевернуло представление юноши о жизни. Он всерьёз увлекся музыкой и даже начал сочинять. В 16 лет на консерваторском экзамене Рахманинов играл собственные фортепианные произведения. Худой, сутулый, с длинными ногами и острыми коленками, он поначалу вызвал лишь покровительственные улыбки. Но едва его руки коснулись клавиатуры, как лица экзаменаторов посерьёзнили. Студент получил «отлично», а Пётр Ильич Чайковский на аттестационном листе рядом с пятеркой нарисовал три «плюса» — сбоку, сверху и снизу. В том же году Сергею пришлось уйти из пансиона Зверева — мастер в порыве гнева замахнулся на своего ученика, и они поссорились. Приютила его тётка и две её повзрослевшие дочери, Наталия и Софья. Сергею выделили комнату, и он продолжил учебу и сочинительство. В 19 лет закончил консерваторию с золотой медалью, представив в качестве экзаменационной работы одноактную оперу «Алеко» на сюжет поэмы Пушкина «Цыганы». Он написал её за 17 дней. В том же году «Алеко» была поставлена в Большом театре. На молодого композитора обрушилась слава.
ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ
Во время исполнения он сидел в зале и не знал, куда деться от стыда. Оркестром дирижировал Глазунов, и то ли не понял замысла композитора, то ли предпочел трактовать произведение по-своему, но исполнение, на взгляд автора, получилось ужасным. Из театра Рахманинов сбежал. Утром, прочитав газетные рецензии, заперся в своей комнате и наглухо задернул шторы. Позже он сам говорил, что был подобен «человеку, которого хватил удар и на долгое время отнялись голова и руки». Никогда больше при жизни композитора Первая симфония не исполнялась. Фактически он наложил на нее запрет.
Несколько месяцев вся семья Сатиных ходила вокруг жильца на цыпочках. Наталия и Софья приносили кофе, выбрасывали из переполненных пепельниц окурки и осторожно спрашивали, не желает ли он прогуляться. Рахманинов рассеянно молчал. В то время вытащить его из комнаты смогла только нужда. Надо было зарабатывать на жизнь. Через полгода после сокрушительного провала он согласился на предложение Саввы Мамонтова занять место дирижёра в его частном оперном театре. Проработал там всего сезон, утверждая, что кроме денежной стороны вопроса ничто его там не привлекало, а отношения с оркестром и исполнителями оперных партий лишь удручали. Одним из немногих, кто сразу подружился с молодым дирижёром, был Фёдор Шаляпин. Под руководством Рахманинова тот пел партии Мельника в «Русалке», Головы в «Майских ночах» и Владимира в опере Серова «Рогнеда». Их дружба быстро стала притчей во языцех. Шумный и колоритный Шаляпин и хмурый, с виду высокомерный Рахманинов привлекали внимание, где бы ни появлялись. Общались они очень близко. Федор Иванович знал о творческой неудаче композитора и его переживаниях. и Сергей Рахманинов Не сразу, но он уговорил друга обратиться к знаменитому гипнотизеру Далю, помогавшему ему самому лечиться от депрессии. Два года понадобилось психотерапевту, чтобы Рахманинов снова стал писать. Второй фортепианный концерт, исполненный в 1901 году, был посвящён доктору Далю.
Ещё через год Сергей Васильевич женился на Наталии Сатиной и переехал в небольшую квартиру на Воздвиженке. Жил он тогда весьма скромно. Чтобы обеспечить семью, занял место музыкального инспектора в Елизаветинском и Екатерининском институтах. Ходил на службу с большим неудовольствием, ибо бестолковая работа отнимала много времени и не оставляла возможности сочинять. Несмотря на свою нелюбовь к педагогической деятельности, был вынужден давать частные уроки. За фортепианные концерты по прежнему платили немного. Человек одарённый и талантливый, он разрывался: сочинять музыку, дирижировать или совершенствовать свой исполнительский талант? Противоречия и сомнения мучили его страшно и отпускали только в семье. По выходным композитор часто ходил по дому в полосатой пижаме, сжимая в руках только что написанную партитуру, ронял тут и там пепел, оставлял всюду кофейные чашки. Его ласково журили и всячески за ним ухаживали. Вечерами он с удовольствием принимал гостей и азартно играл в винт. «Сергей Васильевич умеет улыбаться?» — удивлялись пришедшие впервые. И только близкие знали, что за напускной хмуростью композитор скрывает ранимость и невероятную застенчивость.
МИСТИФИКАЦИЯ?
После успеха Второго фортепианного концерта в 1901 году и окончательного выздоровления Сергей Рахманинов пишет одно за другим несколько больших произведений, много концертирует, а с 1904 года дирижирует в Большом театре. В салонах Москвы и Петербурга постоянно звучит его имя: «Сергей Васильевич вчера давали концерт…» Его странную манеру выступать называли «авторской». Каждый раз, выходя к роялю, он хмуро смотрел на инструмент, далеко отодвигал стул и садился, широко разводя длинные ноги. Вытягивал руки вперед и клал их на клавиатуру и только потом подъезжал на стуле к инструменту. А однажды зрителям показалось, что рояль сам поехал к исполнителю. Все ахнули. Мистика! Вот такой мощной энергетикой обладал Рахманинов.
В труппе Большого театра его появление для многих оказалось неприятной неожиданностью. Уж слишком рьяно тот взялся всё менять. Переставил дирижёрский пульт так, чтобы видеть оркестр, — традиционно тот стоял возле суфлёрской будки, и дирижёр видел только певцов. В театре в то время дирижировал ещё и знаменитый Альтани. Рабочие возмущались необходимостью переставлять пульт с места на место, в зависимости от того, кто дирижировал оркестром. Рахманинов не потрясал кулаками, не прыгал и не суетился, как это было принято. Каждое его движение было чётким и выверенным. Репортёры не скупились на похвалы. Опера «Евгений Онегин» была названа тонкой и поэтичной, «Князь Игорь» с участием Шаляпина поразил эпическим размахом и богатством оркестрового звучания. «Жизнь за паря», «Пиковая дама», «Борис Годунов» — каждое произведение вызывало бурю восторга.
11 января 1906 года в Большом впервые исполнялись одноактные пьесы «Скупой рыцарь» и «Франческа ди Римини». Зал был полон, несмотря на месяц назад подавленное декабрьское восстание 1905 года. После выступления кто-то спросил Рахманинова, почему партию Скупого и Ланчотто Малатесты исполнял не Шаляпин, а другой артист. Тот в ответ сжал губы и поспешно ретировался. Не объяснять же всем, что Шаляпин, талантливо читавший с листа, поленился выучить предложенные партии, из-за чего друзья серьёзно поссорились на многие годы. А осенью того же года Рахманинов решился на переезд в Дрезден. Прожил в Германии три зимы, совершил большое турне по США и Канаде, а потом понял, что устал от жизни в других странах. Сергей Васильевич купил имение Ивановку в Тамбовской губернии, автомобиль, который сам водил с удовольствием, и поселился вдали от столичной суеты.
Надежды, планы, размеренный уклад — в одночасье жизнь кардинально изменилась. Грянул 1917 год. Решение далось мучительно. Сергей Рахманинов уехал с семьей за границу, чтобы продолжать делать то, что умеет и любит. Он не знал тогда, что это путешествие навсегда отрежет его от родины.
НАВСЕГДА
…Париж встретил Рахманиновых портовой сутолокой и вознёй с документами. Предполагали, что будет трудно, но не понимали до конца, насколько. Ему пришлось учить произведения Штрауса, Шумана, Баха, потому что избалованная европейская публика не воспринимала концерты прославленного русского музыканта, состоявшие только из его собственных сочинений. В 1918 году состоялся переезд в Нью-Йорк. Концертировал Рахманинов очень часто, чтобы заработать денег, и быстро прославился как пианист, что сделало его очень богатым. Довольно скоро Рахманинов купил имение Сенар на берегу Люцернского озера в Швейцарии. Отстроил великолепную набережную, катал друзей на лодке и на автомобиле. Каждый год покупал «Кадиллак» или «Континенталь», а старую машину возвращал дилеру. На концерты по Европе и США теперь он отправлялся за рулём.
В своём саду Рахманинов вырастил удивительную чёрную розу, и вскоре её фотографии появились во всех швейцарских газетах. Но от репортеров он тщательно скрывался. Так же, как и от многочисленных поклонниц, осаждавших его дом до конца жизни. Завсегдатаями у Рахманиновых были знаменитые финансисты. С ними он проводил много времени, советуясь, куда вкладывать деньги. Казалось бы, жизнь в изгнании не обернулась страшным сном. Но отчего-то после выступлений музыкант приходил в артистическую, падал в кресло и просил не беспокоить. Его огромные руки лежали ладонями вверх, подбородком он упирался в грудь, а глаза были закрыты. Каждому, кто заставал его в таком состоянии, хотелось вызывать врача. Но он лишь досадливо махал руками, показывая, что всё в порядке.
Временами его мучали боли в спине, и тогда он впадал в жуткую меланхолию. Спасала терпеливая жена и друзья из России, привозившие подарки, которые композитор очень любил. Поднять настроение изгнаннику могла любая необыкновенная мелочь: ручка, открывавшаяся удивительным образом, машинка для скрепления бумаги, а пылесос вызвал бурю восторга! Эту свою игрушку композитор потом часто демонстрировал в работе.
Сергей Васильевич тратил огромные суммы на благотворительность, пересылал в Россию деньги в поддержку деятелей науки, артистов, писателей. Но в 1931 году стал одним из 110 известных эмигрантов, обратившихся с призывом к госдепартаменту США воздержаться от закупки советских товаров. В знак протеста против мракобесия и террора, что творились на его многострадальной родине. В ответ музыка Рахманинова, которая есть «отражение загнивающего мелкобуржуазного духа, особенно вредного в условиях острой борьбы на музыкальном фронте», перестала звучать в СССР.
Десять лет после отъезда из России Сергей Рахманинов ничего не сочинял. Только концертировал. И чем больше ему аплодировали, тем больше он ненавидел себя. Однажды, закончив выступление под бурные восторженные аплодисменты публики, Рахманинов заперся в гримёрке. Когда дверь отперли, композитор был в горячке: «Не говорите, ничего не говорите… Я сам знаю, что я не музыкант, а сапожник!»
Но исполнитель не заглушил в Рахманинове музыканта. Ноты были его голосом, то рыдающим, то восторженным, то зовущим куда-то, где хорошо и покойно. Он тосковал по утраченной родине, объятой пламенем войны, и всё же надеялся, что когда-нибудь его музыка зазвучит там, где больше нет ему места.
Болезнь стала полнейшей неожиданностью для самого Рахманинова и всех его родных. В середине февраля 1943 года композитор стал совсем плохо себя чувствовать, появилась слабость, начали болеть руки. Его доставили в больницу, но через несколько дней выписали, не найдя ничего серьёзного. Положение больного ухудшалось, и жена решила пригласить домой знаменитого американского хирурга. Тот поставил неутешительный диагноз: быстропрогрессирующий рак. 20 марта Сергей Васильевич не смог прочитать поздравительные телеграммы и письма, приходившие со всего мира в честь его 70-летия. Через 8 дней он умер в своём поместье в Беверли-Хиллз.
Текст: Наталья Оленцова
- 3 Января, 2020
- Искусство
- Евгения Юшкова
Биография Рахманинова Сергея Васильевича, гения музыкального мира, формировалась на рубеже веков. С одной стороны, это время социальных потрясений, войн и революций. С другой – период великих открытий и больших достижений, появления на исторической арене выдающихся личностей, талантливых ученых, политиков, экономистов. Стремительными темпами развивалось русское искусство: литература, живопись, музыка.
Рахманинов. Детство и юность
Сергей Рахманинов был уроженцем Новгородской губернии. Он появился на свет 20 марта 1873 года. Его родовым гнездом стало имение Онег, принадлежавшее его матери Любови Петровне. С первых дней он был окружен музыкой, народными напевами, звоном новгородских колоколов. Семья была очень музыкальной. Дед Аркадий Александрович, бравший уроки фортепианной музыки у Джона Фильда, сочинял салонные романсы. Весьма одаренным был и его сын Василий, отец будущего гениального пианиста.
Музыкальные способности у малыша проявились очень рано. Первые уроки музыки для Сережи проводила его мама. В будущем Рахманинов признается, что они ему не приносили большого удовольствия. Тем не менее, к своим четырем годам он свободно мог исполнять пьесы в четыре руки вместе со своим дедушкой.
Способности маленького Сергея были действительно выдающимися, их нужно было развивать. Семья перебралась в Санкт-Петербург, где мальчик стал учеником младшего фортепианного класса консерватории. Восьмилетний Рахманинов не проявлял большого рвения к учебе здесь. Ему явно было скучно, он не видел возможностей для развития. И через 3 года семья приняла решение направить сына в Москву.
В столичной консерватории его педагогом становится Николай Зверев – опытный и талантливый наставник. Именно здесь 13-летнего Сергея Рахманинова услышал Петр Ильич Чайковский, предсказавший ему блестящее будущее. Вдохновленный Сергей становится одним из самых успешных учеников консерватории, стипендиатом имени Н.Г. Рубинштейна.
В 18 лет он получил золотую медаль за отличное окончание консерватории по классу фортепиано, а еще через год блестяще завершил образование по специальности сочинение. Итогом его обучения в Московской консерватории стало получение большой золотой медали за особые заслуги исполнителя и композитора.
Женитьба Рахманинова на девушке N 3 и дочь не от жены
Третьей любовью Рахманинова была Наталья Сатина. Она же и стала первой женой. Он познакомился с ней еще в пору своего первого приезда в Москву. Учеба его в Петербургской консерватории не устраивала, и Рахманинов сменил ее на Московскую. Приехав в Москву надо же было где-то жить. Рахманинов с разрешения семьи Сатиных устраивается у них.
Наталья Сатина в молодости (справа)
Сергей Рахманинов сделал Наталья Сатиной предложения от которого ей было трудно отказаться – стать его женой. Это было весной 1902 года. Она с дуру согласилась и обрекла себя на трудную судьбу. Этому человеку перед выступлениями на концертах придется ей застегивать его концертные ботинки, потому что Сергей Васильевич, ах боже ш ты мой, может не дай бог поранить себе руки. Никому другому свои руки Сергей Рахманинов не доверял.
Наталья Сатина окончила незадолго до этого московскую консерваторию по классу фортепьяно. Их свадьба была в Москве в конце апреля. Пробыв часть лета в Вене и в Италии – свадебное путешествие, а остальную часть – в Ивановке, Сергей с Натальей осенью возвращаются в Москву.
Дебют молодого композитора, пианиста, дирижера
Сочинять он начал еще в студенческие годы. И вся биография Рахманинова отныне будет связана с музыкальным творчеством и поиском новых форм. Самая значительная вещь этого периода – дипломный проект композитора, небольшая опера «Алеко». Одноактное произведение было навеяно поэмой великого Пушкина «Цыганы». Работа над ним завершилась в рекордно короткий срок: всего за 17 дней. Экзаменационная комиссия была в восторге. Молодой сочинитель получил высший балл, а проникшийся его творчеством Чайковский поставил «пятерку» с несколькими плюсами.
Опера была рекомендована к постановке на сцене Большого театра. Премьера 27 апреля 1893 года имела ошеломляющий успех. Это не была работа вчерашнего студента. Ее восприняли как опус величайшего мастера. Партитура дышала молодостью и страстью, была наполнена эмоциями и драматизмом, разнообразием музыкальных рисунков. Особенной была оценка Чайковского. Позже он напишет брату, что эта прелестная вещь ему очень понравилась.
На гребне первых успехов молодой композитор представляет на суд публики еще несколько сочинений. Звучит симфоническая фантазия «Утес», радуют слух «Музыкальные моменты», появляется «Первая сюита для двух фортепиано», и ставшая любимой для многих поклонников его творчества до-диез минорная прелюдия.
Проявляется и его талант романсного композитора. В музыкальных салонах звучат его «Не пой, красавица, при мне», «В молчанье ночи тайной», «Весенние воды». Он становится любим, известен, популярен.
Творческая биография Сергея Васильевича Рахманинова наполнена яркими взлетами и переливами разных граней его таланта. Но все это еще впереди, а пока 20-летний юноша становится преподавателем фортепиано Московского женского училища.
Также творческая биография композитора Рахманинова обогащается дирижерским успехом. В 24 года он работает в Московской частной опере Саввы Мамонтова. Всего за один сезон он сумел вдохнуть жизнь в этот жанр и поднять его на новые высоты.
Взлеты и падения
Жизнь любого талантливого человека наполнена не только радостями творчества и аплодисментами поклонников. Вот и в биографии композитора Рахманинова случались непредвиденные ситуации. Неудачной оказалась премьера его «Первой симфонии». Причины крылись в нескольких моментах. Во-первых, недостаток опыта начинающего дирижера А. Глазунова не позволил тому успешно справиться с оркестром. Во-вторых, необычность и новизна музыкального материала внесла некую растерянность в ряды оркестрантов.
Рахманинов очень сильно переживал поражение. За 4 года, последовавших за неудачным концертом, он не написал ни строчки. Зато это время он использовал для оттачивания исполнительского мастерства. Рахманинов едет за границу, дает концерты в Англии и Италии. В этот период судьба дарит ему возможность аккомпанировать самому Федору Шаляпину. В творческой биографии Сергея Рахманинова начинается новый виток.
Новый этап в жизни
Следующий успешный период творческой биографии Рахманинова ознаменовался появлением «Второго концерта для фортепиано с оркестром». Это произведение зрителю подарил сам автор, исполнив его с оркестром дирижера А. Зилоти. «Концерт» обрел невероятную популярность, вошел в репертуар лучших исполнителей фортепианной музыки. Автор был награжден Глинкинской премией.
Следующие годы жизни композитора буквально до краев наполнены музыкой и творчеством. Слушателям он дарит проникновенную «Сонату для виолончели и фортепиано» и жизнерадостную кантату «Весна». И вновь талантливый композитор становится лауреатом Глинкинской премии.
Новым опытом становится для Сергея Рахманинова работа в Большом театре. В течение двух сезонов он служит в качестве дирижера и руководителя репертуара. В это время зрителей ожидают премьеры его опер «Скупой рыцарь» и «Франческа да Рамини». Они не произвели большого впечатления на искушенную публику, но шли довольно успешно в течение двух лет. Не завершив третью оперу «Монна Ванна», Рахманинов принимает решение отправиться в путешествие за границу. В 1906 году он отбывает на Апеннины, дальше в Германию, где живет и пишет в течение трех последующих лет.
На пути к новым свершениям
Только в 1900 году композитор закончил Второй фортепианный концерт, ознаменовавший начало нового периода его творчества. В 1901 году это произведение прозвучало в Москве в авторском исполнении вместе с оркестром под руководством А. Зилоти. Второй концерт моментально обрел большую популярность и стал неотъемлемой частью репертуара лучших пианистов мира. Позднее фрагменты произведения будут неоднократно звучать в различных кинофильмах. Сразу после этого Рахманинов пишет Сонату для виолончели и фортепиано, которая оказалась наполнена поэтически-взволнованным тоном. Распевные темы произведения поражают эмоциональной насыщенностью и необыкновенной полнотой звучания.
Всеобщее признание композиторского гения Рахманинова привело его на сцену Большого театра, где он служил на протяжении двух сезонов. В этот период он написал две одноактовые оперы «Скупой рыцарь» и «Франческо де Римини», которые, правда, не снискали большой славы в отличие от «Алеко». Еще одна опера «Монна Ванна» так и осталась незаконченной. В 1906 году Сергей Васильевич отправился в путешествие на Апеннины, а затем переехал в Германию и три года прожил в Дрездене.
В 1909 году Рахманинов написал Третий фортепианный концерт, который не уступает по мелодизму и свежести вдохновения Второму концерту, превосходит его в зрелости и твердости мысли. По мнению Асафьева, именно с этого произведения начинает складываться «титанический стиль рахманиновской фортепианности». Вскоре он отправляется на гастроли за океан, а возвратившись, получает должность инспектора русской музыки.
Произведения 1909-1917
В 1909 году в богатой творческой биографии композитора Сергея Рахманинова появляется «Третий фортепианный концерт». Это произведение совсем зрелого автора. Напор и мелодичность предыдущего фортепианного концерта здесь дополняет новый уровень мастерства композитора. В этом опусе слышны ноты дерзости, уверенности, твердости. Рахманинов снова отправляется в заграничное турне, а вернувшись, получает приглашение занять пост инспектора русской музыки.
Автора вдохновляет хоровое пение. Он создает музыкальные формы «Литургия св. Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». Он признается своему коллеге по Московской консерватории, что давно не писал ничего с таким удовольствием.
Осенью 1910 года состоялось премьерное выступление Синодального хора с этими произведениями композитора. И вновь его ждал успех.
Однажды Сергей Рахманинов получил письмо. К нему был приложен текст одного из стихотворений Эдгара По в переводе К. Бальмонта. Автор послания, пожелавший остаться неизвестным, высказывал предположение, что поэтический текст может очень удачно лечь на рахманиновскую музыку. Сергей Васильевич с присущим ему энтузиазмом берется сочинять. В итоге на свет появляется музыкальная поэма «Колокола» — произведение монументальное и грандиозное.
Этот период творческой биографии Рахманинова также наполнен написанием романсов. Звучат его «Сирень», «Маргаритки», «Здесь хорошо». Большая часть романсов адресована прекрасным дамам. Несколько сочинений этого жанра Сергей Рахманинов посвятил известной исполнительнице Нине Кошиц, к которой питал нежные чувства. Часто на концертах они выступали вместе.
Романсов в творческом багаже композитора более 80. Все они созданы на родине. После отъезда за границу он больше не напишет ни одного.
Жизнь в эмиграции
Крутой поворот биография Сергея Рахманинова делает после революционных событий 1917 года. Он уезжает на гастроли в скандинавские страны и больше не возвращается в Россию. Такое решение далось нелегко. На Родине остались его корни, духовная связь с которыми была сильна, его коллеги и друзья, благодарная публика. Позже он скажет, что уехав из страны потерял желание сочинять. Лишившись Родины, он потерял сам себя…
Через год семья Рахманиновых переезжает в Америку, где и остается. Глава семейства выступает в качестве исполнителя. Играет свои произведения и сочинения других авторов: Листа, Шопена, Шумана, Чайковского. Такого грандиозного успеха в Америке до него не добивался ни один иностранец. Пианист Сергей Рахманинов был кумиром тысяч ценителей классической музыки. Он отыграл 25 концертных сезонов. Публике нравилось в нем все: манера исполнения, виртуозность игры, внешняя непритязательность, скрывавшая в себе гениальность. Для американцев Рахманинов и сегодня – великий американский пианист.
Он получает приглашение дирижировать симфоническим оркестром Бостона и оркестром в городе Цинцинатти. Но в этом качестве на сцену выходит редко, исполняя лишь свои произведения. В это время он очень занят концертной деятельностью и практически ничего не создает.
Его «Четвертый концерт для фортепиано» увидел свет в 1927 году. Через 7 лет была написана «Рапсодия на тему Паганини». Это объемное музыкальное полотно, включающее в себя 24 вариации на «Каприсы» знаменитого итальянского композитора. Произведение исполняется без перерыва, хотя тематически в нем выделяется три части.
В годы Великой Отечественной войны Рахманинов дал несколько концертов, сбор от которых отправил на нужды Советской Армии. Он верил в победу русского народа и никогда не забывал о родине. Свое последнее музыкальное творение Сергей Рахманинов написал в 1941 году. Это были «Симфонические танцы». В них угадываются ностальгические нотки, слышится трагизм и тоска по родине. Многие критики считают это сочинение вершиной творчества композитора.
До последних дней, борясь с неизлечимой болезнью, Рахманинов ведет концертную деятельность. В середине января 1943 года он с присущим ему вдохновением исполняет «Первый концерт» Бетховена, а 28 марта этого же года его не стало. Похоронен талантливый русский музыкант на кладбище Кенсико близ Беверли-Хиллз.
История жизни великого пианиста
До недавнего времени местом рождения музыканта было принято считать имение Онег, расположенное поблизости Новгорода, но последняя информация свидетельствует что, вероятнее всего, это была усадьба Семёново Старорусского уезда. Родоначальником дворянского рода Рахманиновых, согласно легенде, является внук самого Стефана Великого, знаменитого молдавского правителя.
Отец композитора, Василий Аркадьевич, родился в семье тамбовских дворян. Он был музыкантом-любителем. Его отец Аркадий, приходившийся Сергею дедом, был профессиональным пианистом, давал концерты в городах России и даже учился игре на фортепиано у самого Джона Филда. Сохранилось несколько музыкальных произведений его сочинения.
Мать Сергея была дочерью генерала П. И. Бутакова из Аракчеевского кадетского корпуса и тоже неплохо играла на фортепиано. Именно она была первым преподавателем мальчика, а затем его обучала А. И. Орнатская. Можно сказать, музыкальный дар был передан С. В. Рахманинову по наследству от родителей. Его творческий путь берёт начало с самых ранних лет.
В 1882 году композитор поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию на младшее отделение к профессору В. В. Демянскому. Но дела шли не очень хорошо, поскольку мальчик часто прогуливал. В 1885 году было принято решение отдать его на обучение в Москву и поселить в пансионе известного педагога Н. С. Зверева, где в своё время проживали известные пианисты М. Л. Пресман, А. И. Зилоти, Ф. Ф. Кенеман, К. Н. Игумнов. Сергей поступил на третий курс Московской консерватории в класс профессора Зверева.
Пансион, в котором будущий композитор проживал четыре следующих года, был заведением с повышенным уровнем дисциплины. Музыкальным занятиям нужно было уделять не менее шести часов в день, помимо этого, следовало в обязательном порядке музицировать в ансамбле и посещать оперу. В 13 лет мальчик познакомился здесь с П. И. Чайковским.
В 1888 году Рахманинов поссорился с хозяином пансиона Зверевым из-за разногласий по вопросам композиции, после чего ему пришлось покинуть это заведение. Но из Москвы он уезжать не стал, а продолжил жить у родственников Сатиных, чья дочь, тоже пианистка, впоследствии стала ему женой. Он поступил на старшее отделение в класс А. И. Зилоти, своего двоюродного брата.
Когда Рахманинову исполнилось 19 лет, он выпустился из консерватории с золотой медалью. Уже в процессе своего обучения он успел обрести известность в Москве в качестве пианиста и композитора. Первый фортепианный концерт он сочинил как раз в консерватории. Другое известное произведение Рахманинова, написанное им в годы учёбы, — это Прелюдия до-диез минор (op.3 № 2). В придачу к ним он сочинил ещё несколько романсов и пьес.
Его дипломная работа, опера «Алеко», созданная по мотивам поэмы Пушкина «Цыганы», пришлась по душе П. И. Чайковскому. По его просьбе её сыграли в Большом театре. Если бы Пётр Ильич внезапно не скончался, её бы, скорее всего, даже включили в театральный репертуар вместе с «Иолантой».
Профессиональная деятельность в России
В 20 лет начинающий композитор начал преподавать поочерёдно в Мариинском, Елизаветинском и Екатерининском женских институтах. Кроме того, он занимался частным репетиторством, хотя и не слишком любил это. Когда ему стукнуло 24 года, Савва Мамонтов пригласил его дирижировать в Московскую частную оперу. За один сезон пребывания в этом заведении он сумел крайне плодотворно поработать, прославиться как дирижёр и даже подружиться с Фёдором Шаляпиным.
Большое разочарование ждало Рахманинова 15 марта 1897 года. Его Первая симфония под дирижированием А. К. Глазунова оказалась провалена. Дело было как в неопытности дирижёра, так и в неподготовленности музыки к умам слушателей. Негативные отзывы писали даже Н. А. Римский-Корсаков и Цезарь Кюи. Это сильно повлияло на веру композитора в свои способности и ввело его в трёхгодовую депрессию, из которой ему удалось выйти только благодаря Н. В. Далю. Ему он посвятил своё следующее крупное произведение.
В 1900 г. музыкант совершил путешествие в Италию. 1901 год стал знаковым благодаря выходу Второго фортепианного концерта. Некоторое время спустя Рахманинова пригласили на место дирижёра в Большой театр. Там он пробыл два сезона, в течение которых на его плечах лежал весь русский оперный репертуар. Но вскоре Сергей Васильевич понял, что хочет освободить это время для композиторства, поэтому покинул театр. 29 апреля 1902 года Рахманинов женился на Наталье Сатиной, своей кузине. Впоследствии у них появилось двое детей, Ирина и Татьяна.
В 1906 по 1909 года композитор жил в Дрездене. Это стал один из самых продуктивных этапов в его карьере. 1909 год был ознаменован целой чередой концертов на территориях Америки и Канады, а также выходом в свет Третьего фортепианного концерта. Спустя 2 года, когда Рахманинов пребывал в Киеве, его друг А. В. Оссовский попросил его оценить способности своей подопечной Ксении Держинской, начинающей оперной певицы. Во многом благодаря вмешательству Рахманинова она стала впоследствии известна.
В 1917 году, когда в России прогремела революция, композитору пришло приглашение выступить на концерте в Стокгольме. Рахманинов решил, что почему бы им и не воспользоваться. Вслед за этим он покинул Россию вместе с женой и дочерьми, почти не имея при себе никаких вещей и средств к существованию.
Эмиграция в Европу и США
Чтобы заработать хоть какие-то средства на жизнь, Рахманинов очень много тренировался и выступал. В середине февраля он появился в Копенгагене, сыграв свой Второй фортепианный концерт. Дирижёром был Георг Хёэберг. К концу зимы музыканту удалось принять участие в одиннадцати концертах и погасить все долги, которые у него имелись на тот момент.
1 ноября музыкант отправился в Нью-Йорк и сразу же стал там выступать. Его исполнительская активность, начатая в Европе, не снижалась. За один сезон он давал несколько десятков концертов. Популярность композитора стремительно росла, от папарацци и репортёров порой не было никакого спасу. Во время одного из концертных турне он жил не в гостинице, а в личном вагоне, чтобы спастись от их внимания.
Очень долго из-под руки Рахманинова не выходило значимых произведений. Только в 1926 году он закончил свой Четвёртый фортепианный концерт и написал три песни на русском языке. Находясь в эмиграции, Рахманинов выпустил лишь шесть творений, но столь малое количество с лихвой компенсировалось качеством. Впоследствии эти произведения обрели мировое признание.
По мнению многих, в том числе и самого Рахманинова, подобный кризис был тесно связан с его тоской по родине. «Уехав из России, я потерял желание сочинять», — его прямая цитата. Тоска была настолько сильна, что композитор практически не имел друзей среди иностранцев. Исключением был Фредерик Стейнвей, стоявший во главе известной фирмы, производящей фортепиано.
Впоследствии музыкант отказался от гражданства США. По рассказам современников, застать его в хорошем расположении духа можно было только в моменты общения с соотечественниками.
В течение жизни за рубежом (1918—1943) Рахманинов создал всего 6 творений, которые, однако, принадлежат к вершинам русской и мировой музыки.
1930—1940 годах музыкант часто посещает Швейцарию и даже строит там свою виллу с видом на гору Пилатус и Фирвальдшетское озеро. Она была названа «Сенар» (по первым слогам имен супругов Рахманиновых) и обустроена в русском стиле, для чего там даже высадили несколько берёз. В 1940 году композитор сочиняет своё последнее произведение — «Симфонические танцы».
Несмотря на нелюбовь Рахманинова к советской власти, он очень тяжело переживал известие о начале Великой Отечественной войны. Один из своих гонораров, сумму около 4 тысяч долларов, он передал в поддержку советской армии. Многие его коллеги поступили таким же образом.
28 марта 1943 года, не дожив три дня до своего юбилея, Рахманинов умер. Причиной его смерти, скорее всего, стало излишнее курение, из-за которого у него развилась раковая опухоль. В завещании он попросил похоронить его в Нью-Йорке вместе с женой и дочерью. Он был похоронен на кладбище Кенсико, его могила и поныне находится там. В Новгороде ему установили памятник.
Хронологическая таблица
Краткое содержание биографии пианиста покажет хронологическая таблица его жизненного пути.
Она придётся как нельзя кстати тем, у кого есть желание бегло ознакомиться с основными вехами его жизни.
| Год | Событие |
| 1873 | Дата рождения великого композитора |
| 1882 | Поступление в Петербургскую консерваторию |
| 1885 | Перевод в Московскую консерваторию |
| 1891 | Окончание консерватории в качестве пианиста |
| 1891 | Написание Первого фортепианного концерта |
| 1892 | Окончание консерватории в качестве композитора |
| 1892, январь | Рахманинов начинает выступать |
| 1892 | Завершение дипломной работы, оперы «Алеко» |
| 1893 | Посвящение Римскому-Корсакову симфонической поэмы «Утёс» |
| 1895 | Написание Симфонии № 1 |
| 1898—1900 | Многочисленные выступления совместно с Шаляпиным |
| 1899 | Первый концерт за границей (в Лондоне) |
| 1901 | Написание Второго фортепианного концерта |
| 1902 | Венчание с Натальей Сатиной |
| 1903 | Рождение старшей дочери Ирины |
| 1904—1906 | Дирижёрство в Большом театре, написание двух опер |
| 1906—1909 | Пребывание в Дрездене |
| 1907 | Написание Симфонии № 2 |
| 1909 | Написание Третьего фортепианного концерта, гастроли в США |
| 1910—1911 | Турне по Англии и Германии |
| 1910—1920 | Сосредоточенность на крупных хоровых формах |
| 1917 | Композитор безвозвратно уезжает из России |
| 1918 | Начало жизни в Америке |
| 1941 | «Симфонические танцы» |
| 1943 | Дата смерти композитора |
Личная жизнь музыканта
В биографии Сергея Рахманинова женщины занимали почетное второе место после музыки. Он любил и ценил женскую красоту, обаяние и нежность. Рядом с ним всегда были утонченные, художественно одаренные леди. Им он посвящал свои романсы, для них исполнял музыкальные произведения, красиво ухаживал.
Первой любовью композитора стала Вера Скалон, дальняя родственница семейства Рахманиновых. Они познакомились в имении тетки музыканта и сразу понравились друг другу. Эта была чистая детская любовь. Ей Сергей Рахманинов посвятил романс на стихи Афанасия Фета «В молчанье ночи тайной», «Романс для виолончели и фортепиано» и вторую часть «Первого фортепианного концерта». После отъезда в столицу влюбленный юноша писал письма. Более сотни таких посланий девушка сожгла накануне своей свадьбы с другом детства.
После непродолжительных страданий из-за потери любимой девушки молодой Рахманинов безумно влюбляется в жену своего товарища Петра Лодыженского Анну, черноглазую красавицу цыганских кровей. Для нее он сочиняет страстный романс «О нет, молю, не уходи». Эта страсть не могла быть взаимной. Анна была верной и преданной супругой.
Двадцатилетним юношей Рахманинов увлекся Натальей Сатиной, которую знал с детства и поначалу воспринимал как друга. Ей он подарил романс «Не пой, красавица, при мне» и предложил руку и сердце. Весной 1902 года они стали супругами. Через год в молодой семье появилась дочь Ирина, а в 1907 – Татьяна.
В творческой среде ходило много слухов о романах композитора. Это и понятно. Высокий, красивый, всегда элегантный без лишних деталей, Рахманинов всегда был в центре внимания представительниц прекрасного пола. Он был романтичен, легко увлекался, дарил своим обожательницам талант и романсы, но до последних дней рядом с ним оставалась его главная муза – любимая и любящая жена. Она сопровождала его на гастролях, следила за его здоровьем, душевным состоянием, посвятила ему себя без остатка. Именно ее музыкант называл «добрым гением всей его жизни».
Сергей Рахманинов. Музы его вдохновения
Был у Рахманинова в начале 90-х годов 19 века друг-приятель Петр Лодыженский (тоже композитор, но не знаменитый), которому Сергей Васильевич посвятил свое «Цыганское каприччио» для симфонического оркестра. А у Петра Лодыженского была свояченица, знаменитая цыганская певица Надежда Александровна,с которой Рахманинов дружил. По его настойчивым просьбам она часто пела ему таборные цыганские песни, приводившие его в восторг. Но это лишь присказка. А в «сказке» самый главный персонаж — Анна Александровна, сестра знаменитой цыганской певицы,жена Петра Лодыженского.
И восемнадцатилетний Сергей Рахманинов безоглядно влюбляется в жену своего друга и посвящает этой кроткой и ласковой женщине с огромными черными глазами свой романс «О нет, молю, не уходи!»
Однако при самом нежном отношении Рахманинова к Анне Лодыженской сердце его не сгорало без оглядки любовным огнем — его первая любовь шла «параллельным курсом», а звали ее Верочка Скалон.
Свидетельством этой первой любви Рахманинова служат 100 (сто!) любовных писем Рахманинова к не и трагическая судьба этих любовных посланий. Три сестры Скалон впервые встретились с Рахманиновым — семнадцатилетним студентом Консерватории — в Ивановке (Тамбовская губерния) летом 1890 года. О событиях июня-июля того года, вернее, о том, что происходило с одной из трех сестер Скалон — Верочкой, которую Сергей Васильевич окрестил «моя Психопатушка», рассказала в своем дневнике тех дней сама Верочка Скалон. Вот фрагменты из ее дневника: 20 июня: «Господи! Что со мной?! Уж не схожу ли я с ума? Неужели это — любовь? Боже, как все странно. Я знаю одно… Я люблю его!» 28 июня: «Мне грустно и досадно… Я начинаю бояться, что Сергей Васильевич ко мне совсем равнодушен. О, это было бы ужасно! Неужели это любовь?! Но ведь тогда это — одно мученье! Господи, помоги мне!. » 9 июля. «Боже, что я почувствовала, когда он вдруг ласково прошептал: «Ах, с какой радостью я увез бы мою Психопатушку на край света!.. » Сердце мое забилось так сильно, что я чуть не задохнулась… Мои мучения кончились! У меня с сегодняшнего дня на сердце — рай! Он меня любит!» Ну, разве же можно не загореться, если тебя беззаветно любит юное прекрасное и доброе существо? И Сергей почувствовал сердечное пламя юной подруги — ответил ей взаимностью. Своей милой «Психопатушке» он посвятил в то изумительное для них лето в Ивановке созданный там же романс «В молчанье ночи тайной» (на стихи А. Фета). Слова и музыка этого романса были столь интимны и откровенны, что уже целое столетие они зажигают души многих людей. Но, увы, сердечный пожар Сергея Рахманинова погас уже через два года — он увлекся другой «девой сердца». Верочка так и не смогла разлюбить Сережу (до смертного своего часа, который в ее судьбе пробил прискорбно рано,в 1909-м году, когда ей только-только исполнилось 34 года). А за десять лет до своей непредвиденной кончины, в 1899 году, выйдя, по настоянию родителей,замуж за друга рахманиновского детства Сергея Толбузина, Верочка сожгла все сто писем к ней от Сергея Рахманинова, которые она дотоле хранила как неоценимую драгоценность. Эти сто любовных писем кумира ее души и сердца, Сергея Рахманинова, унесли тайну ее любви и не столь долгой его взаимности.
…Шел 1893 год.
На стихотворение Пушкина «Не пой, красавица, при мне», дышащее страстно выраженной любовной тоской, Сергей Рахманинов написал изумительный романс, который, будучи услышан хоть раз, остается с человеком навсегда.
20-летний композитор посвятил его Наташе Сатиной — она была его двоюродной сестрой. 21 апреля 1902 года Сергей Васильевич выехал из Ивановки в Москву, а уже через неделю… О том, что произошло через неделю, десятки тысяч людей впервые узнали лишь через 72 года,в 1974 году (когда Рахманинова уже не было в живых) из опубликованных воспоминаний Наташи Сатиной,ставшей женой Рахманинова. Вот фрагмент из воспоминаний Натальи Александровны:
«Мы венчались на окраине Москвы 29 апреля 1902 года в церкви какого-то полка.Я ехала в карете в венчальном платье, дождь лил как из ведра;в церковь можно было войти, только пройдя длиннющие казармы. На нарах лежали солдаты и с удивлением смотрели на нас. После венчания мы быстро переоделись, проехали прямо на вокзал и взяли билеты на Вену». Почему же потомственный дворянин Сергей Рахманинов венчался с девицей Наташей, дочерью статского советника,как Ромео и Джульетта, тайно в церквушке 6-го гренадерского Таврического полка? Романтика юности? Но ведь Наташе было уже 25 лет, а Сергею — 29! Дело в том, что влюбленные очень спешили: они боялись, что венчание и свадьба могут сорваться:ведь Наташа была двоюродной сестрой Сергея, а на брак родственников требовалось по тем временам личное разрешение государя-императора России. Прошение было послано, но жених и невеста не стали дожидаться ответа от царя — и рискнули,несмотря на угрозу больших неприятностей. Значит, пылала факелом кровь, а любовь сжигала все страхи?!. Людмила Ростовцова, дальняя родственница Сергея Рахманинова, сестра уже известной читателю Верочки Скалон,писала полвека спустя: «Сережа женится на Наташе. Лучшей жены он не мог себе выбрать. Она любила его с детских лет, можно сказать, выстрадала его. Она была умна, музыкальна и очень содержательна. Мы радовались за Сережу, зная, в какие надежные руки он попадает…» Сергей Васильевич «завизировал» эту характеристику его жены (хотя он не читал того письма:если Пушкин называл свою жену Натали, «чистейшей прелести чистейший образец»,то Рахманинов именовал свою Натали «добрый гений всей моей жизни». За 25 лет творчества в России (с 1891-го по 1971-й) Сергей Рахманинов написал более восьмидесяти романсов,а за последующие четверть века за границей (с 1917-го по 1943-й — год кончины) он не создал ни одного. Почему? Трудный вопрос.Из 80 романсов Рахманинова, собранных в трехтомном каталоге, шестьдесят шесть имеют точный адрес -посвящение кому-то. Только тринадцать романсов Рахманинов не имеют посвящения. И среди всех 80 романсов особняком стоит один-единственный, самый загадочный романс Рахманинова «Здесь хорошо»,посвященный таинственной и до сих пор не разгаданной «Н». Какие причины заставили Рахманинова намертво зашифровать адресата посвящения одного из самых светлых,самых весенних по настроению своих творений? Написан этот романс на стихи поэта Галины Галиной (настоящее имя ее — Глафира Адольфовна Эйнерлинг, 1873-1942). Читая посвящения на автографах романсов Рахманинова, невольно замечаешь, какие же разные и яркие женщины боготворили Сергея Васильевича Рахманинова — и как музыканта, композитора, и как человека. В тот судьбоносный для Рахманинова апрель 1902 года, чуть ли не в один и тот же день, с негромким,но завораживающим душу слушателя гимном любви «Здесь хорошо» возник, как будто по глубинному контрасту,романс «Пред иконой» — о трогательной, пылкой, сжигающей душу безответной любви прекрасной девушки,достойной поклонения. И здесь вышло по афоризму самого Рахманинова: «Красивая женщина — источник вечного вдохновения»: Невыразимая безысходность звучит в этих строках, особенно в двух последних:даже сам Христос Спаситель не в силах помочь несчастной девице, сгорающей, как свечечка, от неразделенной любви. Романс этот (на стихи Голенищева-Кутзова) Рахманинов посвятил Марине Ивановой (Маше) -служанке в семье Рахманиновых. Она была дочерью кухарки, служившей в имении Сатиных. Когда же Сергей Васильевич женился на Наташе Сатиной, Марина (Маша) перешла на службу к Рахманиновым. Она была способная, умная, много читала, посещала театры, концерты, хорошо знала имена и произведения лучших композиторов. Но выше всех на свете ставила Сергея Васильевича — преданности и любви ее к нему не было границ. Рахманинов сам души не чаял в Маше, но не более: ведь сердцу не прикажешь. Трагедию же ее любви к нему он осознавал, и доказательством этому служит романс «Пред иконой»,который он и посвятил Маше. Другому своему большому другу, очаровательной княжне Александре Ливен Рахманинов посвятил, написанный одновременно с романсом «Пред иконой» романс «Отрывок из Мюссе» (Альфред Мюссе — французский поэт (1810-1857). В апреле 1915 года Сергей Рахманинов написал «Вокализ» — чудеснейший романс без слов — и посвятил его несравненной Антонине Неждановой.
И после этого композитор умолк… Наступила жестокая депрессия, обострившаяся из-за кончины его дорогого старшего друга Сергея Ивановича Танеева. Почти полтора года Рахманинов не садился за рояль. Летом 1916 года он пишет Александру Гольденвейзеру: «У меня ужасное настроение.Тоска… Тоска! Дошел до той точки, когда ни с работой, ни с собой совладать уже не мог». И вдруг через несколько недель после этих горьких, мучительных признаний — взрыв творческой активности! С 12 сентября 1916 года всего лишь за две с половиной недели Сергей Васильевич создает цикл прелестнейших романсов с совершенно новым музыкальным содержанием. Теперь, в дождливые сентябрьские дни 1916 года в душе Рахманинова расцвел радостный май. И глаза Сергея Васильевича останавливаются на стихах Валерия Брюсова, звенящих восторженным поклонением женщине:
Ты — Женщина. И этим ты права, От века убрана короной звездною, Ты в наших безднах — образ божества! Мы для тебя влечем ярем железный, Тебе мы служим, тверди гор дробя, И молимся от века — на тебя!
Депрессии как не бывало! Какая же небесная сила наслала на Рахманинова эту очищающую, весеннюю, солнечную грозу?! А случилось вот что: во второй половине июня 1916 года Сергею Васильевичу в номер гостиницы «Россия»в Кисловодске посыльный доставил роскошнейший букет роз с приколотой к нему запиской от молодой певицы Нины Кошиц. И в музыкальной душе Рахманинова мгновенно зазвенел когда-то слышанный им голос ее — сопрано удивительно глубокого и свежего тембра, с легкостью и невыразимой красотой звучавший в широчайшем диапазоне. В памяти его мгновенно встали во всем великолепии два сольных концерта обворожительной, веселой, шаловливой певицы, на одном из которых она пела его, Рахманинова, романсы — под его же аккомпанемент! И для него «воскресли вновь и жизнь, и слезы, и… любовь»?! Сергей Рахманинов жгуче почувствовал, что его «руки тянутся к перу (композиторскому), перо — к бумаге!» Он понял: чтобы дать выход нахлынувшим мыслям и творческим помыслам, нужно немедленно уехать туда,где всегда легко и быстро пишется, — в Ивановку! И уже первого сентября из Ивановки летит очередное письмо к Нине Кошиц: «Много-ува-жаемая Нина Пав-лов-на!.. Или, милая Ниночка. Нинушка!» И далее в письме — развернутый план целого цикла концертов с Ниной Кошиц, и в них она (под его аккомпанемент!)будет петь специально для нее отобранные Сергеем Васильевичем романсы, а главное — те шесть романсов,которые он — для нее! — уже творит в порыве страстного вдохновения две с половиной недели.
Вот эти: «Ночью в саду у меня» на стихи Исаакяна в переводе Александра Блока; «К ней» на стихи Андрея Белого; «Маргаритки» на стихи Игоря Северянина; «Крысолов» на стихи Валерия Брюсова; «Сон» Федора Сологуба, «Ау» Константина Бальмонта. И весь этот цикл, все шесть романсов Рахманинов посвятил — ну, конечно же, Ниночке Кошиц, Нинульке!.. В октябре 1916 года Москву взбудоражили два первых блестящих, прошедших с ошеломляющим успехом сольных концерта Нины Кошиц с аккомпанировавшим ей Рахманиновым. А потом последовали искрящиеся радостью и вдохновением их концерты в Петербурге, Киеве, Харькове… Попробуйте, читатель, представить себе заполненный до отказа блестящей публикой огромный концертный зал,со сцены которого ослепительная красавица 22 лет своим роскошным сопрано рассказывает миру о взаимной любви языком посвященного ей романса со сказочным названием «Крысолов», автор которого за роялем с напряжением вторит завораживающему голосу певицы.А с ее прелестных, зовущих губ льются слова: В час, когда уснет земля, Встречу гостью дорогую, Вплоть до утра зацелую Сердце лаской утоля… Романсы для концертов с Ниной Кошиц выбирал ведь сам Рахманинов, лично! И уж конечно, выбор был целенаправленным и откровенно интимным. Шесть романсов, посвященных Нине Кошиц, свою лебединую песню, спел Рахманинов с ней, с Ниночкой, в России. Шесть самых последних в жизни. И в этой «лебединой песне» Сергей Васильевич распрощался и со своей последней любовью (так получилось). И на память Рахманинов подарил Ниночке Кошиц тетрадь с эскизами своих вокальных жемчужин. Он собирался преподнести ей еще один бесценный подарок — прелестнейшие «этюды-картины» для фортепьяно,но вовремя опомнился: в обществе назревал «вкусный скандальчик» (нашу творческую интеллигенцию хлебом не корми — дай только вдосталь наглотаться сплетен): Сергей Васильевич настойчиво проявлял на публике признаки влюбленности в Нину Кошиц,что было мгновенно раздуто в пересуды и сплетни, которые оставили след даже в дневниках,письмах и воспоминаниях некоторых современников. Иные из них, так называемые мемуаристы, называют эпистолярные отголоски тех событий «легендой» -вроде бы в оправдание некой «слабости Рахманинова». А по-моему, надо благодарить Судьбу за то, что она подарила талантливой певице Нине Кошиц и гениальному композитору и пианисту Сергею Рахманинову светлые, наполненные радостью творчества часы и дни, когда Рахманинов сумел создать и спеть (!) свою финальную красивейшую романсовую песню. Ведь не явись его Нина, Ниночка, Нинушка — не было бы этого чуда. После головокружительного концертного турне с Ниной Кошиц за все оставшиеся 26 лет жизни Рахманинова (с 1917 по 1943 год) он не создал ни одного романса. Нина оказалась последней в его жизни женщиной — источником бурного и плодотворного вдохновенья. И ещё о личной жизни Рахманинова. Его родной внук Александр рассказал одну страшную тайну о своем деде. Эту тайну супруга Рахманинова хранила до самой смерти, она завещала предать ее гласности только спустя 50 лет после ее смерти, т.е. 2000-го года. Для всех Наталья и Сергей Рахманиновы считались идеальной парой, они воспитывали детей,всегда были рядом друг с другом. Но на самом деле у Рахманинова была любовь на стороне. Когда провалилась его первая симфония, у композитора началась страшная депрессия. Несколько лет он не создавал музыку, поэтому жена попросила его съездить к доктору Далю, чтобы пройти несколько сеансов гипноза. Но у этого доктора была красавица-дочь. Рахманинов зачастил на приемы доктору, скрывая то, что на самом деле он ездит на свидания с девушкой. В итоге свой второй концерт Рахманинов посвятил любимой музе, и на каждый концерт получал неизменный букет цветов от одной из своих любимых женщин. А когда больной Рахманинов умирал, его жена сама послала за своей соперницей, чтобы он мог проститься с ней. Жена и «муза» стояли вместе у постели умирающего Рахманинова.
АВТОР СТАТЬИ: ОЛЬГА ГОЛОВЕНКИНА
Рахманиновский стиль
Сергей Васильевич Рахманинов – яркий представитель «серебряного века» русского искусства. В его творениях чувствуется русский национальный характер, стиль. Тема Родины, ее прошлого и настоящего всегда волновала творческих людей России, но только в творческом наследии Сергея Рахманинова нашла полное свое воплощение. В ней слышатся отголоски оперных произведений Мусоргского, Римского-Корсакова, полифония Чайковского. Она явилась связующей нитью в полотне национальной идеи, продолженной потом Прокофьевым, Шостаковичем, Свиридовым и Шнитке.
Биография Рахманинова оказалась связана с революционными событиями в России. И это сказалось на звучании его произведений: трагичных, порой даже апокалипсических. Его творчество полно символизма, царившего тогда в русской культуре. В его опусах всегда слышна главная тема – символ грядущей катастрофы. В то же время Сергей Рахманинов – тонкий и очень эмоциональный лирик. Его произведениям присущи патетические выражения, взволнованность, звучание тишины. В целом, его стиль индивидуален и неповторим. Музыкантов такого склада в природе больше нет.
Любовный треугольник Рахманинова
Газета «Аргументы и факты» опубликовала интервью внука гениального русского композитора Сергея Рахманинова — руководителя Международного фонда им. Рахманинова в Швейцарии Сергея Борисовича Рахманинова. В этом интервью Сергей Борисович рассказал об удивительном любовном треугольнике длиною в жизнь, в котором жил его знаменитый дед.
Известно, что талант Рахманинова к музыке обнаружился в раннем детстве. Первые уроки игры на фортепиано дала ему мать, затем была приглашена учительница музыки. А в 9-летнем возрасте Сергей поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории. Обучение шло плохо, так как Рахманинов часто прогуливал занятия, поэтому на семейном совете мальчика было решено перевезти в Москву и поселить в частном пансионе известного музыкального педагога, профессора Московской консерватории Н.С. Зверева. Однако спустя четыре года между Рахманиновым и Зверевым произошла ссора, Рахманинов покинул пансион, но остался в Москве, где его приютили родственники — Сатины, на дочери которых Наталье, тоже пианистке, он впоследствии женился.
В воспоминаниях членов семьи Рахманинова, дошедших до нашего времени, великий композитор предстает примерным семьянином, который всю жизнь был верен одной жене. Их брак был религиозным, а сам Рахманинов не любил гостей — предпочитал общаться в основном с многочисленной родней жены.
Другое распространенное сегодня мнение о Рахманинове — что он был мрачным, депрессивным человеком. Всякая творческая заминка очень быстро приводила его к потере веры в себя, у него появлялась навязчивая мысль, что он уже никогда в жизни не сможет сочинить ничего достойного, и от этого он быстро впадал в депрессию. Кроме того, считается, что он был чрезвычайно мнителен и часто полагал, что заболевает какой-нибудь тяжёлой болезнью. Если врачам удавалось переубедить его, он становился весёлым и радостным, но лишь до следующего приступа мнительности.
Однако, по словам внука композитора, вдова Рахманинова Наталья Александровна незадолго до своей смерти решила «освободить душу от греха» и рассказать, что этот образ мужа был создан ею самой — и образ этот во многом далек от того, каким Сергей Васильевич был на самом деле.
Композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) с женой Натальей Сатиной. 1925 год, США. Из фондов Государственного музея музыкальной культуры им.М.И.Глинки в Москве. Фото: РИА Новости
«Когда Сергей Рахманинов создал Первую симфонию, её ожидал полнейший провал, — рассказывает внук композитора. — Пьяный дирижёр Глазунов абсолютно не понял произведение и дирижировал соответствующе. Реакция русской прессы и публики в Санкт-Петербурге оказалась ужасной. Сергей Васильевич испытал совершенно жуткий психологический удар. 3 года после этого после провала Рахманинов музыки не писал, в меланхолии лежал в постели и не хотел вставать. А в Москве тогда уже зарождалась психотерапия. И Рахманинову посоветовали известного гипнотизёра, психиатра доктора Даля. У него была дочь Лана. Рахманинов влюбляется в эту яркую красавицу-иудейку».
В благодарность Рахманинов даже посвятил доктору свой Второй концерт. Однако Наталья, которая на тот момент была невестой композитора, заставила его путём шантажа изменить надпись и посвятить Второй концерт ей. Она сказала: «Если ты не исправишь надпись на нотах, я не выйду за тебя замуж и скажу, что ты меня обесчестил. А ведь ты дворянин и прилюдно обещал на мне жениться. В итоге твоя репутация будет испорчена». И Рахманинов, из чувства долга перед семьей Сатиных, был вынужден подчиниться. Как считает внук Рахманинова, осуждать его бабушку за этот шаг трудно — она с юности безумно любила Сергея, этого высокого юношу с огромными ручищами, который жил в своём мире музыки, и стала для композитора супругой, мамой, сестрой.
«Наталья Александровна знала, что многие годы Сергей Васильевич любил другую женщину, встречался с ней, — рассказывает внук композитора. — И жена Рахманинова решила преподнести его визиты в дом врача как лечение. Вот отсюда и появилась легенда о тяжелой душевной болезни Рахманинова. Наталье Александровне было выгодно представить дело таким образом, чтобы скомпрометировать мужа перед обществом. Хотя на самом деле композитор ходил в дом Даля, чтобы встретиться с женщиной, которую он безумно любил.
На все концерты Рахманинова Лана всегда приходила с белой сиренью. Если бы это было в Италии, законная жена запустила бы туфлей в любовницу, увидев её на выступлении мужа.
Но Наталья Александровна, видя Лану в зале, никогда и слова не сказала. 40 лет эта история была тайной и никто об этом не знал, только участники этого любовного треугольника».
В 1917 году, после Октябрьской революции Лана достала визы для Сергея Васильевича и его семьи, чтобы они буквально перед самым закрытием границы сумели выехать через Финляндию в Швецию, куда король пригласил Рахманинова.
«А потом Лана эмигрировала в Соединенные Штаты и случайно увидела там афишу Рахманинова. Она даже хотела уехать из США, чтобы не разрушить стабильную семью Рахманинова. Но не нашла в себе сил, слишком любила его. Когда они с Рахманиновым наконец-то встретились, его сердце стало биться в полную силу. И Наталья Александровна, видя, что на концертах снова стали появляться букеты белой сирени, снова молчала. Это был своеобразный подвиг — она ни разу не потребовала от Рахманинова, чтобы Лана не посещала его концерты, ни разу не устроила семейной сцены. У бабушки с дедушкой вообще были идеальные с виду отношения, они ни разу не повысили друг на друга голоса.
Отношения с двумя женщинами мучили его. На самом деле Сергей Васильевич себя всю жизнь карал. Если послушать его музыку, возникает ощущение, что это грешник, который просит прощения. Там есть вина. Не только из-за того, что он покинул родину, не только из-за того, что у него был разрыв с матерью, которую он оставил в России и потом с ней практически не общался. Не только из-за того, что он оказался в благополучной Америке, а родная страна была в пучине Второй мировой войны. Всё это Сергей Васильевич очень тяжело переживал. Но ещё была и эта жизнь втроём, когда он не мог ни одну, ни вторую женщину из своего сердца выкинуть. Наталья была для него абсолютно всем в доме, в быту. А Лана вдохновляла его либидо, благодаря этой красивой женщине из-под его пера много лет выходили величайшие произведения».
Когда Рахманинов умирал, Наталья Александровна послала шофёра за Ланой. Она приехала. В предсмертный момент Рахманинову вдруг послышалось, что на улице исполняют его музыку. Он тихо-тихо сказал: «Послушайте… Моя „Всеношняя“ звучит». У изголовья умирающего Рахманинова в тот момент стояли две женщины.
Текст интервью полностью на сайте газеты «Аргументы и факты»
Также смотрите: Редкая запись: Сергей Рахманинов исполняет прелюдию № 5 соль минор
Биография Рахманинова: краткое содержание и значимые события
Жизнь композитора в датах:
- 20 марта 1873 года он родился в Онежском имении матери под Новгородом.
- В 1882 году был принят в консерваторию Петербурга.
- В 1885 году зачислен в Московскую консерваторию на исполнительское направление.
- 1891 год – с отличием окончил фортепианное отделение.
- В 1892 году также на «отлично» завершил обучение по специальности «Сочинение музыки».
- 7 мая 1892 года блестяще сдал экзамен (одноактную оперу «Алеко»).
- 27 апреля 1893 года – премьера оперы «Алеко».
- В 1893 году преподавал в женском музыкальном училище.
- В 1897-1898 годы служил дирижером оперы Мамонтова.
- 15 марта 1897 года состоялась неудачная премьера «Первой симфонии».
- В 1898-1900 годы аккомпанировал Федору Шаляпину.
- 1901 год – Глинкинская премия за «Второй концерт для фортепиано с оркестром».
- 1906 год – вторая Глинкинская премия за кантату «Весна».
- 1904 год – дирижировал оркестром Большого театра.
- 1908 год – работал в Московской дирекции Русского музыкального общества.
- 1909 год – член Совета Российского музыкального издательства.
- В 1917 году едет с концертами в Скандинавию. Остается жить на чужбине.
- 1918 год – переезд на постоянное место жительства в США.
- 1918 – 1943 годы ведет активную концертную деятельность.
- В 1941 году завершил последний шедевр: «Симфонические танцы».
- 28 марта 1943 года умер в Америке.
Вся биография Рахманинова связана с музыкальным творчеством. Даже в периоды кризисов и неудач, сложные годы эмиграции он оставался патриотом своей Родины, сыном и героем своего времени.
Рахманинов биография интересные факты личная жизнь видео
Сергей Рахманинов
Имя этого великого музыканта известно во всем мире, и его смело можно назвать «русским гением». Сергей Васильевич Рахманинов был великолепным пианистом, который не имел себе равных, блестящим дирижером и композитором, оставившим после себя огромное культурное наследие. Он создал такие выдающиеся произведения, которые своей вдохновенностью никого не могут оставить равнодушными. Роковая судьба распорядилась так, что маэстро пришлось покинуть Родину, но любовь к отчизне, как и любовь к музыке, он пронес в сердце через всю жизнь и отразил это в своём гениальном творчестве.
Краткую биографию Сергея Рахманинова и множество интересных фактов о композиторе читайте на нашей странице.
Краткая биография Рахманинова
Сергей Рахманинов появился на свет 1 апреля 1873 года в имении Онег Новгородской губернии. С юных лет мальчик стал проявлять особый интерес к музыке, поэтому мама Любовь Петровна стал обучать его игре на инструменте с четырехлетнего возраста. Когда Сергею Васильевичу исполнилось девять лет, вся семья была вынуждена переехать жить в Северную столицу, так как их имение было продано за долги. Отец будущего композитора ушел из семьи, поэтому о детях теперь заботилась одна мать. Она-то и приняла решение дать Сергею именно музыкальное образование, как и хотела первоначально.
Вскоре Рахманинова принимают на младшее отделение в Петербургскую консерваторию. Вот только с учебой у мальчика не заладилось, ведь он предпочитал проводить время на улице, а не за фортепиано. Тогда по совету Александра Зилоти, который приходился Рахманинову двоюродным братом, было решено перевести юного музыканта в Московскую консерваторию к Н.С. Звереву. Этот педагог давно славился своей особой системой воспитания одаренных учеников. Он выбирал из класса двух-трех талантливых детей и забирал на полный пансион к себе домой. Там Николай Сергеевич приучал учеников к дисциплине, высочайшей организованности и систематическим занятиям, занимаясь с каждым из них индивидуально. В 1887 году Рахманинов начинает сочинять и записывать первые произведения. В то время его преподавателем по контрапункту становится С.И. Танеев.
Сергей Васильевич окончил консерваторию по двум классам – фортепиано (1891 г.) и композиции (1892 г.). Его дипломной работой стала опера «Алеко», созданная им всего за семнадцать дней. За свое сочинение он получил высочайшую о. В 1892 году Сергей Васильевич впервые выступил перед публикой как пианист, со своей известнейшей Прелюдией до-диез минор, ставшей настоящей жемчужиной его творчества.
В 1897 году состоялась долгожданная премьера Первой симфонии, над которой Рахманинов долго работал. После этого концерта, который был крайне неудачным для композитора, он не сочинял ничего в течение трех лет, так как произведение провалилось. Публика и безжалостные критики отрицательно встретили симфонию, да и сам Рахманинов был крайне разочарован. В итоге партитуру он уничтожил, запретив когда-либо исполнять ее. Оставив на время композицию, Сергей Васильевич вплотную занялся исполнительской деятельностью. В 1900 году он вновь вернулся к любимому занятию и принялся за написание Второго фортепианного концерта. Вслед за ним, выходят другие популярные сочинения композитора. В 1906 году Рахманинов решает уйти с постоянной работы в Мариинском женском училище, где он преподавал теорию музыки, чтобы заняться творчеством.
В 1917 году композитор вместе со своей семьей отправляется в Швецию с концертной программой, и предполагалось, что вернутся они через два месяца. Однако, как оказалось, с родными краями они простились уже навсегда. Вскоре семейство Рахманиновых переехало в Америку. Там очень ценили талант Сергея Васильевича и считали его пианистом мирового уровня. Ему приходилось много и напряженно работать, подготавливая концертные программы, иногда из-за чего сильно болели руки.
В этот период Рахманинов снова делает большой перерыв и ничего не сочиняет практически восемь лет. Лишь в 1926 году из-под его пера появляется Четвертый концерт для фортепиано.
В 1931 году семья Рахманиновых покупает участок на берегу озера в Швейцарии, и вскоре там появляется вилла «Сенар». Именно тут он и создает свои знаковые сочинения – Рапсодию на тему Паганини и Третью симфонию. Симфонические танцы композитор написал в 1940 году и это стало его последним произведением.
28 марта 1943 года тяжелобольной Рахманинов скончался в кругу своих родных в Беверли-Хиллз.
Интересные факты из жизни Рахманинова
- У Рахманинова и его учителя Н. Зверева произошел конфликт из-за композиции. Оба очень тяжело переживали это, а помириться музыканты смогли лишь после выпускного экзамена. Тогда Зверев подарил Рахманинову свои золотые часы, которые композитор бережно хранил всю жизнь.
- В выпускном классе фортепианного отделения Сергей Рахманинов остался без педагога, так как А. Зилоти ушел из консерватории, а его ученик не захотел менять наставника. В результате ему пришлось самостоятельно подготовить выпускную программу, с которой он блестяще выступил на экзамене.
- Так как Рахманинов окончил сразу два факультета с отличием, то ему была вручена Большая золотая медаль.
- Когда шли репетиции первой оперы «Алеко», к начинающему композитору подошел П.И. Чайковский и предложил исполнить сочинение Рахманинова вместе со своим новым спектаклем «Иоланта», если тот не возражает. От счастья и восторга Рахманинов даже не смог вымолвить и слова.
- Из биографии Рахманинова мы знаем, что в 1903 году Рахманинов женился на Наталье Сатиной, которая приходилась ему двоюродной сестрой. Из-за этого музыканту даже пришлось простить «Высочайшего разрешения» на брак.
- Композитор признавался, что провал первой симфонии огорчил его не из-за негативных отзывов, а из-за того, что ему и самому не понравилось сочинение уже на первой репетиции, но он не стал ничего исправлять.
- Несмотря на то что Рахманинов последние десятилетия своей жизни прожил в США, он отказался от гражданства этого государства, так как не захотел отрекаться от своей Родины.
- Вилла «Сенар» получила название по первым слогам имен Сергея Васильевича и его супруги Натальи Рахманиновой. Это место стало особенным для композитора, он даже специально привез туда русские березы, а само имение создал в национальном стиле.
Биография и творчество Рахманинова в воспоминаниях современников
Пианистка Зоя Аркадьевна Прибыткова, автор воспоминаний о Сергее Рахманинове, признавалась: «Что меня всегда сразу брало в плен, когда я смотрела на него играющего, это то, что в нем не было ни тени фальши, ни намека на позу и театральность. Идеально мудрая простота, предельная мужественность и целомудренность. Каждое движение четко, ясно и экономично. И он заставлял вас участвовать в своих радостях, тревогах, смехе, ласке. Он вел вас туда, куда он хотел, и вы шли за ним безропотно и радостно».
Писатель Наталья Оленцова, исследуя жизнь и творчество композитора, о.
Проходят года, сменяются эпохи, истинное искусство проверяется временем. Вечным остается только то, что обращено к душе и сделано с открытым сердцем. Таково творческое наследие великого Рахманинова.
4. Инстинкт художника
Ещё осенью 1901 года Рахманинов получил выгодное предложение — занять пост дирижёра Большого театра. Но сейчас его больше волновало собственное творчество, нежели карьера капельмейстера. В критике собственных сочинений он иной раз доходил до самоедства. Чего стоит его признание другу, Никите Морозову, в октябре 1901-го:
«Сейчас я проигрывал первую часть своего Концерта, и только сейчас мне стало вдруг ясно, что переход от первой темы ко второй никуда не годится, что в таком виде первая тема не есть первая тема, а есть вступление, и что мне ни один дурак не поверит, когда я начну играть вторую тему, что это вторая тема именно и есть. Все будут думать, что это начало Концерта. По-моему, вся часть эта испорчена и стала мне с этой минуты положительно противна. Я просто в отчаянии!»
Сочинительство требовало всех душевных сил. Думать о заработке было невыносимо.
«Я обратился к Зилоти, моему единственному состоятельному родственнику, — расскажет позже Рахманинов биографу, О. Риземану, — и спросил его, достаточно ли он верит в моё будущее как композитора, чтобы помогать мне в течение двух лет. Зилоти удовлетворил мою просьбу без колебаний и в следующие два года регулярно выделял деньги на моё содержание».
Суммы этой явно не хватало, так что давать уроки фортепиано всё равно пришлось. Но мучительный зажим с души «стипендия» двоюродного брата сняла.
Первое сочинение 1902 года — кантата «Весна» на стихи Некрасова «Зелёный шум» — было завершено в феврале. Композитор писал его около двух месяцев. Роль оркестра здесь исключительна. Музыка и рождается сначала в оркестре, лишь потом в неё вливается хор:
Идёт-гудёт Зелёный шум,
Зелёный шум, весенний шум!..
Некрасов в белых стихах поведал, казалось бы, столь знакомую и обычную историю: муж в отлучке, неверность жены, ревность…
В избе сам-друг с обманщицей
Зима нас заперла,
В мои глаза суровые
Глядит, — молчит жена.
Молчу… а дума лютая
Покоя не даёт:
Убить… так жаль сердечную!
Стерпеть — так силы нет!
«Зимние» строки — это мрак замкнутого пространства. Здесь бьётся душа, измученная жестокими мыслями. Нет воли — и нет покоя. С весенним светом в стихотворение входит новый воздух:
Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зелёною косой!
В произведении поэта — обезоруживающая простота: и горестная житейская история, и драма души, и преображение природы и вместе с ней человека — всё слито воедино. И вместе с тем звучит то христианское всепрощение, которое приходит не из проповедей, но из живой жизни:
Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И всё мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И — Бог тебе судья!»
В кантате Рахманинова — то же движение от сумеречно-зимних красок к весенним, светоносным. В момент «пробуждения души» поначалу ещё ощутим сумрак в басах. Но дурманящая белая пелена туманов становится всё более прозрачной. Композитор живописует музыкой, звуками передаёт картину чудодейственного преображения. Последние заветные строки, вслед за тенором, повторяет весь хор — всепрощением объята и человеческая душа, и душа всего мира.
Кантатой «Весна» в день премьеры, 11 марта 1902 года, он продирижировал сам. Публика автора встретила аплодисментами. Безымянный критик «Московских ведомостей» заметил, что баритон Смирнов в сольной партии был не очень выразителен. Нарекания вызвал и хор, и даже оркестр. В Рахманинове-дирижёре увидит «хорошие задатки»[80]. Благоволивший композитору критик Кашкин скажет о произведении: «Музыка, как всегда почти у г. Рахманинова, построена на простых, но имеющих ясные очертания мотивах. Светлые тоны изящных гармоний мягко переливаются на выдержанных басах, среди движения виолончелей, легко порхающих фигур верхних голосов и певучих вступлений отдельных инструментов. Оркестру во всей кантате ставятся трудные задачи артистической тонкости и одухотворённости исполнения»[81].
* * *
В начале 1902-го в Ростове-на-Дону его музыку — и Сюиту для двух фортепиано, и Сонату — исполнил Матвей Пресман. Захотел поставить и оперу «Алеко». Сергей Васильевич полон признательности бывшему «зверевцу»: «Милый друг, от души благодарю тебя за твою ревностную пропаганду моих сочинений».
Второй концерт обретал всё большую известность. Прозвучал в Москве, в Питере. В Северной столице критика готова услышать только лишь «претензию на глубину»[82], москвичи Концерт принимали безоговорочно: «один из лучших в новейшей фортепианной литературе»[83]. 26 марта в Москве — ещё одно исполнение. За пультом — Рахманинов, за роялем — Александр Зилоти. Рецензент «Московских ведомостей», припомнив первое исполнение Концерта, где Рахманинов выступал в роли солиста, заметит, что теперь и «фортепиано звучало гораздо полнее», и «оркестр шёл увереннее». О самом произведении — в превосходных тонах: «Нельзя сомневаться, что Концерт, так хорошо принятый в Москве, сделается вскоре везде одним из самых популярных произведений концертного репертуара»[84].
Произведение обретало собственную исполнительскую биографию. Сам его создатель готовился к важному изменению в жизни.
…Наташа Сатина. Двоюродная сестра, с которой в одном доме он жил так долго. Которую когда-то дразнил: «Худа, как палка, черна, как галка, девка Наталка, тебя мне жалко». Их брак для многих станет полной неожиданностью. С её стороны — беззаветная преданность. С его… С детских лет — он человек без семьи. Были друзья, были привязанности. И вместе с тем — одиночество. Если и знал о себе заботу, то всего более у Сатиных. С ними сроднился. Это место всего более напоминало то, что называется «домашний очаг». Наташа была самым верным, самым беззаветным его товарищем. Как заметит позже Лёля Скалон, Наташа «выстрадала» своего Серёжу.
Решение далось непросто. 31 марта в Петербурге он исполняет с Сигизмундом Буткевичем свою виолончельную сонату. 1 апреля, уже по дороге из Новгорода в Москву, на станции Чудово, в ожидании скорого поезда, карандашом, на случайной бумаге, пишет письмо Татуше. Просит извинить, что не пришёл навестить Скалонов, чтобы не ходить с визитом «в качестве жениха» к другим родственникам, чего так добивались от него Сатины. Дальнейшее — с фразы: «В конце этого месяца я имею неосторожность жениться» — похоже на исповедь:
«Я ужасно устал, Татуша! Не от дороги сегодняшней, не от письма, а от всей зимы, и не знаю, когда мне можно будет отдохнуть. По приезде в Москву нужно несколько дней повозиться с попами, а там сейчас же уехать в деревню, что ли, чтобы до свадьбы написать по крайней мере 12 романсов, чтобы было на что попам заплатить и за границу ехать. А отдых и тогда не придёт, потому что и летом я должен, не покладая рук, писать, писать и писать, чтобы не прогореть. А я, как Вам и сказал, уже и сейчас ужасно устал, и намучился, и ослаб. Не знаю уж, что дальше будет!»
Романсы он сочинял в Ивановке, куда отбыл 6 апреля. В текстах преобладают так называемые «второстепенные» поэты. И настойчиво звучит та же нота, что и в письме Наталье Скалон:
«Я вновь один — и вновь кругом всё та же ночь и мрак унылый…»
«Что так усиленно сердце больное бьётся, и просит, и жаждет покоя?»
«Я б умереть хотел душистою весною, в запущенном саду, в благоуханный день…»
«Как мне больно, как хочется жить… Как свежа и душиста весна!..»
Мотивы одиночества, смерти, тоски… Почти всё пронизано этим настроением. Из двенадцати произведений, выбранных Рахманиновым, несколько особняком стоит «На смерть чижика». И несомненно, из всех выбранных поэтов Василий Жуковский — самый выдающийся. В круг Семёна Надсона, Алексея Апухтина, Арсения Голенищева-Кутузова и Глафиры Галиной его привела житейская история.
…Базар на вербной неделе. Ряды палаток. Галантерея, книги, игрушки, сладости, птицы в клетках. На свободной части площади разворачиваются экипажи. Мимо рядов гуляет разношёрстная публика. Бродят торговцы с пирожками, шарами, свистульками.
Здесь Оле Трубниковой, двоюродной сестре Сергея Васильевича, всегда покупали чижика, и он жил в клетке, пока его не выпустят на волю. Но в этом году пернатый обиталец попался хворый. Сколько несчастная девушка ни ухаживала, он не ел, не пил, сидел нахохленный. Когда его, маленького, окоченелого, увидели на дне клетки, Рахманинов не мог забыть лица безутешной сестры. Умиротворить её и попытался «жуковским» романсом:
В сём гробе верный чижик мой!
Природы милое творенье,
Из мирной области земной
Он улетел, как сновиденье…
Цикл откроет романс «Судьба», который так рассердил Толстого и так восхитил Василия Калинникова, как, впрочем, приводил в восторг и большинство слушателей. Из остальных — два обрели особую известность.
Здесь хорошо…
Взгляни, вдали
Огнём горит река,
Цветным ковром луга легли,
Белеют облака…
Стихи Глафиры Галиной вполне «романсные». В этой поэтической бледности есть своя прелесть: слова словно сами желают, чтобы их преобразила музыка.
Самый знаменитый романс, «Сирень», родится из стихотворения Екатерины Бекетовой, родной тётки Александра Блока. В строках живёт память о русской поэзии XIX века:
По утру, на заре.
По росистой траве
Я пойду свежим утром дышать,
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду своё счастье искать.
В жизни счастье одно
Мне найти суждено,
И то счастье в сирени живёт;
На зелёных ветвях,
На душистых кистях
Моё бедное счастье цветёт…
Тот тихий звук, который можно уловить в этой «старомодной», но трепетной лирике, Рахманинов превратил в музыкальный шедевр со спокойным светом. Музыка, оттолкнувшись от слов, стала настолько самодостаточной, что позже композитор превратит романс в фортепианную пьесу, которая сможет звучать и без голоса.
Был в цикле и ещё один романс — «Перед иконой», из наименее известных, на стихи Арсения Голенищева-Кутузова. За его сюжетом тихо мерцает что-то недосказанное:
Она пред иконой стояла святою;
Скрестилися руки, уста шевелились;
Из глаз её слёзы одна за другою
По бледным щекам жемчугами катились.
Она повторяла все чьё-то названье,
И взор озарялся молитвенным светом;
И было так много любви и страданья, —
Так мало надежды в молении этом!
Мария Шаталина, дочь Феоны, той самой доброй «Феоши», на руках которой росло младшее поколение Сатиных. Они называли эту чудную девушку Мариной. Ей посвятил этот романс Рахманинов. Скоро в его семье она станет экономкой. Её преданность вернее было бы назвать самоотверженностью. Пройдёт чуть более года, и Соне Сатиной Рахманинов напишет письмо, где зазвучит эхо женской ревности:
«Дорогая моя девочка, вчера в твоём письме к Наташе, вложенном к Марине, я прочёл какие-то намёки по её адресу и по моему, вероятно. Может, я и неправильно объяснил их себе, но во всяком случае хочу сказать тебе, что на всём свете есть только две личности, с которыми связано моё сердце: это ты и Наташа, а посему никаких намёков, если говорить серьёзно, я не заслуживаю и не заслужу. Я невнимательный, неаккуратный, ленивый, — но я тебя всегда ужасно люблю…» Последние слова — «крепко тебя обнимаю и целую». Подпись: «Твой Серёжа».
Загадочное и трепетное письмо. Застывшее мгновение. Почти фотография, только не людей, но их чувств. И не трёх людей — четырёх. Пройдёт более полувека. И гувернантка старшей дочери Рахманинова, Ирина Александровна Брандт, не сможет ни сказать об этом, ни промолчать:
«У Марины были просто огромные голубые глаза, опушённые длинными густыми ресницами. Поговаривали, что у Сергея Васильевича с Мариной был роман. Ничего по этому поводу сказать не могу, хотя и странного в этом ничего не нахожу. Надо было видеть Марину, чтобы понять, что не влюбиться в такую девушку практически невозможно. Всегда стройна, подтянута, с длинными, красиво уложенными волосами»[85].
Но и образ той, кому было написано письмо-оправдание, возникает в особом «зыбком» свете. И о ней тоже будет сказано — и не сказано:
«Был ли у Софьи Александровны и Сергея Васильевича роман, утверждать не берусь, как, впрочем, не берусь утверждать и обратное. Как я уже говорила, на мой взгляд, отношения между ними были очень доверительные. По-моему, Сергей Васильевич больше всего доверял Софье Александровне. От многих я слышала, что Софья Александровна была непривлекательной, что совсем не так. У неё была чудная фигура, просто она терялась под строгостью одежды. И ещё, мне всегда казалось, что Софья Александровна сознательно жертвует своей жизнью, ради семьи сестры»[86].
Марина, простая служанка. Знала французский и немецкий. Нигде не училась — и много читала. Помнила множество стихотворений. А главное — у неё был дивный грудной голос. Ирина Александровна увидит однажды Марину у маленькой печки в саду, а Сергея Васильевича — на подоконнике. Марина перебирала ягоды для варенья, пела что-то певучее, грустное. Сергей Васильевич зачарованно слушал.
В 1899-м Рахманинов подарил ей свою фотографию, надписав: «Дорогой Марише от очень её любящего С. Рахманинова»[87]. В 1902-м — посвятил романс на стихи Арсения Голенищева-Кутузова. Последняя строфа:
Но было всё тихо в молчании ночи,
Лампада мерцала во мраке тревожном,
И скорбно смотрели Спасителя очи
На ту, что с моленьем пришла невозможным.
Под своим 21-м опусом он поставит дату: «Апрель 1902». За Ивановкой будет снова Москва.
* * *
Жизнь складывалась совсем «непросто». Главное препятствие браку с Наташей — их близкое родство. Для священника обвенчать двоюродных — рисковать своим положением, вплоть до ссылки в монастырь. Венчать их будет полковой священник, поскольку он подвластен военному ведомству, а не Синоду. Но и прошение государю на разрешение брака нужно было подать в момент обряда, а никак не до него. Ведь при отказе уже никакой священник не обвенчает.
В этот хлопотный день лило как из ведра. По народным поверьям — хорошая примета. Карета остановилась на окраине Москвы перед казармами[88]. Запомнится не венчальное платье взволнованной невесты, не фрак подтянутого и серьёзного жениха, не поведение шаферов — Александра Зилоти и Анатолия Брандукова, но удивлённые лица солдат на нарах, мимо которых шло свадебное шествие.
С обрядом торопились. Прошение на высочайшее имя было подано во время венчания. Когда Сергея Васильевича и Наташу третий раз обводили вокруг аналоя, Александр Ильич повернулся к невесте и тихо пошутил:
— Ещё можешь одуматься. Ещё не поздно.
После церкви отправились к Зилоти, где гостей ждала закуска с шампанским. Сюда подоспело и сообщение, что император начертал на прошении: «Что Бог соединил, человек да не разлучает».
Жених с невестой не засиживались. Скоро переоделись и поспешили на вокзал. Их ждала Европа.
…Австрия — Италия — Швейцария — Германия. Когда-то он подписывал письма: «Странствующий музыкант». Тогда, бессемейный, без своего угла, он и вкладывал в эти слова всю свою бесприютность, чуть-чуть тронутую шутливым тоном.
Теперь он и вправду был странствующий. Но — вместе с женой. Уже имея и свой «угол» — родители Наташи подарили молодым флигель в Ивановке.
Впечатлений от поездки было много, и всё какие-то разрозненные. Всего через два месяца, вспоминая начало свадебного путешествия, Рахманинов напишет Затаевичу, что в Вене болел и лежал целый месяц. Наталья Александровна, спустя годы, припомнила их прогулки по городу, театр и даже Сергея Васильевича после оперы, где «Тангейзером» дирижировал Бруно Вальтер. Рахманинов был в совершенном восторге и вспоминал дивный звук струнных после арии «Вечерняя звезда».
При переезде в Италию они зачарованы красотой гор и дорогой. В Венеции, прямо с вокзала, сели в гондолу, и в ней — при луне и пении итальянцев, что неслось с других гондол, — добрались до Гранд-отеля на канале Гранде. Наташа осматривала город с восхищением, запечатлевая и Палаццо дожей, и голубей, которых они кормили на площади Святого Марка. Рахманинов интереса к древностям в себе не обнаружил. В письме Никите Семёновичу Морозову написал не без скепсиса:
«По-моему, если в продолжение целого месяца ежедневно что-нибудь осматривать, что бы то ни было, как бы интересно это ни было: город, собор, галерея, темницы в палаццо дожей (в которых, по правде сказать, ничего особенно интересного я не усмотрел), в конце концов всё начинает путаться, приедаться, надоедать, и, конечно, появится усталость (как она у тебя ещё до сих пор не появилась?), не та усталость, о которой ты упоминаешь и которая тебе позволяет ещё добрых две недели шататься по разным городам, а настоящая усталость, которая бы тебя загнала в какую-нибудь комнату и держала бы тебя там по крайней мере неделю, и чтобы тебе приятно было на стены голые смотреть, и чтоб всякое напоминание о какой-нибудь Мадонне, или каких-нибудь руинах выводило бы тебя из себя».
С Морозовым они встретились в Венеции. После разъехались, и снова Сергей Васильевич начал зазывать друга уже в Люцерн. Из всей поездки с восхищением вспоминал итальянские озера и Сен-Готардскую железную дорогу, которая шла через Швейцарские Альпы.
В Люцерне — чуть ли не месяц — Рахманиновы жили в пансионе. Лифт, две комнаты на самом верху, пианино, взятое на срок проживания. Он иногда бродил, вместе с Наташей или в одиночестве, по живописной, но единственной дороге в сосновом лесу. Остальное время старательно отделывал свои последние опусы — кантату и романсы. На последних, как признался Никите Семёновичу, сидел «сиднем», очень уж спешно были написаны.
В Байрейт, на Вагнеровский фестиваль, Рахманиновы приехали в июле, вместе с Морозовым. Здесь встретились с русскими артистами, Станиславским, четой Кусевицких. Услышали оперы «Летучий голландец», «Парсифаль» и всю тетралогию «Кольцо нибелунга».
В Россию молодожёны вернулись уже из Берлина. И с конца лета до октября вместе с семейством Зилоти засели в Ивановке. Рахманинов хлопотал об исполнении на русском языке шумановской кантаты «Манфред» по Байрону. В замыслах — Вариации на тему Шопена, цикл прелюдий, Вторая симфония. Жизнь обрела соразмерность, уравновешенность. Волнения житейские вытеснились волнениями артистическими. В ноябре, из-за болезни пальца, — сколько раз это ещё предстоит пережить! — он вынужден отказаться от двух выступлений. В конце месяца узнал, что одно из венских благотворительных обществ, которому он дал согласие участвовать в концерте, пригласило дирижёром Сафонова. Самому Василию Ильичу он в своё время отказал в выступлении. Понимал, что устроители вовсе не обязаны знать о его отношениях с дирижёром, так что не дать согласие было бы нелепо. Но удручённый всей этой историей композитор о своих тревогах написал Танееву. И рассудительный Сергей Иванович специально поехал к бывшему своему ученику, чтобы его успокоить.
В декабре Сергей Васильевич был приглашён на должность инспектора Екатерининского и Елизаветинского институтов, учебных заведений для женщин. В том же месяце выступил в Вене со своим Вторым концертом, где оркестр вёл Сафонов. Завершил этот год шумановский «Манфред», о постановке которого он мечтал ещё в театре Мамонтова. В роли главных декламаторов выступили Фёдор Шаляпин и Вера Комиссаржевская. Её артистический дар оставил в душе композитора неизгладимое впечатление.
* * *
В феврале 1903 года Рахманинов закончил Вариации на тему Шопена, выбрав для своих вдохновений известную, мрачноватую до-минорную прелюдию[89] знаменитого музыканта.
Это была первая попытка довести довольно простую и отчётливую тему европейского композитора до собственных музыкальных откровений. Произведением он был не вполне доволен. Полагал, что часть вариаций при исполнении пианист может и опустить. Но этот опыт ещё отзовётся в будущем. Спустя многие годы он напишет Вариации на тему Корелли. Вершиной таких сочинений станет «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано и оркестра.
В том же 1903-м он написал и десять прелюдий (ор. 23). В истории мировой музыки эти пьесы ждала замечательная будущность. Однажды Борис Асафьев исполнит их в тесном кругу, в Пенатах у Ильи Репина. Кроме художника там были Владимир Стасов и Максим Горький. И все трое, помимо очевидного, огромного таланта Рахманинова, отметят не только его «русскость», но и необычайное чувство пейзажа, как бы «подслушанного» необыкновенно чуткой душой[90]. Этот день запомнится Асафьеву до деталей. И даже реплики будут стоять в памяти.
«Как хорошо он слышит тишину!» — это непосредственное ощущение Горького. Репин припомнит Глинку, Чайковского, Мусоргского и заметит у молодого композитора новые черты в его русском мелодизме: «Что-то не от итальянской кантилены, а от русских импрессий, но и без французов». Стасов обронит фразу, которая тоже коснулась самой сущности этой музыки: «Не правда ли, Рахманинов очень свежий, светлый и плавный талант, с новомосковским особым отпечатком, и звонит с новой колокольни, и колокола у него новые».
Эта рахманиновская «колокольность» отчётливо звучала в прелюдии Си-бемоль мажор. Стасов не удержался от восклицания об этих звонах: «Что-то коренное в них и очень радостное». Когда дело дошло до прелюдии № 4, Репин зорким глазом художника различил своё: «Озеро в весеннем разливе, русское половодье». Асафьев, вспоминая этот воображаемый пейзаж, увидел и «образ могучей, плавно и глубоко ритмично, медленно реющей над водной спокойной стихией властной птицы».
Отражение природы в этой музыке ощутимо до иллюзии. Но каждый с неизбежностью видит своё.
В Первой прелюдии цикла, фа-диез минор, можно услышать и чувство одиночества, сначала затаённое, потом с горькими восклицаниями, и речитативное начало в мелодической линии. «Накрапывающий» фон может намекнуть на образ дождя, с каплями, которые срываются с листьев. Но даже если не видеть именно этот образ, «пейзажность» прелюдии очень ощутима, как почти во всех произведениях цикла. Вторая, Си-бемоль мажор, совсем не случайно вызывает ассоциации бурного весеннего половодья. И потому, что в произведении явное фактурное сходство с романсом «Весенние воды» на стихи Тютчева, и потому, что в музыке оживает непосредственное ощущение бурления и яркого света. Но и фанфарность, и колокольная «звонкость» здесь тоже слышны. И Стасов с его особо настроенным слухом это уловил.
Третья прелюдия ре-минор, анданте в «менуэтном» характере, рождает образ сумрачный. Сквозь контуры танца проступает что-то стародавнее и одновременно живое. Как при взгляде на древние портреты чувствуешь и «былые времена», и необъяснимое их переживание. Безрассветный колорит сочинения в середине обретает драматические черты — так память может воссоздать живой трепет предания. В конце музыка «обесплочивается», словно образы из других веков истончаются до призрачных контуров.
Последовательность пьес может напомнить ряд картин, где одно настроение сменяется другим, чаще всего — контрастным: «накрапывающий» минор (№ 1) — бурный мажор (№ 2) — «сумрачный», «затаённый» минор, с которым соседствует чувство закрытого пространства, как в коридоре или подземелье (№ 3). Именно после «хмурого» менуэта появится пьеса (№ 4, Ре-мажор), где собеседники Асафьева увидели весенний разлив озёр, а сам он птицу над этими просторами и взмахи крыльев. «Баркарольные» триоли действительно создают впечатление широты, водного колыхания и просветлённого воздуха.
Следующая прелюдия (№ 5) — одно из самых известных сочинений Рахманинова. И обилие толкований с неизбежностью сопутствует её популярности: «крадущиеся шаги», ироничная «мефистофельская улыбка», «мужественная энергия», воинственная и волевая музыка, «суровый героический натиск», смесь порыва с тревогой…[91] Каждое толкование требует своего исполнителя. Хотя несомненно, марш здесь сочетается со скачками, и всё выплёскивается вдруг в «фанфарные звуки», явно противопоставленные началу. Сами звуки этих фанфар звучат всё ярче, доходя до восторга.
Средняя часть прелюдии — задумчиво-просветлённая лирика с раскатом фоновых фигураций. Она также родственна «пейзажным» прелюдиям цикла, как «маршевая» часть, которая уже несколько в ином одеянии заканчивает произведение, в глубине своей родственна сумрачному «менуэту» в прелюдии № 3.
Его собственное исполнение вспоминали и через десятилетия: «Многие свои произведения Рахманинов играл совсем не так, как их трактуют другие пианисты. Так, известная Прелюдия g-moll, звучащая обычно как радостно ликующий марш, приобретала в его исполнении совсем иной характер — зловеще надвигающейся угрозы»[92].
Нечто подобное скажет и другой свидетель: «Начинал он тихо, угрожающе тихо… Потом crescendo нарастало с такой чудовищной силой, что казалось — лавина грозных звуков обрушивалась на вас с мощью и гневом… Как прорвавшаяся плотина»[93].
Но сам композитор никогда не навязывал собственного восприятия исполнителям. И знаменитая прелюдия сама порождала самые разнообразные прочтения и толкования.
За минором вновь последует мажор. В цикле они чередуются. Чётные (№ 6, № 8, № 10) будут мажорные. Нечётные (№ 7, № 9) — минорные. И темпы пойдут: «умеренно» — «скоро» — «очень живо» — «быстро» — «широко», то есть от медленного к быстрым и опять к медленному.
Колорит Шестой, Ми-бемоль мажор, напомнит Четвёртую. Эта прелюдия была любима актрисой Комиссаржевской. Здесь она слышала чистое пение, поясняя: «…сама юность, сама весна»[94].
Тревожная Седьмая прелюдия, до минор, — образ не то хлёсткого дождя и взъерошенных листьев, не то морского ветра и пенных брызг. Но чувство простора, охваченного смятением, передано совершенно отчётливо. Восьмая, Ля-бемоль мажор, напротив, полна того счастливого умиротворения, какое наступает после «выплеска» стихии. Девятая, ми-бемоль минор, — опять «беспокойная», словно здесь схвачены минуты предвестия чего-то более грозного. В последней, десятой, Соль-бемоль мажор, с непрерывным мелодическим развитием, с ощутимым песенно-речитативным началом, весь цикл явно клонится ко всеобщему умиротворению.
* * *
14 мая 1903 года у четы Рахманиновых появится дочь. Один только взгляд на крохотное существо приводил отца в трепет. В его жизнь вошла и всепоглощающая любовь к своему ребёнку, и неизбывная тревога. Маленькая Ирина часто болела, нездоровилось и жене, да и сам Сергей Васильевич этим летом то и дело будет преодолевать недуги. И письма полнятся частым беспокойством:
«Девочка за все 5 ? недель жизни, вместо того чтобы прибавиться в весе, убавила ? фунта, так что сейчас весит меньше, чем при рождении».
«Бедная моя Наташа совсем расклеилась… Она так ослабла, что еле ходит».
«С 29 мая до сих пор у меня что-то вроде неврастении, вернее всего ревматизм. Последние дни перешло на руки. Конечно, это пустяки, и я упоминаю о себе только для полноты картины. Заниматься я могу мало и неохотно».
«Мою семью составляют теперь трое, и как-то так выходит, что не успеет один из трёх поправиться, как заболевает по очереди другой, и т. д. Теперь у моей девочки началась золотуха, и она, бедная, опять забеспокоилась».
Итог этому «отдыху» неутешительный:
«Давно у меня не было такого скверного лета, как в этом году, и если я захочу его описывать, то мне придётся говорить только о болезнях».
Забота о семье всё более заставляет искать не частных уроков, но концертных выступлений. Как пианист он появляется на публике довольно часто. И всё больше привлекает внимание как дирижёр.
С осени 1903-го Зилоти организует цикл концертов в Петербурге. И до нового года Рахманинов у него выступит дважды: 15 ноября как пианист (исполнит Второй концерт и три прелюдии), 13 декабря — как дирижёр. Той же осенью Керзины в абонемент своего Кружка любителей русской музыки решили включить не только камерные, но и симфонические концерты, очень рассчитывая на искусство Рахманинова. Уже в феврале подписка на эти абонементные концерты принесла небывалые результаты: билеты разошлись в три дня. Сам он в это время занят сочинением опер.
«Маленькие трагедии» — не единственное определение своеобразного жанра, который открыл Пушкин осенью 1830 года. «Драматические опыты», «Опыты драматических изучений» — подбирались и такие определения.
Когда дороги из Болдина в Москву были перекрыты военными кордонами, дабы не дать эпидемии холеры расползаться, когда сам Пушкин готовился к важной перемене, к женитьбе, он написал — чуть более чем за два месяца — столько хрестоматийных произведений и при таком их жанровом разнообразии, что этот творческий выплеск войдёт в историю литературы. Болдинской осенью завершён «Онегин», написаны «Повести Белкина», множество лирических стихотворений, от знаменитых «Бесов» («Мчатся тучи, вьются тучи…») — до облюбованной музыкантами «Пью за здравие Мэри…».
На «маленьких трагедиях» лежит отблеск «духовного восторга», который пережил поэт в болдинские дни. Да и сами «драматические опыты» откликались друг другу, даже в названиях, где всегда соединялось несоединимое: «скупой» — и «рыцарь», «Моцарт» — и «Сальери», «каменный» — и «гость», «пир» — и «чума». А сама краткость этих произведений лишь усиливала их напряжение.
Композиторы давно обратили внимание на эти небольшие драмы, тем более что они давали возможность обойтись и без либреттиста. Даргомыжский, Римский-Корсаков, Кюи… «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы»… Только к «Скупому рыцарю» не прикасалась рука композитора. Рахманинов выбрал именно этот сюжет.
Главный герой — старый Барон. Появляется только в сцене второй. Тот, кто с рождения впитывал рыцарский кодекс чести, превратился в скрягу, накопителя. И это не банальная жажда обогащения, не просто мания, но — мироощущение. Некогда рыцарство было силой, на которой держался европейский мир. Теперь власть перешла к золоту. За каждой монетой, канувшей в сундук барона, — кровь, пот и слёзы. Каждая могла бы рассказать историю разорения, кражи, убийства. И, собранное вместе, это золото обретает мистическую силу:
…Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползёт окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне всё послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья…
Богатство — не для удовлетворения прихотей, но для чувства собственного превосходства. Жить скаредом — и сознавать всю мощь сундуков, набитых драгоценностями… Из одной фразы Пушкина («…с меня довольно сего сознанья…») герой Достоевского из романа «Подросток» потом выстроит, как тягостную мечту, идею всей будущей жизни. Быть тайным богачом — и упиваться самим сознанием власти. И даже получать наслаждение от обид и помыканий, терпеть — и знать, что мог бы сделать с обидчиком при одном только желании.
В золоте есть сила явная, но есть и тайная. Сокровище, сокрытое богатство… Оно — столь же могучая стихия, как и воля к жизни. Это и власть («мне всё послушно»), и внутренняя уверенность в себе («я спокоен; я знаю мощь мою…»). Запертые сундуки таят не просто «презренный металл», но скопище демонических сил.
И всё же сам «скупой рыцарь» — не единственный герой Пушкина. У поэта, хоть и пунктиром, была начертана и другая судьба. Альбер — рыцарь не только во время турниров. Он отвергает саму идею отцеубийства. Он способен на великодушие и бескорыстие.
Рахманинов явно увлечён основным героем. Из пушкинской драмы вычеркнуты не только отдельные строки, но и целый отрывок:
«Альбер
Я спрашивал вина.
Иван
У нас вина —
Ни капли нет.
Альбер
А то, что мне прислал
В подарок из Испании Ремон?
Иван
Вечор я снёс последнюю бутылку
Больному кузнецу.
Альбер
Да, помню, знаю…
Так дай воды. Проклятое житьё!»
Из либретто ушло благородство Альбера. Всё сосредоточилось на власти золота.
Сколько раз замечали, что смысловой и эмоциональный «центр» этой «маленькой трагедии» Пушкина — подвал Барона и его монолог. Отсюда лучи его накопительской страсти идут во все стороны, тянутся и к первой сцене, и к третьей. Рахманинов, умалив «рыцарство» Альбера, его способность быть бескорыстным («снёс последнюю бутылку больному кузнецу»), ещё более усилил это впечатление. «Бесшабашная удаль» темы Альбера бросается в глаза, её музыкальный рисунок сразу заставляет вспомнить о «ритме скачки»[95]. Ощутима и вкрадчивость, «елейность», изворотливость темы ростовщика.
«Тень Барона» лежит и на этой части. И в репликах Альбера («…рано ль, поздно ль всему наследую»), и в замечаниях Соломона («Да, на бароновых похоронах прольётся больше денег, нежель слёз. Пошли вам Бог скорей наследство»).
Но тень скупого слышна и в музыке. Его темы сопутствуют репликам героев. Более того, отдельные «хроматизмы» из темы Альбера напоминают характерные мотивы, из которых сплетается образ его отца.
Первая и третья картины становятся только сюжетной рамкой. В центре — картина вторая, старый Барон в своём подземелье, у своих сундуков. Опера строится на речитативе и ариозо. Но симфоническая партия вносит в неё особый драматизм.
* * *
«Тема подвалов», «тема золота», «тема слёз», «тема возмездия»… Партитура «Скупого рыцаря» просматривалась исследователями тщательно и не один раз. Правда, то, что в одном прочтении становилось «темой подвалов», в другом называлось «темой золота»[96]. Но эта разноголосица не случайна. Рахманинов не стремился объяснить своё произведение, и условность тематических наименований неизбежна. Образ золота рисует и «тема подвалов» — золота, «стиснутого» стенками сундуков, золота «взаперти». Огромную роль играют не только темы, но и мотивы, тот строительный материал, из которого возведено здание этой оперы.
Несомненно, что хроматизмы здесь (которые нисходят и которые восходят) играют очень важную роль в изображении «скупого рыцаря».
Один мотив (хроматический спуск с «ударом» на последний звук, его назвали и «темой скупости») появится (с «траурным „отливом“») и в конце второй картины, и после, в минуту смерти Барона. Другой — восходящий (часто проходит в несколько «ярусов») — тесно связан с «темой золота».
Из сцепления мотивов, как из звуковых «атомов», рождается и большинство тем. Хроматизмы спускаются, потом — восходят… — образ подвалов, образ «сдавленного» сокровища. Хроматизмы «взбегают», но ступеньки таких «взлётов» ведут вниз… — образ «золотого струения». Эта тема явственно возникает со словами: «…Я спокоен, я знаю мощь мою». Хроматизмы «взбегают», замирают, снова «взбегают», — как большая волна иногда раскатывается по берегу несколькими выплесками… — «Струение золота» вырывается на свободу. Оно проявит себя после слов: «Я царствую…»
Лишь одна тема своей диатоникой[97] противостоит «хроматизмам» — «тема слёз». Её прообраз появился у Рахманинова ещё в первой сюите для двух фортепиано, в части, названной «Слёзы». Как преображение этого звукового образа звучит и «тема возмездия». Она «даст знать о себе», когда Барон произнесёт:
Да! если бы все слёзы, кровь и пот,
Пролитые за всё, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных.
Можно увидеть: подвал, сундуки, Барон среди своих богатств… Но музыка за явленными образами рисует мир незримый: спрятанное золото, ту скрытую силу, что правит миром. Все страсти людские словно втягиваются золотом. И оно «набухает» горем, алчностью, подлостью, смертью. И всё преобразует в свою власть.
Монолог «скупого рыцаря»… В своей чудовищной «окрылённости» Барон возносится до мучительного вдохновения и — всё более возбуждаясь — доходит до исступления и восторга:
…есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.
Сумрачная мощь богатства словно пробуждается от этих слов и зловещих мечтаний.
Если всю драматургию картины свести к обобщённому образу, то появится сумрак подвалов, спёртый воздух, потом герой и его монолог, обретающий всё большую страсть, затем — раскрытые сундуки при свечах. Этот свет рождает отблеск золотых груд, стиснутых стенками своих хранилищ. И золото словно бы начинает испускать лучи. Злая энергия исходит из него, пронизывает всё вокруг. Она господствует не только в хмуром подземелье, но и во всём мире. Власть золота непобедима, свечи разгораются до ослепительного сияния.
Симфоническое начало так подчинило себе музыкальную «маленькую трагедию», что в кульминации немой сцены с раскрытыми сокровищами, темы подвалов, золота и его «струения», слёз, возмездия сплетаются, набирают силу, будто пламя свечей разрастается в зарево мирового пожара. «Я царствую!» — И вопль Барона оркестр заливает мажорным потоком золота. Нет, не «скупой рыцарь» владеет богатством. Оно владеет им.
Наступает спад. При мысли о своей тленности, Барон стенает над сундуками. Он прошёл не только через злодейство, собирая по крохам своё сокровище, своё злое божество. Он знал и муки совести («когтистый зверь, скребущий сердце»). И он предчувствует, что придёт и отмщение.
Последняя сцена — стычка отца и сына в замке герцога — лишь разрешение главного противоречия, которое во всю мощь было явлено во второй картине. Власть золота — и бессилие человека. Старый Барон породил ту силу, которая теперь губит его. Он запер в сундуках чудовище. Тому тесно в сдавленном пространстве. Последний крик и последний вдох Барона — «Ключи! Ключи…» Демон, убив своего создателя, вырвался из его власти.
* * *
Весна 1904-го — новое приглашение на должность дирижёра. Сколько раз Теляковский, глава дирекции Императорских театров, посылал своих эмиссаров уговаривать! Приходили домой, встречали в концертах… Пост в Большом! — они расписывали его в самых превосходных степенях. Сергей Васильевич и сам понимал: согласишься — и денежные заботы отступят. Но ведь и для сочинительства времени не останется… Всё-таки он не откажется: ради семьи.
Наступает беспокойное время. Столетие со дня рождения Глинки хотят отметить постановкой. Уже намечен спектакль с оперой «Жизнь за царя», и до начала сезона нужно проштудировать партитуру. Композитор торопится воплотить и свой замысел — оперу «Франческа да Римини».
Лето. Ивановка. Работу прерывает болезнь дочери. Следом приходит тяжёлая весть: скончался Чехов. Будто часть жизни разом ушла в прошлое. До этого мрачного известия в письма H. С. Морозову нет-нет да и просочится: «…об театре продолжаю упорно не думать, что начинает вызывать у меня в душе маленький страх». После — смятение: «К театру, из-за того что хочу покончить раньше с „Франческой“, до сих пор не готовился, и это меня начинает не только беспокоить, но мучить. А между тем если начать сейчас зубрить оперы, то тогда ни за что не кончить „Франчески“…»
Сочинительство опять «замирало». Ещё в сентябре он просит Модеста Ильича кое-что добавить в либретто, хотя в августе серьёзно погрузился в «Жизнь за царя». Пока Рахманинов-композитор и Рахманинов-дирижёр ещё как-то уживались вместе. На этой зыбкой границе он и торопится поставить в произведении точку.
На рубеже веков русская культура тянулась к Данте. Для русских символистов он — духовидец в высшем его проявлении, одна из тех фигур, на которых стоит мир. Тень великого итальянца коснулась и музыки. В этот самый год Скрябин сидит в Швейцарии, заканчивает большое симфоническое произведение. В нём — явная оглядка на главное сочинение Данте Алигьери. В «Божественной комедии» первая песнь — подобна вступлению, а далее идут части: «Ад», «Чистилище», «Рай». В «Божественной поэме» консерваторского товарища Сергея Васильевича тоже вступление и три части. И столь же грандиозный размах — и по времени звучания, и по составу оркестра.
Перед мысленным взором Рахманинова — лишь один эпизод. Данте, ведомый Вергилием, спустился во второй круг ада. Здесь маются те, кого погубила жажда наслаждений. Две тени — Франчески и Паоло — вызвали острый отклик в душе поэта. Ему известна история их трагической любви. Одно лишь не даёт покоя:
…Франческа, жалобе твоей
Я со слезами внемлю, сострадая.
Но расскажи: меж вздохов нежных дней,
Что было вам любовною наукой,
Раскрывшей слуху тайный зов страстей?[98]
Ответ приводит его в содрогание: влюблённые читали рыцарский роман, историю Ланцелота и Джиневры, жены короля Артура. Поцелуй в книге отразился в их поцелуе. Данте, услышав об этом, теряет сознание.
Современники поэта знали историю любви, потому о ней он не произнёс ни слова. Подробности поведал Джованни Боккаччо[99].
Красавица Франческа, дочь Гвидо да Полента, правителя Равенны, не знала, что её ждёт брак с хромым, безобразным Джанчотто. В день свадьбы прибыл его брат, благолепный Паоло. Ей, указав на него, шепнули: «Вот твой будущий муж». Правду бедная девушка узнала слишком поздно, сохранив в своей душе любовь к Паоло. В поэме Данте о гибели влюблённых от руки честолюбивого ревнивца Джанчотто сказано лишь намёком: «Никто из нас недочитал листа».
Либретто Модеста Ильича Чайковского годилось для большого сочинения: пролог и четыре картины. Целая сцена изображала историю предсвадебного обмана[100].
Рахманинов явно тяготел к своего рода «маленьким трагедиям» в опере. Он просит сократить текст, но дописать что-нибудь для любовной сцены, которая слишком коротка. Опера становится одноактной: пролог, две картины, эпилог. Стихи Модеста Ильича — не высокого качества. Любовная сцена не даётся совсем. В августе, намучившись с либретто, Рахманинов пишет Никите Морозову с досадой: «Последняя картина оказалась куцой. Хотя Чайковский и прибавил мне слов (очень пошлых, кстати), но их оказалось недостаточно. Вероятно, он надеялся, что я буду повторять слова, тогда бы, может быть, и хватило. Теперь же у меня есть подход к любовн. дуэту; есть заключение любовн. дуэта, но сам дуэт отсутствует».
Непропорциональность действий композитора мучила. И всё же клавир оперы он написал.
* * *
Симфоническое начало главенствует и в этой опере. Мрачный колорит оркестрового вступления точно соответствует дантовской надписи на вратах ада: «Оставьте всякую надежду все, входящие»[101]. Здесь слышатся и стенания, и кружения, и слёзные всплески. Звучность оркестра нарастает, спадает, снова нарастает…
Когда занавес поднимался, зритель видел первый круг ада. Музыка усиливала ощущение пространства, чуждого всему земному: сумрак, красные отблески от стремительного движения туч, скалистые уступы, что ведут вниз, в темноту, в бездну. И сонмы безнадёжных вздохов.
Вот появился Дант[102], его ведёт Тень Вергилия. У скалистого пути в провал они остановились в смятении и страхе. Первые слова срываются с уст Вергилия: «Теперь вступаем мы в слепую бездну…» Несколько реплик — и оба спускаются в пропасть, их силуэты обволакивает туман.
Рахманинов продумал и сочинил необычное музыкальное действо, своего рода «драматическую симфонию». Важно это кружение звуков, эти хроматизмы, хор, который поёт закрытым ртом. Когда мрак рассеивается, Дант и Вергилий — в скалистом месте, где виден горизонт, озарённый алым светом. Слышен отдалённый грохот бури. Приближается вихрь страждущих. Здесь хор поёт открытым ртом звук «а-а-а…».
Дант и Вергилий застывают над пропастью. Старший пытается объяснить, что происходит тут, во втором круге ада. Носится вечный и неустанный вихрь. Этот «чёрный воздух» истязает тех, чей разум заглушил голос любовной страсти. Здесь Дант и встречает тени Паоло и Франчески. Здесь он и слышит их голоса:
Нет более великой скорби в мире,
Как вспоминать о времени счастливом
В несчастье…
Двухчастный пролог — вместе со вступлением это чуть ли не треть всего сочинения — подводит к истории горькой любви.
Первую картину составили три сцены. Сначала кардинал благословляет Ланчотто (мужу Франчески в либретто Модест Ильич слегка изменил имя) на подвиги во имя церкви. Потом этот хромой воин предаётся размышлениям, вспоминает, как обманным путём Франческа стала его женой. Наконец, по его зову приходит и она. Ланчотто мучается и своим обманом, и ревностью, и холодностью жены. Она же хранит ему верность, но он сомневается и в этом. Свои подозрения не высказывает. Перед походом оставляет её заботам брата Паоло. Сам же собирается вернуться внезапно и тайно.
Вторая картина — лишь одна сцена. Паоло и Франческа читают о Ланцелоте. Паоло пытается говорить о своей любви, Франческа его увещевает: земные страдания не так уж долговечны, с любимым они смогут соединиться в мире ином. Но своей страсти, которую ещё более разжёг рыцарский роман, они сопротивляться не в силах. На их объятия падает тень ревнивого Ланчотто с кинжалом в руках. На отчаянный крик влюблённых отзываются стоны и вопли страждущих в аду.
Эпилог завершает печальную историю. Дант и Вергилий стоят на скале. В вихре проносятся, завывая, призраки. В минуту временного затишья доносятся голоса Франчески и Паоло: «О, в тот день мы больше не читали!»
Потрясённый Дант «падает навзничь, как падает мёртвое тело». Хор повторяет фразу влюблённых из Пролога:
Нет более великой скорби,
Как вспоминать о времени счастливом
В несчастье…
В опере находили много сходства со «Скупым рыцарем», замечали «тень» мотива «Dies irae», различали близость мрачных эпизодов из кантаты «Весна» — музыкальному образу Ланчотто, а образы «белой берёзоньки с зелёною косой» и «тростинки малой» — музыкальному образу Франчески. Но в «дантовской» опере явлены и отблески будущих созданий, симфонических и хоровых: «Острова мёртвых», «Колоколов», «Рапсодии на тему Паганини» и даже самого последнего — «Симфонических танцев».
Рахманинова нетрудно упрекнуть в «кантатности» его опер. Во «Франческе», как и в «Скупом рыцаре», очень важен оркестр. Но как иначе вместить целую трагедию в столь короткое действо? Через лейтмотивы и усиление симфонического начала композитору в малом объёме удалось сказать многое.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
|
Sergei Rachmaninoff |
|
|---|---|

Rachmaninoff in 1921 |
|
| Born | 1 April [O.S. 20 March] 1873
Semyonovo, Staraya Russa, Novgorod Governorate, Russian Empire |
| Died | 28 March 1943 (aged 69)
Beverly Hills, California, U.S. |
| Notable work | List of compositions |
| Signature | |
Sergei Vasilyevich Rachmaninoff[a][b] (1 April [O.S. 20 March] 1873 – 28 March 1943) was a Russian composer, virtuoso pianist, and conductor. Rachmaninoff is widely considered one of the finest pianists of his day and, as a composer, one of the last great representatives of Romanticism in Russian classical music. Early influences of Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, and other Russian composers gave way to a thoroughly personal idiom notable for its song-like melodicism, expressiveness and rich orchestral colours.[4] The piano is featured prominently in Rachmaninoff’s compositional output and he made a point of using his skills as a performer to fully explore the expressive and technical possibilities of the instrument.
Born into a musical family, Rachmaninoff took up the piano at the age of four. He studied with Anton Arensky and Sergei Taneyev at the Moscow Conservatory and graduated in 1892, having already composed several piano and orchestral pieces. In 1897, following the disastrous premiere of his Symphony No. 1, Rachmaninoff entered a four-year depression and composed little until successful supportive therapy allowed him to complete his enthusiastically received Piano Concerto No. 2 in 1901. In the course of the next sixteen years, Rachmaninoff conducted at the Bolshoi Theatre, relocated to Dresden, Germany, and toured the United States for the first time.
Following the Russian Revolution, Rachmaninoff and his family left Russia, and in 1918 they settled in New York City. With his primary source of income coming from performances as a pianist and a conductor, Rachmaninoff had little time to compose. Because of this, he completed just six works between 1918 and 1943, including the Rhapsody on a Theme of Paganini, Symphony No. 3, and Symphonic Dances. By 1942, his declining health led to his relocation to Beverly Hills, California, and later became a US citizen a few weeks before he died of advanced melanoma in 1943.
Life and career[edit]
Ancestry and early years: 1873–1885[edit]
Rachmaninoff was born on 1 April [O.S. 20 March] 1873 into a family of Russian aristocracy in the Russian Empire.[c] The family tradition claims descent from a legendary Vasily, nicknamed «Rachman», a supposed grandson of Stephen III of Moldavia.[5][6] Rachmaninoff’s family had strong musical and military leanings. His paternal grandfather, Arkady Alexandrovich, was a musician who had taken lessons from Irish composer John Field.[5][7] His father, Vasily Arkadievich Rachmaninoff (1841–1916), was an army officer and amateur pianist who married Lyubov Petrovna Butakova (1853–1929), the daughter of a wealthy army general who gave him five estates as part of her dowry. The couple had three sons and three daughters, Sergei being their third child.[8][9][10]
Rachmaninoff was born in the family estate in the village of Semyonovo, near Staraya Russa, Novgorod Governorate. His birth was registered in Semyonovo church book and signed by Priest Platon Savitsky and acolyte Peter Lubochsky.[11][9] After Sergei turned four, the family moved to another house in Oneg estate, about 110 miles north of Semyonovo, and the Semyonovo estate was sold in 1879 by Rachmaninoff’s father. Young Sergei Rachmaninoff was raised in Oneg estate from age four until aged nine, and he mistakenly cited it as his birthplace in his adult life.[12] Rachmaninoff began piano and music lessons organized by his mother at age four.[12] She noticed his ability to reproduce passages from memory without a wrong note. Upon hearing news of the boy’s gift, Arkady suggested she hire Anna Ornatskaya, a teacher and recent graduate of the Saint Petersburg Conservatory, to live with the family and begin formal teaching. Rachmaninoff dedicated his famous romance for voice and piano «Spring Waters» from 12 Romances, Op. 14 to Ornatskaya.[8]
Rachmaninoff’s father, who wanted him to join the military, had to sell the five estates one by one to pay his debts due to his financial incompetence and therefore could not afford an expensive military career for him.[13][14] The last estate in Oneg was auctioned off in 1882,[10] and the family moved to a small flat in Saint Petersburg.[15] In 1883, Ornatskaya arranged for Rachmaninoff, now 10, to study music at the Saint Petersburg Conservatory. Later that year, his sister Sofia died of diphtheria, and his father left the family for Moscow.[16] His maternal grandmother stepped in to help raise the children with particular focus on their religious life, regularly taking Rachmaninoff to Russian Orthodox Church services where he first encountered liturgical chants and church bells, two features he would incorporate in his compositions.[17]
Alexander Siloti and Rachmaninoff
In 1885, Rachmaninoff suffered a further loss when his sister Yelena died at age 18 of pernicious anaemia.[18] She was an important musical influence on Rachmaninoff and had introduced him to the works of Pyotr Ilyich Tchaikovsky.[19] As a respite, his grandmother took him to a farm retreat by the Volkhov River.[20] At the Conservatory, however, he had adopted a relaxed attitude, played truant, failed his general education classes and purposely altered his report cards.[21] Rachmaninoff performed at events held at the Moscow Conservatory during this time, including those attended by the Grand Duke Konstantin and other notable figures. However, upon his failing his spring exams, Ornatskaya notified his mother that his admission to further education might be revoked.[20] His mother then consulted with Alexander Siloti, her nephew and an accomplished pianist and student of Franz Liszt. He recommended transferring Rachmaninoff to the Moscow Conservatory to receive lessons from his former teacher, the more strict Nikolai Zverev,[22] which lasted until 1888.[23]
Moscow Conservatory and first compositions: 1885–1894[edit]
In the autumn of 1885, Rachmaninoff moved in with Zverev and stayed for almost four years, during which he befriended fellow pupil Alexander Scriabin.[24] After two years of tuition, the fifteen year old Rachmaninoff was awarded a Rubinstein scholarship,[25] and graduated from the lower division of the Conservatory to become a pupil of Siloti in advanced piano, Sergei Taneyev in counterpoint, and Anton Arensky in free composition.[26][27] In 1889, a rift formed between Rachmaninoff and Zverev, now his adviser, after Zverev turned down the composer’s request for assistance in renting a piano and greater privacy to compose.[28][29] Zverev, who believed composition was a waste for talented pianists, refused to speak to Rachmaninoff for some time and organised for him to live with his uncle and aunt Satin and their family in Moscow.[30] Rachmaninoff then found his first romance in Vera, the youngest daughter of the neighbouring Skalon family, but her mother objected and forbade Rachmaninoff to write to her, leaving him to correspond with her older sister Natalia.[31] It is from these letters that many of Rachmaninoff’s earliest compositions can be traced.[22]
Ivanovka was the ideal location for Rachmaninoff to compose.
Rachmaninoff spent his summer break in 1890 with the Satins at Ivanovka, their private country estate near Tambov, to which the composer would return many times until 1917.[32] The peaceful and bucolic surroundings became a source of inspiration for the composer who completed many compositions while at the estate, including his Op. 1, the Piano Concerto No. 1, which he completed in July 1891, and dedicated to Siloti.[33][34] Also that year, Rachmaninoff completed the one-movement Youth Symphony and the symphonic poem Prince Rostislav.[35] Siloti left the Moscow Conservatory after the academic year ended in 1891 and Rachmaninoff asked to take his final piano exams a year early to avoid being assigned a different teacher. Despite little faith from Siloti and Conservatory director Vasily Safonov as he had just three weeks’ preparation, Rachmaninoff received assistance from a recent graduate who was familiar with the tests, and passed each one with honours in July 1891. Three days later, he passed his annual theory and composition exams.[36] His progress was unexpectedly halted in the latter half of 1891 when he contracted a severe case of malaria during his summer break at Ivanovka.[37][38]
During his final year at the Conservatory, Rachmaninoff performed his first independent concert, where he premiered his Trio élégiaque No. 1 in January 1892, followed by a performance of the first movement of his Piano Concerto No. 1 two months later.[39][40] His request to take his final theory and composition exams a year early was also granted, for which he wrote Aleko, a one-act opera based on the narrative poem The Gypsies by Alexander Pushkin, in seventeen days.[41][34] It premiered in May 1892 at the Bolshoi Theatre; Tchaikovsky attended and praised Rachmaninoff for his work.[42] Rachmaninoff believed it was «sure to fail», but the production was so successful the theatre agreed to produce it starring singer Feodor Chaliapin, who would go on to become a lifelong friend.[43][22] Aleko earned Rachmaninoff the highest mark at the Conservatory and a Great Gold Medal, a distinction only previously awarded to Taneyev and Arseny Koreshchenko.[22] Zverev, a member of the exam committee, gave the composer his gold watch, thus ending years of estrangement.[44] On 29 May 1892, the Conservatory issued Rachmaninoff a diploma which allowed him to officially style himself as a «Free Artist».[45]
Upon graduating, Rachmaninoff continued to compose and signed a 500-ruble publishing contract with Gutheil, under which Aleko, Two Pieces (Op. 2) and Six Songs (Op. 4) were among the first published.[44] The composer had previously earned 15 rubles a month in giving piano lessons.[46] He spent the summer of 1892 on the estate of Ivan Konavalov, a rich landowner in the Kostroma Oblast, and moved back with the Satins in the Arbat District.[47] Delays in getting paid by Gutheil saw Rachmaninoff seeking other sources of income which led to an engagement at the Moscow Electrical Exhibition in September 1892, his public debut as a pianist, where he premiered his landmark Prelude in C-sharp minor from his five-part piano composition piece Morceaux de fantaisie (Op. 3). He was paid 50 rubles for his appearance.[48][44] It was well received and became one of his most popular and enduring pieces.[49][50] In 1893, he completed his tone poem The Rock, which he dedicated to Rimsky-Korsakov.[51]
In 1893, Rachmaninoff spent a productive summer with friends at an estate in Kharkiv Oblast where he composed several pieces, including Fantaisie-Tableaux (aka Suite No. 1, Op. 5) and Morceaux de salon (Op. 10).[52][53] In September, he published Six Songs (Op. 8), a group of songs set to translations by Aleksey Pleshcheyev of Ukrainian and German poems.[54] Rachmaninoff returned to Moscow, where Tchaikovsky agreed to conduct The Rock for an upcoming European tour. During his subsequent trip to Kyiv to conduct performances of Aleko, he learned of Tchaikovsky’s death from cholera.[55] The news left Rachmaninoff stunned; later that day, he started work on his Trio élégiaque No. 2 for piano, violin and cello as a tribute, which he completed within a month.[56][57] The music’s aura of gloom reveals the depth and sincerity of Rachmaninoff’s grief for his idol.[58] The piece debuted at the first concert devoted to Rachmaninoff’s compositions on 31 January 1894.[57]
Symphony No. 1, depression, and conducting debut: 1894–1900[edit]
Rachmaninoff entered a decline following Tchaikovsky’s death. He lacked the inspiration to compose, and the management of the Grand Theatre had lost interest in showcasing Aleko and dropped it from the program.[59] To earn more money, Rachmaninoff returned to giving piano lessons—which he hated[60]—and in late 1895, agreed to a three-month tour across Russia with a program shared by Italian violinist Teresina Tua. The tour was not enjoyable for the composer and he quit before it ended, thus sacrificing his performance fees. In a more desperate plea for money, Rachmaninoff pawned his gold watch given to him by Zverev.[61] In September 1895, before the tour started, Rachmaninoff completed his Symphony No. 1 (Op. 13), a work conceived in January and based on chants he had heard in Russian Orthodox church services.[61] Rachmaninoff had worked so hard on it that he could not return to composition until he heard the piece performed.[62] This lasted until October 1896, when «a rather large sum of money» that was not his was stolen from Rachmaninoff during a train journey and he had to work to recoup the losses. Among the pieces composed were Six Choruses (Op. 15) and Six moments musicaux (Op. 16), his final completed composition for several months.[63]
Rachmaninoff’s fortunes took a turn following the premiere of his Symphony No. 1 on 28 March 1897 in one of a long-running series of Russian Symphony Concerts devoted to Russian music. The piece was brutally panned by critic and nationalist composer César Cui, who likened it to a depiction of the seven plagues of Egypt, suggesting it would be admired by the «inmates» of a music conservatory in Hell.[64] The deficiencies of the performance, conducted by Alexander Glazunov, were not commented on by other critics,[58] but according to a memoir from Alexander Ossovsky, a close friend of Rachmaninoff, Glazunov made poor use of rehearsal time, and the concert’s program itself, which contained two other premières, was also a factor. Other witnesses, including Rachmaninoff’s wife, suggested that Glazunov, an alcoholic, may have been drunk.[65][66][67] Following the reaction to his first symphony, Rachmaninoff wrote in May 1897 that «I’m not at all affected» by its lack of success or critical reaction, but felt «deeply distressed and heavily depressed by the fact that my Symphony … did not please me at all after its first rehearsal».[68] He thought its performance was poor, particularly Glazunov’s contribution.[66] The piece was not performed for the rest of Rachmaninoff’s life, but he revised it into a four-hand piano arrangement in 1898.[69]
Rachmaninoff fell into a depression that lasted for three years, during which he had writer’s block and composed almost nothing. He described this time as «Like the man who had suffered a stroke and for a long time had lost the use of his head and hands».[69] He made a living by giving piano lessons.[70] A stroke of good fortune came from Savva Mamontov, a Russian industrialist and founder of the Moscow Private Russian Opera, who offered Rachmaninoff the post of assistant conductor for the 1897–98 season. The cash-strapped composer accepted, conducting Samson and Delilah by Camille Saint-Saëns as his first opera on 12 October 1897.[71] By the end of February 1899, Rachmaninoff attempted composition and completed two short piano pieces, Morceau de Fantaisie and Fughetta in F major. Two months later, he travelled to London for the first time to perform and conduct, earning positive reviews.[72]
During his time conducting in Moscow, Rachmaninoff was engaged to Natalia Satina. However, the Russian Orthodox church and Satina’s parents opposed their announcement, thwarting their plans for marriage. Rachmaninoff’s depression worsened in late 1899 following an unproductive summer; he composed one song, «Fate», which later became one of his Twelve Songs (Op. 21), and left compositions for a proposed return visit to London unfulfilled.[73] In an attempt to revive his desire to compose, his aunt arranged for the writer Leo Tolstoy, whom Rachmaninoff greatly admired, to have the composer visit his home and receive words of encouragement. The visit was unsuccessful, doing nothing to help him compose with the fluency he had before.[74][75]
Recovery, emergence, and conducting: 1900–1906[edit]
Rachmaninoff in the early 1900s
By 1900, Rachmaninoff had become so self-critical that, despite numerous attempts, composing had become near impossible. His aunt then suggested professional help, having received successful treatment from a family friend, physician and amateur musician Nikolai Dahl, to which Rachmaninoff agreed without resistance.[76] Between January and April 1900, Rachmaninoff underwent hypnotherapy and supportive therapy sessions with Dahl on a daily basis,[77] specifically structured to improve his sleep patterns, mood, and appetite and reignite his desire to compose. That summer, Rachmaninoff felt that «new musical ideas began to stir» and successfully resumed composition.[78] His first fully completed work, the Piano Concerto No. 2, was finished in April 1901; it is dedicated to Dahl. After the second and third movement premiered in December 1900 with Rachmaninoff as the soloist, the entire piece was first performed in 1901 and was enthusiastically received.[79] The piece earned the composer a Glinka Award, the first of five awarded to him throughout his life, and a 500-ruble prize in 1904.[80]
Amid his professional career success, Rachmaninoff married Natalia Satina on 12 May 1902 after a three-year engagement.[81] Because they were first cousins, the marriage was forbidden under a Canon law imposed by the Russian Orthodox Church; in addition, Rachmaninoff was not a regular church attendee and avoided confession, two things a priest would have had to confirm that he did in signing a marriage certificate.[82] To circumvent the church’s opposition, the couple used their military background and organised a small ceremony in a chapel in a Moscow suburb army barracks with Siloti and the cellist Anatoliy Brandukov as best men.[83][84] They received the smaller of two houses at the Ivanovka estate as a present and went on a three-month honeymoon across Europe.[81] Upon their return, they settled in Moscow, where Rachmaninoff resumed work as a music teacher at St. Catherine’s Women’s College and the Elizabeth Institute.[85] By February 1903 he had completed his largest piano composition of his career at the time, the Variations on a Theme of Chopin (Op. 22).[85] On 14 May 1903, the couple’s first daughter, Irina Sergeyevna Rachmaninova, was born.[86] During their summer break at Ivanovka, the family was struck with illness.[87]
In 1904, in a career change, Rachmaninoff agreed to become the conductor at the Bolshoi Theatre for two seasons. He earned a mixed reputation during his time at the post, enforcing strict discipline and demanding high standards of performance.[88] Influenced by Richard Wagner, he pioneered the modern arrangement of the orchestra players in the pit and the modern custom of standing while conducting. He also worked with each soloist on their part, even accompanying them on the piano.[89] The theatre staged the premiere of his operas The Miserly Knight and Francesca da Rimini.[90]
In the course of his second season as conductor, Rachmaninoff lost interest in his post. The social and political unrest surrounding the 1905 Revolution was beginning to affect the performers and theatre staff, who staged protests and demands for improved wages and conditions. Rachmaninoff remained largely uninterested in the politics surrounding him and the revolutionary spirit had made working conditions increasingly difficult.[91] In February 1906, after conducting 50 performances in the first season and 39 in the second, Rachmaninoff handed in his resignation.[92] He then took his family on an extended tour around Italy with the hope of completing new works, but illness struck his wife and daughter, and they returned to Ivanovka.[93] Money soon became an issue following Rachmaninoff’s resignation from his posts at St. Catherine’s and Elizabeth schools, leaving him only the option of composing.[94]
Move to Dresden and first US tour: 1906–1917[edit]
Increasingly unhappy with the political turmoil in Russia and in need of seclusion from his lively social life to be able to compose, Rachmaninoff with his family left Moscow for Dresden, Germany, in November 1906.[95] The city had become a favourite of both Rachmaninoff and Natalia, and they stayed there until 1909, only returning to Russia for their summer breaks at Ivanovka.[96] In Paris, during the summer of 1907, he saw a black and white reproduction of The Isle of the Dead by Arnold Böcklin, which served as the inspiration for his orchestral work of the same name, Op. 29.[97] Despite occasional periods of depression, apathy, and little faith in any of his work,[98] Rachmaninoff started on his Symphony No. 2 (Op. 27) in 1906, twelve years after the disastrous premiere of his first.[99] While writing it, Rachmaninoff and the family returned to Russia, but the composer detoured to Paris to take part in Sergei Diaghilev’s season of Russian concerts in May 1907. His performance as the soloist in his Piano Concerto No. 2 with an encore of his Prelude in C-sharp minor was a triumphant success.[100] Rachmaninoff regained his sense of self-worth following the enthusiastic reaction to the premiere of his Symphony No. 2 in early 1908, which earned him his second Glinka Award and 1,000 roubles.[101]
While in Dresden, Rachmaninoff agreed to perform and conduct in the United States as part of the 1909–10 concert season with conductor Max Fiedler and the Boston Symphony Orchestra.[102] He spent time during breaks at Ivanovka finishing a new piece specially for the visit, his Piano Concerto No. 3, Op. 30, which he dedicated to Josef Hofmann.[103] The tour saw the composer make 26 performances, 19 as pianist and 7 as conductor, which marked his first recitals without another performer in the program. His first appearance was at Smith College in Northampton, Massachusetts for a recital on 4 November 1909. The second performance of the Piano Concerto No. 3 by the New York Symphony Orchestra was conducted by Gustav Mahler in New York City with the composer as soloist, an experience he personally treasured.[104][105] Though the tour increased the composer’s popularity in America, he declined subsequent offers due to the length of time away from Russia and his family.[106]
Upon his return home in February 1910, Rachmaninoff became vice president of the Imperial Russian Musical Society (IRMS), whose president was a member of the royal family.[107] Later in 1910, Rachmaninoff completed his choral work Liturgy of St. John Chrysostom, Op. 31, but it was banned from performance as it did not follow the format of a typical liturgical church service.[108] For two seasons between 1911 and 1913, Rachmaninoff was appointed permanent conductor of the Philharmonic Society of Moscow; he helped raise its profile and increase audience numbers and receipts.[109] In 1912, Rachmaninoff left the IRMS when he learned that a musician in an administrative post was dismissed for being Jewish.[110]
Soon after his resignation, an exhausted Rachmaninoff sought time for composition and took his family on holiday to Switzerland. They left after one month for Rome for a visit that became a particularly tranquil and influential period for the composer, who lived alone in a small apartment on Piazza di Spagna while his family stayed at a boardinghouse.[111][112] While there he received an anonymous letter that contained a Russian translation of Edgar Allan Poe’s poem The Bells by Konstantin Balmont, which affected him greatly, and he began work on his choral symphony of the same title, Op. 35, based on it.[113] This period of composition ended abruptly when Rachmaninoff’s daughters contracted serious cases of typhoid and were treated in Berlin due to their father’s greater trust in German doctors. After six weeks, the Rachmaninoffs returned to their Moscow flat.[114] The composer conducted The Bells at its premiere in Saint Petersburg in late 1913.[115]
In January 1914, Rachmaninoff began a concert tour of England which was enthusiastically received.[115] He was too afraid to travel alone following the death of Raoul Pugno of an unexpected heart attack in his hotel room which left the composer wary of a similar fate.[114] Following the outbreak of the First World War later that year, his position of Inspector of Music at Nobility High School for Girls put him in the group of government servants which prevented him from joining the army, yet the composer made regular charitable donations for the war effort.[116] In 1915, Rachmaninoff completed his second major choral work, All-Night Vigil (Op. 37).[117] It was received so warmly at its Moscow premiere in aid of war relief that four subsequent performances were quickly scheduled.[118]
Alexander Scriabin’s death in April 1915 was a tragedy for Rachmaninoff, who went on a piano recital tour devoted to his friend’s compositions to raise funds for Scriabin’s financially stricken widow.[119] It marked his first public performances of works other than his own.[120] During a vacation in Finland that summer, Rachmaninoff learned of Taneyev’s death, a loss which affected him greatly.[121] By year’s end he had finished his 14 Romances, Op. 34, whose final section, Vocalise, became one of his most popular pieces.[122]
Leaving Russia, immigration to the US, and concert pianist: 1917–1925[edit]
On the day the February 1917 Revolution began in Saint Petersburg, Rachmaninoff performed a piano recital in Moscow in aid of wounded Russian soldiers who had fought in the war.[123] He returned to Ivanovka two months later, finding it in chaos after a group of Social Revolutionary Party members seized it as their own communal property.[124] Despite having invested most of his earnings on the estate, Rachmaninoff left the property after three weeks, vowing never to return.[125] It was soon confiscated by the communist authorities and became derelict.[126] In June 1917, Rachmaninoff asked Siloti to produce visas for him and his family so they could leave Russia, but Siloti was unable to help. After a break with his family in the more peaceful Crimea, Rachmaninoff’s concert performance in Yalta on 5 September 1917 was to be his last in Russia. Upon returning to Moscow, the political tension surrounding the October Revolution found the composer keeping his family safe indoors and being involved in a collective at his apartment building where he attended committee meetings and kept guard at night. He completed revisions to his Piano Concerto No. 1 among gunshots and rallies outside.[127][128]
Amidst such turmoil, Rachmaninoff received an unexpected offer to perform ten piano recitals across Scandinavia, which he immediately accepted, using it as an excuse to obtain permits so he and his family could leave the country.[129] On 22 December 1917, they left Saint Petersburg by train to the Finnish border, from where they travelled through Finland on an open sled and train to Helsinki. Carrying what they could pack into their small suitcases, Rachmaninoff brought some sketches of compositions and scores to the first act of his unfinished opera Monna Vanna and Rimsky-Korsakov’s opera The Golden Cockerel. They arrived in Stockholm, Sweden, on 24 December.[130] In January 1918, they relocated to Copenhagen, Denmark, and, with the help of friend and composer Nikolai von Struve, settled on the ground floor of a house.[131] In debt and in need of money, the 44-year-old Rachmaninoff chose performing as his main source of income, as a career solely in composition was too restrictive.[132] His piano repertoire was small, which prompted the start of regular practice of his technique and learning new pieces to play. Rachmaninoff toured between February and October 1918.[133][134]
During the Scandinavian tour, Rachmaninoff received three offers from the US: to become the conductor of the Cincinnati Symphony Orchestra for two years, to conduct 110 concerts in 30 weeks for the Boston Symphony Orchestra, and to give 25 piano recitals.[134] He was worried about such a commitment in an unfamiliar country and had few good memories from his debut tour in 1909, so he declined all three. Not long after his decision, Rachmaninoff considered the United States financially advantageous as he could not support his family through composition alone. Unable to afford the travel fees, he was sent an advance loan for the journey by Russian banker and fellow emigre Alexander Kamenka.[134] Money was also received from friends and admirers; pianist Ignaz Friedman contributed $2,000.[132] On 1 November 1918, the Rachmaninoffs boarded the SS Bergensfjord in Oslo, Norway, bound for New York City, arriving eleven days later. News of the composer’s arrival spread, causing a crowd of musicians, artists, and fans to gather outside The Sherry-Netherland hotel, where he was staying.[134]
Rachmaninoff quickly dealt with business, hiring a young woman[who?] as his secretary, interpreter, and aide in dealing with American life.[135] He reunited with Josef Hofmann, who informed several concert managers that the composer was available and suggested he choose Charles Ellis as his booking agent. Ellis organised 36 performances for Rachmaninoff for the upcoming 1918–1919 concert season; the first, a piano recital, took place on 8 December at Providence, Rhode Island. Rachmaninoff, still in recovery from a case of the Spanish flu, included his arrangement of «The Star-Spangled Banner» in the program.[136][137] Before the tour he had received offers from numerous piano manufacturers to tour with their instruments; he chose Steinway, the only one that did not offer him money. Steinway’s association with Rachmaninoff continued for the rest of his life.[138][139]
Rachmaninoff in front of a giant Redwood tree in California, 1919
After the first tour ended in April 1919, Rachmaninoff took his family on a break to San Francisco. He recuperated and prepared for the upcoming season, a cycle that he would adopt for most of his remaining life. As a touring performer Rachmaninoff became financially secure without much difficulty, and the family lived an upper middle class life with servants, a chef, and chauffeur.[140] They recreated the atmosphere of Ivanovka in their New York City apartment by entertaining Russian guests, employing Russians, and continuing to observe Russian customs.[141] Despite the ability to speak some English, Rachmaninoff had his correspondence translated into Russian.[142] He enjoyed some personal luxuries, including quality tailored suits and the latest model of cars.[140]
In 1920, Rachmaninoff signed a recording contract with the Victor Talking Machine Company which earned him some much needed income and began his longtime association with RCA.[138] During a family holiday in Goshen, New York, that summer he learned of von Struve’s accidental death, prompting Rachmaninoff to strengthen the ties he had with those still in Russia by arranging with his bank to send regular money and food parcels to his family, friends, students, and those in need.[143][144] Early 1921 saw Rachmaninoff apply for documentation to visit Russia, the only time he would do so after leaving the country, but progress ceased when he underwent surgery for pain in his right temple. The operation failed to relieve his symptoms and relief only came after having dental work years later.[143] After leaving hospital, he purchased an apartment on 33 Riverside Drive on the Upper West Side of Manhattan, overlooking the Hudson River.[143]
Rachmaninoff’s first visit to Europe since emigrating occurred in May 1922, with concerts in London.[145] This was followed by the Rachmaninoffs and the Satins reuniting in Dresden, after which the composer prepared for a hectic 1922–1923 concert season of 71 performances in five months.[146] For a while, he rented a railway carriage that was fitted with a piano and belongings to save time with suitcases.[147] In 1924, Rachmaninoff declined an invitation to become conductor of the Boston Symphony Orchestra.[132] In the following year, after the death of the husband of his daughter Irina, he founded TAIR (Tatiana and Irina), a Paris publishing company named after his daughters that specialised in works by himself and other Russian composers.[148]
Touring, final compositions, and Villa Senar: 1926–1942[edit]
Rachmaninoff’s life as a touring performer, and the demanding schedules that came with it, caused his compositional output to slow significantly. In the 24 years between his arrival in the US and his death, he completed just six new pieces, revised some of his earlier works, and wrote piano transcriptions for his live repertoire.[149] He admitted that by leaving Russia, «I left behind my desire to compose: losing my country, I lost myself also».[150] In 1926, having concentrated on touring for the past eight years, he took a year off and completed the Piano Concerto No. 4, which he had started in 1917, and Three Russian Songs, which he dedicated to Leopold Stokowski.[151][152]
Rachmaninoff sought the company of fellow Russian musicians and befriended pianist Vladimir Horowitz in 1928.[153] The men remained supportive of each other’s work, each making a point of attending concerts given by the other,[154] and Horowitz remained a champion of Rachmaninoff’s works and in particular his Piano Concerto No. 3.[155] In 1930, in a rare occurrence, Rachmaninoff allowed Italian composer Ottorino Respighi to orchestrate pieces from his Études-Tableaux, Op. 33 (1911) and the Études-Tableaux, Op. 39 (1917), giving Respighi the inspirations behind the compositions.[156] In 1931, Rachmaninoff and several others signed an article in The New York Times that criticised the cultural policies of the Soviet Union.[157] The composer’s music suffered a boycott in Russia as a result from the backlash in the Soviet press, lasting until 1933.[145]
From 1929 to 1931, Rachmaninoff spent his summers in France at Clairefontaine-en-Yvelines near Rambouillet, meeting with fellow Russian émigrés and his daughters. By 1930, his desire to compose had returned and sought a new location to write new pieces. He bought a plot of land near Hertenstein on the banks of Lake Lucerne, Switzerland, and oversaw the construction of his home which he named Villa Senar after the first two letters of his and his wife’s name, adding the «r» from the family name.[145][158] Rachmaninoff spent his summers at Villa Senar until 1939, often with his daughters and grandchildren, with whom he would drive his motorboat on Lake Lucerne, one of his favourite activities.[158] In the comfort of his own home, Rachmaninoff completed Rhapsody on a Theme of Paganini in 1934 and the Symphony No. 3 in 1936.
In October 1932, Rachmaninoff began a demanding concert season that consisted of 50 performances. The tour marked the fortieth anniversary of his debut as a pianist, for which several of his Russian friends now living in America sent him a scroll and wreath in celebration.[159] The frail economic situation in the US resulted in the composer performing to smaller audiences, and he lost money in his investments and shares. The European leg in 1933 saw Rachmaninoff celebrate his sixtieth birthday among fellow musicians and friends, after which he retreated to Villa Senar for the summer.[159] In May 1934, Rachmaninoff underwent a minor operation and two years later, he retreated to Aix-les-Bains in France to improve his arthritis.[160] During a visit to Villa Senar in 1937, Rachmaninoff entered talks with choreographer Michel Fokine about a ballet based on Niccolò Paganini that was to feature his rhapsody. It premiered in London in 1939 with the composer’s daughters in attendance.[161] In 1938, Rachmaninoff performed his Piano Concerto No. 2 at a charity jubilee concert at London’s Royal Albert Hall to celebrate Henry Wood, founder of the Promenade concerts and an admirer of Rachmaninoff’s who wanted him to be the show’s only soloist. Rachmaninoff agreed, so long the performance was not broadcast on the radio due to his aversion for the medium.[162]
The 1939–40 concert season saw Rachmaninoff perform fewer concerts than usual, totalling 43 appearances that were mostly in the US. The tour continued with dates across England, after which Rachmaninoff visited his daughter Tatyana in Paris followed by a return to Villa Senar. He was unable to perform for a while after slipping on the floor at the villa and injuring himself.[163] He recovered enough to perform at the Lucerne International Music Festival on 11 August 1939. It was to be his final concert in Europe. He returned to Paris two days later, where he, his wife, and two daughters were together for the last time before the composer left a now war-torn Europe on 23 August.[164][165] With financial help from Rachmaninoff, Ivan Ilyin was able to pay the bail and settle in Switzerland. Rachmaninoff would support the Soviet Union’s war effort against Nazi Germany throughout the course of World War II, donating receipts from many of his concerts that season in benefit of the Red Army.[166]
Upon his return to the US, Rachmaninoff performed with the Philadelphia Orchestra in New York City with conductor Eugene Ormandy on 26 November and 3 December 1939, as part of the orchestra’s special series of concerts dedicated to the composer in celebration of the thirtieth anniversary of his US debut.[167] The final concert on 10 December saw Rachmaninoff conduct his Symphony No. 3 and The Bells, marking his first conducting performance since 1917.[168] The concert season left Rachmaninoff tired, and he spent the summer resting from minor surgery at Orchard’s Point, an estate near Huntington, New York on Long Island.[169] During this restful period Rachmaninoff completed his final composition, the Symphonic Dances, Op. 45. It is his only piece he composed in its entirety while living in the US. Ormandy and the Philadelphia Orchestra premiered the piece in January 1941, which Rachmaninoff attended.[167]
In December 1939, Rachmaninoff began an extensive recording period which lasted until February 1942 and included his Piano Concerto Nos. 1 and 3 and Symphony No. 3 at the Philadelphia Academy of Music.[168] In the early 1940s, Rachmaninoff was approached by the makers of the British film Dangerous Moonlight to write a short concerto-like piece for use in the film, but he declined, and instead the job went to Richard Addinsell, who wrote the Warsaw Concerto.
Illness, move to California, and death: 1942–43[edit]
Sergei Rachmaninoff house at 610 Elm Drive in Beverly Hills, California.
In early 1942, Rachmaninoff was advised by his doctor to relocate to a warmer climate to improve his health after suffering from sclerosis, lumbago, neuralgia, high blood pressure, and headaches.[170] After completing his final studio recording sessions during this time in February,[171] a move to Long Island fell through after the composer and his wife expressed a greater interest in California, and initially settled in a leased home on Tower Road in Beverly Hills in May.[170][167] In June they purchased a home at 610 North Elm Drive in Beverly Hills, living close to Horowitz who would often visit and perform piano duets with Rachmaninoff.[172][164] Later in 1942, Rachmaninoff invited Igor Stravinsky to dinner, the two sharing their worries of a war-torn Russia and their children in France.[173][174]
Statue commemorating Rachmaninoff’s last concert, in Knoxville, TN
Shortly after a performance at the Hollywood Bowl in July 1942, Rachmaninoff was suffering from lumbago and fatigue. He informed his doctor, Alexander Golitsyn, that the upcoming 1942–43 concert season would be his last, in order to dedicate his time to composition.[175][167] The tour began on 12 October 1942 and the composer received many positive reviews from critics despite his deteriorating health.[167] Rachmaninoff and his wife Natalia were among the 220 people who became naturalised American citizens at a ceremony held in New York City on 1 February 1943.[152][176] Later that month he complained of persistent cough and back pain; a doctor diagnosed him with pleurisy and advised that a warmer climate would aid in his recovery. Rachmaninoff opted to continue with touring, but felt so ill during his travels to Florida that the remaining dates were cancelled and he returned to California by train, where an ambulance took him to hospital. It was then that Rachmaninoff was diagnosed with an aggressive form of melanoma. His wife took Rachmaninoff home where he reunited with his daughter Irina.[177] His last appearances as a concerto soloist—Beethoven’s First Piano Concerto and his Rhapsody on a Theme of Paganini—were on February 11 and 12 with the Chicago Symphony Orchestra under the baton of Hans Lange.[178] On February 17, at the University of Tennessee in Knoxville, Tennessee, he gave his last recital, the program of which included Chopin’s Piano Sonata n°2 in B-flat minor, or Funeral Sonata — sadly appropriate for the occasion. [179][180][181]
Rachmaninoff’s health rapidly declined in the last week of March 1943. He lost his appetite, had constant pain in his arms and sides, and found it increasingly difficult to breathe. On 26 March, the composer lost consciousness and he died two days later, four days before his seventieth birthday.[182] A message from several Moscow composers with greetings had arrived too late for Rachmaninoff to read it.[182] His funeral took place at the Holy Virgin Mary Russian Orthodox Church on Micheltorena Street in Silver Lake.[183] In his will, Rachmaninoff wished to be buried at Novodevichy Cemetery in Moscow, where Scriabin, Taneyev, and Chekhov were buried, but his American citizenship made that impossible.[184] Instead, he was interred at Kensico Cemetery in Valhalla, New York.[185]
In August 2015, Russia announced its intention to seek reburial of Rachmaninoff’s remains in Russia, claiming that Americans have neglected the composer’s grave while attempting to «shamelessly privatize» his name. The composer’s descendants have resisted this idea, pointing out that he died in the U.S. after spending decades outside of Russia in self-imposed political exile.[186][187]
After Rachmaninoff’s death, poet Marietta Shaginyan published fifteen letters they exchanged from their first contact in February 1912 and their final meeting in July 1917.[188] The nature of their relationship bordered on romantic, but was primarily intellectual and emotional. Shaginyan and the poetry she shared with Rachmaninoff have been cited as the inspiration for his Six Songs, Op. 38.[189]
Music[edit]
Works[edit]
Rachmaninoff wrote five works for piano and orchestra: four concertos—No. 1 in F-sharp minor, Op. 1 (1891, revised 1917), No. 2 in C minor, Op. 18 (1900–01), No. 3 in D minor, Op. 30 (1909), and No. 4 in G minor, Op. 40 (1926, revised 1928 and 1941)—and the Rhapsody on a Theme of Paganini. Of the concertos, the Second and Third are the most popular.[190]
Rachmaninoff also composed a number of works for orchestra alone. The three symphonies: No. 1 in D minor, Op. 13 (1895), No. 2 in E minor, Op. 27 (1907), and No. 3 in A minor, Op. 44 (1935–36). Widely spaced chronologically, the symphonies represent three distinct phases in his compositional development. The Second has been the most popular of the three since its first performance. Among Rachmaninoff’s other orchestral works are his Symphonic Dances (Op. 45), his last major composition, and his four symphonic poems: Prince Rostislav, The Rock (Op. 7), Caprice bohémien (Op. 12), and The Isle of the Dead (Op. 29).
As Rachmaninoff was a skilled pianist, a large portion of his compositional output consists of works for solo piano. They include 24 Preludes traversing all 24 major and minor keys; Prelude in C-sharp minor (Op. 3, No. 2) from Morceaux de fantaisie (Op. 3); ten preludes in Op. 23; and thirteen in Op. 32. Especially difficult are the two sets of Études-Tableaux, Op. 33 and 39, which are very demanding study pictures. Stylistically, Op. 33 hearkens back to the preludes, while Op. 39 shows the influences of Scriabin and Prokofiev. There are also the Six moments musicaux (Op. 16), the Variations on a Theme of Chopin (Op. 22), and the Variations on a Theme of Corelli (Op. 42). He wrote two piano sonatas, both of which are large scale and virtuosic in their technical demands. Rachmaninoff also composed works for two pianos, four hands, including two Suites (the first subtitled Fantasie-Tableaux), a version of the Symphonic Dances (Op. 45), and an arrangement of the C-sharp minor Prelude, as well as a Russian Rhapsody, and he arranged his First Symphony (below) for piano four hands. Both these works were published posthumously.
Rachmaninoff wrote two major a cappella choral works—the Liturgy of St. John Chrysostom and the All-Night Vigil (also known as the Vespers). It was the fifth movement of All-Night Vigil that Rachmaninoff requested to have sung at his funeral. Other choral works include a choral symphony, The Bells; the cantata Spring; the Three Russian Songs; and an early Concerto for Choir (a cappella).
He completed three one-act operas: Aleko (1892), The Miserly Knight (1903), and Francesca da Rimini (1904). He started three others, notably Monna Vanna, based on the work by Maurice Maeterlinck; copyright in this had been extended to the composer Février,[191] and, though the restriction did not pertain to Russia, Rachmaninoff dropped the project after completing Act I in piano vocal score in 1908.[d] Aleko is regularly performed and has been recorded complete at least eight times, and filmed. The Miserly Knight adheres to Pushkin’s «little tragedy». Francesca da Rimini exists somewhat in the shadow[citation needed] of the opera of the same name by Riccardo Zandonai.
Rachmaninoff, similarly to many Russian composers of his time, wrote relatively little chamber music.[192] His output in the genre includes two piano trios, both of which are named Trio Elégiaque (the second of which is a memorial tribute to Tchaikovsky), a Cello Sonata, and the Morceaux de salon for violin and piano.
Rachmaninoff composed a total of 83 songs (románsy in Russian) for voice and piano, all of which were written before he left Russia permanently in 1917.[193][194] Most of his songs were set to texts by Russian romantic writers and poets,[193] such as Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov, Afanasy Fet, Anton Chekhov and Aleksey Tolstoy, among others. His most popular song is the wordless Vocalise, which he later arranged for orchestra.[195]
Compositional style[edit]
«Vocalise» performed by Roxana Pavel (violin) and Monica Pavel (piano)
Rachmaninoff’s style was initially influenced by Tchaikovsky. By the mid-1890s, however, his compositions began showing a more individual tone. His First Symphony has many original features. Its brutal gestures and uncompromising power of expression were unprecedented in Russian music at the time. Its flexible rhythms, sweeping lyricism, and stringent economy of thematic material were all features he kept and refined in subsequent works. Following the poor reception of the symphony and three years of inactivity, Rachmaninoff’s individual style developed significantly. He started leaning towards sumptuous harmonies and broadly lyrical, often passionate melodies. His orchestration became subtler and more varied, with textures carefully contrasted. Overall, his writing became more concise.[196]
Especially important is Rachmaninoff’s use of unusually widely spaced chords for bell-like sounds: this occurs in many pieces, most notably in the choral symphony The Bells, the Second Piano Concerto, the E-flat major Étude-Tableaux (Op. 33, No. 7), and the B minor Prelude (Op. 32, No. 10). «It is not enough to say that the church bells of Novgorod, St Petersburg and Moscow influenced Rachmaninov and feature prominently in his music. This much is self-evident. What is extraordinary is the variety of bell sounds and breadth of structural and other functions they fulfill.»[197] He was also fond of Russian Orthodox chants. He used them most perceptibly in his Vespers, but many of his melodies found their origins in these chants. The opening melody of the First Symphony is derived from chants. (The opening melody of the Third Piano Concerto, on the other hand, is not derived from chants; when asked, Rachmaninoff said that «it had [written] itself».)[198][199]
Rachmaninoff with a piano score
Rachmaninoff’s frequently used motifs include the Dies Irae, often just the fragments of the first phrase.
Rachmaninoff had great command of counterpoint and fugal writing, thanks to his studies with Taneyev. The above-mentioned occurrence of the Dies Irae in the Second Symphony (1907) is but a small example of this. Very characteristic of his writing is chromatic counterpoint. This talent was paired with a confidence in writing in both large- and small-scale forms. The Third Piano Concerto especially shows a structural ingenuity, while each of the preludes grows from a tiny melodic or rhythmic fragment into a taut, powerfully evocative miniature, crystallizing a particular mood or sentiment while employing a complexity of texture, rhythmic flexibility and a pungent chromatic harmony.[200]
His compositional style had already begun changing before the October Revolution deprived him of his homeland. The harmonic writing in The Bells was composed in 1913 but not published until 1920. This may have been due to Rachmaninoff’s main publisher, Gutheil, having died in 1914 and Gutheil’s catalog being acquired by Serge Koussevitsky.[201] It became as advanced as in any of the works Rachmaninoff would write in Russia, partly because the melodic material has a harmonic aspect which arises from its chromatic ornamentation.[202] Further changes are apparent in the revised First Piano Concerto, which he finished just before leaving Russia, as well as in the Op. 38 songs and Op. 39 Études-Tableaux. In both these sets Rachmaninoff was less concerned with pure melody than with coloring. His near-Impressionist style perfectly matched the texts by symbolist poets.[203] The Op. 39 Études-Tableaux are among the most demanding pieces he wrote for any medium, both technically and in the sense that the player must see beyond any technical challenges to a considerable array of emotions, then unify all these aspects.[204]
The composer’s friend Vladimir Wilshaw noticed this compositional change continuing in the early 1930s, with a difference between the sometimes very extroverted Op. 39 Études-Tableaux (the composer had broken a string on the piano at one performance) and the Variations on a Theme of Corelli (Op. 42, 1931). The variations show an even greater textural clarity than in the Op. 38 songs, combined with a more abrasive use of chromatic harmony and a new rhythmic incisiveness. This would be characteristic of all his later works—the Piano Concerto No. 4 (Op. 40, 1926) is composed in a more emotionally introverted style, with a greater clarity of texture. Nevertheless, some of his most beautiful (nostalgic and melancholy) melodies occur in the Third Symphony, Rhapsody on a Theme of Paganini, and Symphonic Dances.[203]
Music theorist and musicologist Joseph Yasser, as early as 1951, uncovered progressive tendencies in Rachmaninoff’s compositions. He uncovered Rachmaninoff’s use of an intra-tonal chromaticism that stands in notable contrast to the inter-tonal chromaticism of Richard Wagner and strikingly contrasts the extra-tonal chromaticism of the more radical twentieth century composers like Arnold Schoenberg. Yasser postulated that a variable, subtle, but unmistakable characteristic use of this intra-tonal chromaticism permeated Rachmaninoff’s music.[205]
Reputation and legacy[edit]
A Russian Federation commemorative Rachmaninoff coin
Rachmaninoff’s reputation as a composer generated a variety of opinions before his music gained steady recognition around the world. The 1954 edition of the Grove Dictionary of Music and Musicians notoriously dismissed Rachmaninoff’s music as «monotonous in texture … consist[ing] mainly of artificial and gushing tunes» and predicted that his popular success was «not likely to last».[206][207] To this, Harold C. Schonberg, in his Lives of the Great Composers, responded: «It is one of the most outrageously snobbish and even stupid statements ever to be found in a work that is supposed to be an objective reference.»[206]
The Conservatoire Rachmaninoff in Paris, as well as streets in Veliky Novgorod (which is close to his birthplace) and Tambov, are named after the composer. In 1986, the Moscow Conservatory dedicated a concert hall on its premises to Rachmaninoff, designating the 252-seat auditorium Rachmaninoff Hall, and in 1999 the «Monument to Sergei Rachmaninoff» was installed in Moscow. A separate monument to Rachmaninoff was unveiled in Veliky Novgorod, near his birthplace, on 14 June 2009. The 2015 musical Preludes by Dave Malloy depicts Rachmaninoff’s struggle with depression and writer’s block.
A statue marked «Rachmaninoff: The Last Concert», designed and sculpted by Victor Bokarev, stands at the World’s Fair Park in Knoxville, Tennessee, as a tribute to the composer. In Alexandria, Virginia in 2019, a Rachmaninoff concert performed by the Alexandria Symphony Orchestra played to wide acclaim. Attendees were treated to a talk prior to the performance by Rachmaninoff’s great-granddaughter, Natalie Wanamaker Javier, who joined Rachmaninoff scholar Francis Crociata and Library of Congress music specialist Kate Rivers on a panel of discussants about the composer and his contributions.[208]
Pianism[edit]
Playing his famous Prelude in C♯ minor. Composed when he was 19, the piece established his fame in America. Recorded in 1919.
Rachmaninoff ranked among the finest pianists of his time,[209] along with Leopold Godowsky, Ignaz Friedman, Moriz Rosenthal, Josef Lhévinne, Ferruccio Busoni, and Josef Hofmann, and he was famed for possessing a clean and virtuosic technique. His playing was marked by precision, rhythmic drive, notable use of staccato and the ability to maintain clarity when playing works with complex textures. Rachmaninoff applied these qualities in music by Chopin, including the B-flat minor Piano Sonata. Rachmaninoff’s repertoire, excepting his own works, consisted mainly of standard 19th century virtuoso works plus music by Bach, Beethoven, Borodin, Debussy, Grieg, Liszt, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Schumann and Tchaikovsky.[210]
The two pieces Rachmaninoff singled out for praise from Rubinstein’s concerts became cornerstones for his own recital programs. The compositions were Beethoven’s Appassionata and Chopin’s Funeral March Sonata. He may have based his interpretation of the Chopin sonata on that of Rubinstein. Rachmaninoff biographer Barrie Martyn points out similarities between written accounts of Rubinstein’s interpretation and Rachmaninoff’s audio recording of the work.[211]
Technique[edit]
Rachmaninoff possessed large hands,[212] with which he could easily maneuver through the most complex chordal configurations. His left hand technique was unusually powerful. His playing was marked by definition—where other pianists’ playing became blurry-sounding from overuse of the pedal or deficiencies in finger technique, Rachmaninoff’s textures were always crystal clear. Only Josef Hofmann and Josef Lhévinne shared this kind of clarity with him.[213] All three men had Anton Rubinstein as a model for this kind of playing—Hofmann as a student of Rubinstein’s,[214] Rachmaninoff from hearing his famous series of historical recitals in Moscow while studying with Zverev,[215] and Lhévinne from hearing and playing with him.
Tone[edit]
Rachmaninoff seated at a Steinway grand piano
Of Rachmaninoff’s tone, Arthur Rubinstein wrote:
I was always under the spell of his glorious and inimitable tone which could make me forget my uneasiness about his too rapidly fleeting fingers and his exaggerated rubatos. There was always the irresistible sensuous charm, not unlike Kreisler’s.[216]
Coupled to this tone was a vocal quality not unlike that attributed to Chopin’s playing. With Rachmaninoff’s extensive operatic experience, he was a great admirer of fine singing. As his records demonstrate, he possessed a tremendous ability to make a musical line sing, no matter how long the notes or how complex the supporting texture, with most of his interpretations taking on a narrative quality. With the stories he told at the keyboard came multiple voices—a polyphonic dialogue, not the least in terms of dynamics. His 1940 recording of his transcription of the song «Daisies» captures this quality extremely well. On the recording, separate musical strands enter as if from various human voices in eloquent conversation. This ability came from an exceptional independence of fingers and hands.[217]
Interpretations[edit]
Rachmaninoff playing his Steinway grand piano at his home (1936 or before)
Regardless of the music, Rachmaninoff always planned his performances carefully. He based his interpretations on the theory that each piece of music has a «culminating point». Regardless of where that point was or at which dynamic within that piece, the performer had to know how to approach it with absolute calculation and precision; otherwise, the whole construction of the piece could crumble and the piece could become disjointed. This was a practice he learned from Russian bass Feodor Chaliapin, a staunch friend.[210] Paradoxically, Rachmaninoff often sounded like he was improvising, though he actually was not. While his interpretations were mosaics of tiny details, when those mosaics came together in performance, they might, according to the tempo of the piece being played, fly past at great speed, giving the impression of instant thought.[218]
One advantage Rachmaninoff had in this building process over most of his contemporaries was in approaching the pieces he played from the perspective of a composer rather than that of an interpreter. He believed «interpretation demands something of the creative instinct. If you are a composer, you have an affinity with other composers. You can make contact with their imaginations, knowing something of their problems and their ideals. You can give their works color. That is the most important thing for me in my interpretations, color. So you make music live. Without color it is dead.»[219] Nevertheless, Rachmaninoff also possessed a far better sense of structure than many of his contemporaries, such as Hofmann, or the majority of pianists from the previous generation, judging from their respective recordings.[217]
A recording which showcases Rachmaninoff’s approach is the Liszt Second Polonaise, recorded in 1925. Percy Grainger, who had been influenced by the composer and Liszt specialist Ferruccio Busoni, had himself recorded the same piece a few years earlier. Rachmaninoff’s performance is far more taut and concentrated than Grainger’s. The Russian’s drive and monumental conception bear a considerable difference to the Australian’s more delicate perceptions. Grainger’s textures are elaborate. Rachmaninoff shows the filigree as essential to the work’s structure, not simply decorative.[220]
Hand size and medical speculations[edit]
Along with his musical gifts, Rachmaninoff possessed physical gifts that placed him in good stead as a pianist, including large hands with a gigantic finger stretch. Cyril Smith noted that Rachmaninoff could play a twelfth with the left hand, and his right hand could play the notes C (index), E (thumb), G, C, and E.[221][222]
His hand size, in addition to his considerable height, slender frame, long limbs, narrow head, prominent ears, and thin nose has led to the suggestion that he may have had Marfan syndrome, a hereditary disorder of the connective tissue. This syndrome would have accounted for several minor ailments he suffered all his life, including back pain, arthritis, eye strain, and bruising of the fingertips.[223] An article in the Journal of the Royal Society of Medicine, however, pointed out that Rachmaninoff did not show many of the typical signs of Marfan syndrome, and instead suggested that he may have had acromegaly, which, the article speculated, would possibly have accounted for stiffness Rachmaninoff experienced in his hands, and for the repeated periods of depression he experienced throughout his life, and could have possibly even been connected to his melanoma.[224]
Recordings[edit]
Upon arriving in America, Rachmaninoff’s poor financial situation prompted him in 1919 to record a selection of piano pieces for Edison Records on their «Diamond Disc» records, in a limited contract for ten released sides.[225] Rachmaninoff felt his performances varied in quality and requested final approval prior to a commercial release. Edison agreed, but still issued multiple takes, an unusual practice which was standard at Edison Records. Rachmaninoff and Edison Records were pleased with the released discs and wished to record more, but Edison refused, saying the ten sides were sufficient. This, in addition to technical issues in the recordings and Edison’s lack of musical taste, led to Rachmaninoff’s annoyance with the company, and as soon as his contract ended he left Edison Records.[226]
A Victor advertisement from March 1921 featuring Rachmaninoff
In 1920, Rachmaninoff signed a contract with the Victor Talking Machine Company (later RCA Victor).[227] Unlike Edison, the company was pleased to comply with his requests, and proudly advertised Rachmaninoff as one of their prominent recording artists. He continued to record for Victor until 1942, when the American Federation of Musicians imposed a recording ban on their members in a strike over royalty payments. Rachmaninoff died in March 1943, over a year and a half before RCA Victor settled with the union and resumed commercial recording activity.
| External audio |
|---|
When Rachmaninoff recorded his works, he would seek perfection, often re-recording them until he was satisfied.[228][229] Particularly renowned are his renditions of Schumann’s Carnaval and Chopin’s Piano Sonata No. 2, along with many shorter pieces. He recorded all four of his piano concertos with the Philadelphia Orchestra; the first, third, and fourth concertos were recorded with Eugene Ormandy in 1939–41, and two versions of the second concerto with Leopold Stokowski in 1924 and 1929.[230] He also made a recording of the Rhapsody on a Theme of Paganini, soon after its first performance (1934) with the Philadelphians under Stokowski, in addition to three recordings he made as conductor with the Philadelphia Orchestra, playing his own Third Symphony, his symphonic poem Isle of the Dead, and his orchestration of Vocalise.[230][e]
Rachmaninoff was also involved in various ways with music on piano rolls. From 1919 to 1929 he made 35 piano rolls (12 of which were his own compositions), for the American Piano Company (Ampico)’s reproducing piano.[231][232] For demonstration purposes, he recorded the solo part of his Second Piano Concerto for Ampico, though only the second movement was used publicly and has survived. He continued to record until around 1929, though his last roll, the Chopin Scherzo in B-flat minor, was not published until October 1933.[233]
References[edit]
Notes[edit]
- ^ Sergei Rachmaninoff was the spelling he used while living in the United States from 1918 until his death. The Library of Congress standardised this usage.[1] His name is also commonly spelled Rachmaninov or Rakhmaninov.
- ^ rakh-MAN-in-off,[2] rahkh-MAH-nin-awf, -off;[3] Russian: Серге́й Васи́льевич Рахма́нинов, tr. Sergéy Vasíl’yevich Rakhmáninov, IPA: [sʲɪrˈɡʲej vɐˈsʲilʲjɪvʲɪtɕ rɐxˈmanʲɪnəf]; Сергѣй Васильевичъ Рахманиновъ in Russian pre-revolutionary script.
- ^ While the Library of Congress lists Rachmaninoff’s birthdate as 1 April,[1] his birthdate is listed as 2 April [O.S. 21 March] 1873 on his grave, and he himself celebrated his birthdate on 2 April.
- ^ This act was later orchestrated by Igor Buketoff in 1984, and performed in the U.S.
- ^ The entire collection of Rachmaninoff’s recordings were reissued in 1992 by RCA Victor in a 10-CD set entitled «Sergei Rachmaninoff – The Complete Recordings» (RCA Victor Gold Seal 09026-61265-2).
Citations[edit]
- ^ a b «Name Authority File for Rachmaninoff, Sergei, 1873–1943». U.S. Library of Congress. 21 November 1980. Retrieved 2 April 2016.
- ^ «Rachmaninoff». Collins English Dictionary. HarperCollins. Retrieved 14 June 2021.
- ^ «Rachmaninoff». Random House Webster’s Unabridged Dictionary.
- ^ Norris 2001b, p. 707.
- ^ a b Harrison 2006, p. 5.
- ^ Unbegaun & Uspenskiĭ 1989, p. 108.
- ^ Martyn 1990, p. 35.
- ^ a b Sylvester 2014, p. 3.
- ^ a b Harrison 2006, p. 6.
- ^ a b Seroff 1950, p. 5.
- ^ International Institute for Genealogical Research. Russian Dynasties program. [1]
- ^ a b Sylvester 2014, p. 2.
- ^ Harrison 2006, pp. 7–8.
- ^ Sylvester 2014, pp. 3–4.
- ^ Riesemann 1934, p. 29.
- ^ Harrison 2006, p. 9.
- ^ Riesemann 1934, pp. 33–34.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 7.
- ^ Martyn 1990, p. 11.
- ^ a b Harrison 2006, p. 11.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 5.
- ^ a b c d Bertensson & Leyda 2001, p. 46.
- ^ Sylvester 2014, pp. 6–7.
- ^ Harrison 2006, p. 15.
- ^ Harrison 2006, p. 14.
- ^ Seroff 1950, p. 27.
- ^ Norris 2002, p. 1025.
- ^ Seroff 1950, p. 33.
- ^ Scott 2011, p. 25.
- ^ Seroff 1950, p. 35.
- ^ Harrison 2006, p. 27.
- ^ Harrison 2006, p. 26.
- ^ Martyn 1990, p. 48.
- ^ a b Sylvester 2014, p. 8.
- ^ Harrison 2006, pp. 33–35.
- ^ Harrison 2006, p. 30.
- ^ Seroff 1950, p. 41.
- ^ Riesemann 1934, p. 75.
- ^ Norris 2001a, p. 11–12.
- ^ Scott 2011, p. 34.
- ^ Lyle 1939, p. 75.
- ^ Lyle 1939, pp. 83–85.
- ^ Harrison 2006, pp. 84–85.
- ^ a b c Cunningham 2001, p. 3.
- ^ Harrison 2006, p. 43.
- ^ Lyle 1939, p. 82.
- ^ Harrison 2006, p. 47.
- ^ Lyle 1939, p. 86.
- ^ Martyn 1990, p. 69.
- ^ Scott 2011, p. 37.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 406.
- ^ Sylvester 2014, p. 30.
- ^ Threlfall & Norris 1982, p. 45.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 61.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 62.
- ^ Lyle 1939, p. 91.
- ^ a b Bertensson & Leyda 2001, p. 63.
- ^ a b Norris 2001b, p. 709.
- ^ Lyle 1939, p. 92.
- ^ Lyle 1939, p. 93.
- ^ a b Bertensson & Leyda 2001, p. 67.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 69.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 70.
- ^ Scott 2011, p. 48.
- ^ Harrison 2006, p. 77.
- ^ a b Norris 2001a, p. 23.
- ^ Piggott 1974, p. 24.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 73.
- ^ a b Bertensson & Leyda 2001, p. 74.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 76.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 77.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 84, 87.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 88.
- ^ Harrison 2006, pp. 88–89.
- ^ Riesemann 1934, p. 111.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 89, 90.
- ^ Martyn 1990, p. 124.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 90.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 90, 95.
- ^ Riesemann 1934, p. 242.
- ^ a b Harrison 2006, p. 103.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 97.
- ^ Sylvester 2014, p. 94.
- ^ Lyle 1939, p. 115.
- ^ a b Harrison 2006, p. 110.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 101.
- ^ Harrison 2006, p. 113.
- ^ Harrison 2006, pp. 113–114.
- ^ Seroff 1950, p. 90.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 102.
- ^ Seroff 1950, pp. 92–93, 96.
- ^ Harrison 2006, p. 114.
- ^ Harrison 2006, p. 127.
- ^ Seroff 1950, pp. 92–93, 96, 107.
- ^ Lyle 1939, pp. 128–129.
- ^ Seroff 1950, p. 108.
- ^ Bertensson, Leyda & Satina 1956, p. 156.
- ^ Seroff 1950, p. 112, 114.
- ^ Seroff 1950, p. 115.
- ^ Seroff 1950, pp. 118–119.
- ^ Harrison 2006, pp. 148–149.
- ^ Lyle 1939, pp. 135, 142.
- ^ Lyle 1939, p. 138.
- ^ Lyle 1939, pp. 140–141.
- ^ Harrison 2006, p. 160.
- ^ Harrison 2006, p. 162.
- ^ Lyle 1939, p. 143.
- ^ Lyle 1939, p. 146.
- ^ Riesemann 1934, p. 166.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 179.
- ^ Seroff 1950, p. 172.
- ^ Lyle 1939, pp. 149–150.
- ^ Seroff 1950, pp. 172–173.
- ^ a b Seroff 1950, pp. 174–175.
- ^ a b Lyle 1939, pp. 152–153.
- ^ Lyle 1939, p. 154.
- ^ Scott 2011, p. 103.
- ^ Scott 2011, p. 104.
- ^ Scott 2011, p. 111.
- ^ Seroff 1950, p. 178.
- ^ Scott 2011, p. 113.
- ^ Lyle 1939, p. 147.
- ^ Scott 2011, p. 117.
- ^ Sylvester 2014, p. 257.
- ^ Norris 2001a, p. 51.
- ^ Scott 2011, p. 118.
- ^ Norris 2001a, p. 52.
- ^ Lyle 1939, p. 162.
- ^ Scott 2011, p. 119.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 210.
- ^ Norris 2001a, p. 53.
- ^ a b c Wehrmeyer 2004, p. 88.
- ^ Scott 2011, p. 120.
- ^ a b c d Norris 2001a, p. 54.
- ^ Norris 2001a, p. 55.
- ^ Harrison 2006, p. 220.
- ^ Martyn 1990, pp. 292–293.
- ^ a b Norris 2001a, p. 56.
- ^ Scott 2011, p. 122.
- ^ a b Wehrmeyer 2004, pp. 89–90.
- ^ Norris 2001b, p. 711.
- ^ Wehrmeyer 2004, p. 89.
- ^ a b c Harrison 2006, pp. 233–234.
- ^ Norris 2001a, p. 57.
- ^ a b c Wehrmeyer 2004, p. 126.
- ^ Scott 2011, p. 130.
- ^ Norris 2001a, p. 58.
- ^ Cunningham 2001, pp. 5–6.
- ^ Wehrmeyer 2004, p. 102.
- ^ Martyn 1990, p. 26.
- ^ Wehrmeyer 2004, p. 103, 126.
- ^ a b Cunningham 2001, p. 6.
- ^ Plaskin 1983, p. 107.
- ^ «About Wizard Horowitz, Who Will Return Soon»[permanent dead link], The Milwaukee Journal, 18 April 1943, p. 66.
- ^ Plaskin 1983, p. 185.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 262.
- ^ Bertensson, Leyda & Satina 1956, p. 271.
- ^ a b Seroff 1950, p. 208.
- ^ a b Norris 2001a, p. 67.
- ^ Norris 2001a, p. 69.
- ^ Norris 2001a, p. 70.
- ^ Norris 2001a, p. 71.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, pp. 348–349.
- ^ a b Norris 2001a, p. 72.
- ^ Harrison 2006, p. 322.
- ^ Seroff 1950, p. 225.
- ^ a b c d e Norris 2001a, p. 73.
- ^ a b Harrison 2006, p. 323.
- ^ Harrison 2006, pp. 323, 330.
- ^ a b Robinson 2007, p. 129.
- ^ Harrison 2006, p. 340.
- ^ Harrison 2006, p. 343.
- ^ Wehrmeyer 2004, pp. 111–112.
- ^ Scott 2011, p. 197.
- ^ Harrison 2006, p. 344.
- ^ Cannata 1999, p. 24.
- ^ Seroff 1950, pp. 230–231.
- ^ Scott 2011, p. 199.
- ^ Norris 2001a, p. 75.
- ^ Norris 2001b, p. 713.
- ^ Martyn 1990, p. 354.
- ^ a b Seroff 1950, pp. 230–232.
- ^ Robinson 2007, p. 130.
- ^ Wehrmeyer 2004, p. 113.
- ^ Norris 2001a, p. 76.
- ^ Bigg, Claire (18 August 2015) Rachmaninoff Family Denounces Russian Officials’ Reburial Push. Radio Free Europe
- ^ «Russia: Rachmaninoff reburial bid riles composer’s family». BBC. 19 August 2015. Retrieved 24 August 2017.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 176.
- ^ Simpson 1984.
- ^ O’Connell 1941, p. 380.
- ^ Maes 2002, p. 195.
- ^ Norris 2001a, p. 122.
- ^ a b Norris 2001a, p. 138.
- ^ Sylvester 2014, p. xii, xiv.
- ^ Harrison 2006, p. 184.
- ^ Norris 2001b, pp. 714–715.
- ^ Carruthers 2006, p. 49.
- ^ Bertensson & Leyda 2001, p. 158.
- ^ Yasser 1969, p. 325.
- ^ Norris 2001b, p. 715.
- ^ Harrison 2006, p. 191.
- ^ Harrison 2006, pp. 190–191.
- ^ a b Norris 2001b, p. 716.
- ^ Harrison 2006, p. 207.
- ^ Yasser 1951.
- ^ a b Schonberg 1997, p. 520.
- ^ Martyn 1990, p. 16.
- ^ Abbott, Eileen. «All things Rachmaninoff | Alexandria Times | Alexandria, VA». Alexandria Times. Retrieved 30 January 2020.
- ^ Schonberg 1997, p. 522.
- ^ a b Norris 2001b, p. 714.
- ^ Martyn 1990, pp. 368, 403–406.
- ^ Dąbrowski et al. 2021, p. 3.
- ^ Schonberg 1988, p. 317.
- ^ Schonberg 1987, p. 384.
- ^ Riesemann 1934, pp. 49–52.
- ^ Rubinstein 1980, p. 468.
- ^ a b Harrison 2006, p. 270.
- ^ Harrison 2006, p. 268.
- ^ Mayne 1936.
- ^ Harrison 2006, p. 251.
- ^ Norris 2001a, p. 77.
- ^ Young 1986, p. 1.
- ^ Young 1986, p. 2–3.
- ^ Ramachandran & Aronson 2006.
- ^ Martyn 1990, p. 439.
- ^ Martyn 1990, p. 439–440.
- ^ Martyn 1990, p. 440.
- ^ Burkholder 2007, p. 844.
- ^ Harrison 2006, pp. 231–232.
- ^ a b Bertensson & Leyda 2001, pp. 421–422.
- ^ Martyn 1990, p. 499.
- ^ Harrison 2006, p. 223.
- ^ Obenchain 1987.
Sources[edit]
Books[edit]
- Bertensson, Sergei; Leyda, Jay; Satina, Sophia (1956). Sergei Rachmaninoff : a lifetime in music. New York, NY. ISBN 0-8147-0044-6. OCLC 344823.
- Bertensson, Sergei; Leyda, Jay (2001). Sergei Rachmaninoff – A Lifetime in Music (Paperback ed.). New York: New York University Press. ISBN 978-0-253-21421-8.
- Cannata, David Butler (1999). Rachmaninoff and The Symphony. Innsbruck: Studien Verlag. ISBN 978-3-706-51240-4.
- Cunningham, Robert E. (2001). Sergei Rachmaninoff: A Bio-bibliography. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-313-30907-6.
- Harrison, Max (2006). Rachmaninoff: Life, Works, Recordings. London: Bloomsbury Publishing. ISBN 978-0-826-49312-5.
- Lyle, Watson (1939). Rachmaninoff: A Biography. London: William Reeves Bookseller. ISBN 978-0-404-13003-9.
- Maes, Francis (2002). A History of Russian Music: From Kamarinskaya to Babi Yar. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-21815-4.
- Martyn, Barrie (1990). Rachmaninoff: Composer, Pianist, Conductor. Aldershot: Scolar Press. ISBN 978-0-859-67809-4.
- Norris, Geoffrey (2001a). Rachmaninoff. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-198-16488-3.
- Norris, Geoffrey (2001b). «Rachmaninoff, Serge». In Sadie, Stanley (ed.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: MacMillan. pp. 707–718. ISBN 978-0-333-23111-1.
- Norris, Geoffrey (2002). «Rakhmaninov, Sergey». In Latham, Alison (ed.). The Oxford Companion to Music. Oxford: Oxford University Press. pp. 1025–1026. ISBN 978-0-198-66212-9. OCLC 59376677.
- O’Connell, Charles (1941) [1935]. The Victor Book of the Symphony (Revised ed.). New York: Simon & Schuster.
- Obenchain, Elaine (1987). The complete catalog of Ampico reproducing piano rolls. New York: Vestal Press. ISBN 0-911572-62-7. OCLC 314284925.
- Piggott, Patrick (1974). Rachmaninov Orchestral Music. Seattle: University of Washington Press. ISBN 978-0-295-95308-3.
- Plaskin, Glenn (1983). Horowitz: A Biography. New York: William Morrow and Company. ISBN 978-0-688-01616-6.
- Riesemann, Oskar von (1934). Rachmaninoff’s Recollections, Told to Oskar von Riesemann. New York: Macmillan. ISBN 978-0-83695-232-2.
- Robinson, Harlow (2007). Russians in Hollywood, Hollywood’s Russians: Biography of an Image. Lebanon: University Press of New England. ISBN 978-1-555-53686-2.
- Rubinstein, Arthur (1980). My Many Years. New York: Knopf. ISBN 0-394-42253-8.
- Schonberg, Harold C. (1987). The Great Pianists (2nd ed.). New York: Simon & Schuster. ISBN 978-0-393-03857-6.
- Schonberg, Harold C. (1988). The Virtuosi: Classical Music’s Great Performers From Paganini to Pavarotti. New York: Vintage Books. ISBN 978-0-394-75532-8.
- Schonberg, Harold C. (1997). The Lives of the Great Composers (3rd ed.). New York: W. W. Norton. ISBN 978-0-349-10972-5.
- Scott, Michael (2011). Rachmaninoff. Cheltenham: The History Press. ISBN 978-0-7524-7242-3.
- Seroff, Victor Ilyitch (1950). Rachmaninoff: A Biography. New York: Simon & Schuster. ISBN 978-0-836-98034-9.
- Sylvester, Richard D. (2014). Rachmaninoff’s Complete Songs: A Companion with Texts and Translations. Bloomington: Indiana University Press. ISBN 978-0-2530-1259-3.
- Threlfall, Robert; Norris, Geoffrey (1982). A Catalogue of the Compositions of Rachmaninoff. London: Scolar Press. ISBN 978-0-859-67617-5.
- Unbegaun, Boris Ottokar; Uspenskiĭ, Boris Andreevich (1989). Русские фамилии (in Russian). Moscow: Progress Publisher. ISBN 978-5-01-001045-4. OCLC 21065596.
- Wehrmeyer, Andreas (2004). Rakhmaninov. London: Haus Publishing. ISBN 978-1-904341-50-5.
Journals[edit]
- Burkholder, J. Peter (2007). «Review of The Cambridge History of Twentieth-Century Music». Notes. 63 (4): 844–848. doi:10.1353/not.2007.0058. ISSN 0027-4380. JSTOR 4487887. S2CID 162372816.
- Carruthers, Glen (2006). «The (re)appraisal of Rachmaninov’s music: contradictions and fallacies». The Musical Times. 147 (1896): 44–50. doi:10.2307/25434403. JSTOR 25434403.
- Dąbrowski, K P; Stankiewicz-Jóźwicka, H; Kowalczyk, A; Wróblewski, J; Ciszek, B (2021). «Morphology of sesamoid bones in keyboard musicians». Folia Morphologica. 80 (2): 410–414. doi:10.5603/FM.a2020.0066. ISSN 1644-3284. PMID 32639576. S2CID 220412829.
- Mayne, Basil (October 1936). «Conversations with Rachmaninoff». Musical Opinion. 60: 14–15.
- Ramachandran, Manoj; Aronson, Jeffrey K. (2006). «The diagnosis of art: Rachmaninov’s hand span». Journal of the Royal Society of Medicine. 99 (10): 529–530. doi:10.1177/014107680609901015. PMC 1592053. PMID 17066567.
- Simpson, Anne (1984). «Dear Re: A Glimpse into the Six Songs of Rachmaninoff’s Opus 38». College Music Symposium. 24 (1): 97–106. JSTOR 40374219.
- Yasser, Joseph (1951). «Progressive Tendencies in Rachmaninoff’s Music». Tempo. 22 (22): 11–25. JSTOR 943073.
- Yasser, Joseph (1969). «The Opening Theme of Rachmaninoff’s Third Piano Concerto and its Liturgical Prototype». Musical Quarterly. LV (3): 313–328. doi:10.1093/mq/LV.3.313. JSTOR 741003.
- Young, D.A.B. (1986). «Rachmaninov and Marfan’s syndrome». British Medical Journal. 293 (6562): 1624–1626. doi:10.1136/bmj.293.6562.1624. PMC 1351877. PMID 3101945.
External links[edit]
- Sergei Rachmaninoff Foundation and the Rachmaninoff Network
Performances and Recordings[edit]
- Sergei Rachmaninoff’s Performance Diary
- Complete list of Rachmaninoff’s performances as a conductor at the Wayback Machine (archived 27 October 2009)
- Sergei Rachmaninoff recordings at the Discography of American Historical Recordings.
Music scores[edit]
- Works by Sergei Rachmaninoff at Project Gutenberg
- Works by or about Sergei Rachmaninoff at Internet Archive
- Free scores (in Italian)
- Free scores by Sergei Rachmaninoff at the International Music Score Library Project (IMSLP)
- Free scores by Sergei Rachmaninoff in the Choral Public Domain Library (ChoralWiki)
Other[edit]
- Sergei Rachmaninoff archive, 1872-1992 at the Library of Congress
- «Discovering Rachmaninov». BBC Radio 3.
- Sergei Rachmaninoff discography at MusicBrainz
- Sergei Rachmaninoff at AllMusic