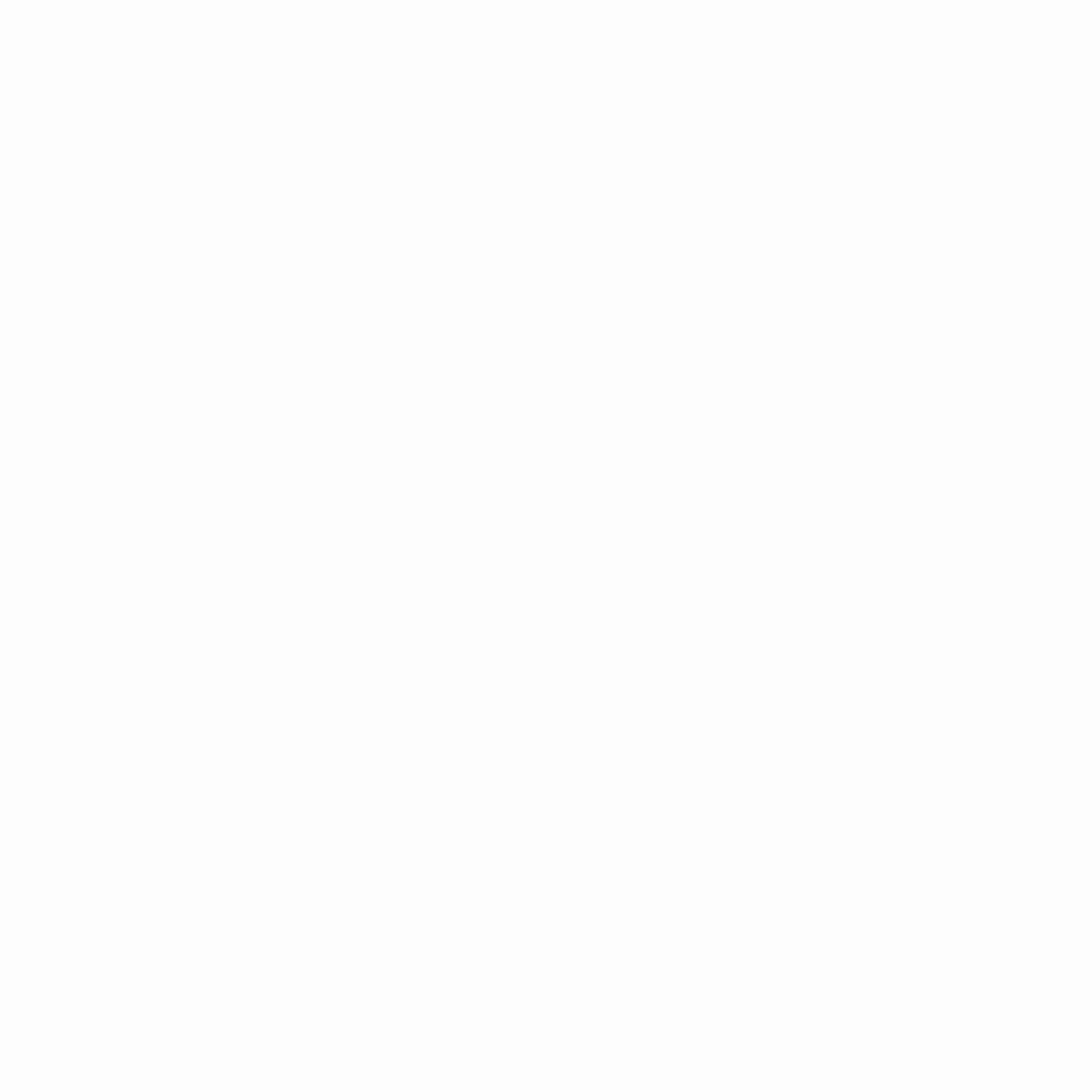«Какая
бездна поэзии в «Онегине»…
П. И. Чайковский
Год
празднования 220-летия со дня рождения «солнца» русской литературы – Александра
Сергеевича Пушкина совпадает еще с одной важной знаменательной датой, имеющей
непосредственное отношение к великому поэту. Исполняется 140 лет первой
постановке оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», либретто которой был
создан по одноименному роману Пушкина.
К
«Евгению Онегину», своей пятой опере, Чайковский шел многие годы, но
предопределили ее появление, в частности, встречи с Л. Н. Толстым, состоявшиеся
в декабре 1876 года, утверждает автор исследований,
статей и публикаций,
посвященных творчеству композитора
Г. А. Прибегина в книге «Петр Ильич Чайковский» (М., 1990 г.).
Петр
Ильич провел с писателем всего лишь два вечера, но еще долгое время находился
под впечатлением от разговоров с ним, постепенно уверовав в убеждение Толстого,
что «тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким
расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться
публике и заставляет себя угождать ей, – тот не вполне художник, его труды
непрочны, успех их эфемерен».
Слова
Толстого попали на благодатную почву, позволив композитору укрепиться в решении
продолжить работу над жанром оперы, к которой он испытывал сильную тягу
–«внутреннее побуждение», выражаясь словами писателя. Он был уверен, что свои
мысли и убеждения должен выразить через оперу, обладающую необычайной силой
воздействия на слушателей, склоняясь «исключительно к выражению чувств нежных и
любовных», желая «драмы более интимной, более скромной», но «сильной,
основанной на конфликте положений», испытанных или виденных им и могущих задеть
за живое.
Не
случайно поэтичнейший сюжет пушкинского «Евгения Онегина» сразу же воспламенил
и несказанно обрадовал композитора. В книге-исследовании «Евгений Онегин» П. И.
Чайковского» (1960 г.) музыковед, доктор искусствоведения Елена Черная пишет о
существовании письма Петра Ильича Чайковского, в котором он рассказывает брату
о том, как возникла у него мысль создать оперу. В мае 1877 года Чайковский
навестил давнишнюю свою знакомую – певицу Е. А. Лавровскую. За чаем зашла речь
о музыке, об оперных либретто и Елизавета Андреевна вдруг тихонько сказала: «А
что бы взять «Евгения Онегина»?» Мысль превратить пушкинский роман в оперу
показалась Чайковскому такой дикой, что он ничего не ответил. Но позднее, уйдя
от Лавровских, он кинулся к букинисту разыскивать томик Пушкина. Дома с
восторгом перечитал давно знакомые и любимые главы, проведя бессонную ночь,
сочиняя сценарий будущей оперы. Затем он обратился к приятелю К. С. Шиловскому,
актеру Малого театра, любителю – художнику, скульптору, музыканту и
стихотворцу, уговорив его немедленно писать либретто.
Едва
дождавшись последнего экзамена в консерватории, где композитор преподавал в ту
пору, он едет в подмосковную деревню Глебово, чтобы с жаром приняться за
сочинение оперы. «Ты не поверишь, до чего я ярюсь на этот сюжет, – писал он
брату, – Какая бездна поэзии в «Онегине»…я знаю, что сценических эффектов и
движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота
сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки».
Чайковский
сочинял весь день, отдыхая только во время уединенных прогулок по полям и
лесам. Он жил, словно завороженный стихами и образами Пушкина, испытывая
необычайную полноту жизненных сил и ту сосредоточенность мысли, которая обычно
сопутствует вдохновению: «…я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами
Пушкина и пишу на них музыку…потому, что меня к этому тянет», – сообщал он
брату.
Надо
сказать, что творчество великого русского поэта давно уже привлекало
композитора. Еще в конце 1850-х – начале 1860-х годов он написал романс «Песнь
Земфиры» по поэме «Цыганы» и музыку для оркестра к сцене «Ночь. Сад. Фонтан» из
трагедии Пушкина «Борис Годунов»; позже сочинит романс «Соловей», хор
«Вакхическая песня»; оперы «Мазепа» и «Пиковая дама»; некоторые произведения
останутся только в замыслах (опера «Капитанская дочка»). Его особенно
привлекала музыкальность поэзии Пушкина и то, что он «силою гениального таланта
очень часто вырывается из тесных сфер стихотворства в бесконечную область
музыки…Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом
стихе, в его звуковой последовательности есть что-то, проникающее в самую глубь
души. Это что-то и есть музыка», – как написал Чайковский в одном из писем к Н.
Ф. фон Мекк (Москва, 1877 г.).
Конечно,
композитор не ставил целью перенести весь роман на оперную сцену и не
претендовал на то, чтобы его произведение было «энциклопедией русской жизни» в
отличие от пушкинского «Евгения Онегина». Он взял лишь то, что было связано с
душевным миром и судьбами пушкинских героев, назвав свою оперу «лирическими
сценами» из печальной истории о людях, прошедших мимо своего счастья, мимо
своей судьбы.
«Передать
в музыке пушкинский роман Чайковскому хотелось по-новому, – пишет в своем
исследовании Г. А. Прибегина, – хотя и наметились сразу же типичные оперные
формы: ансамбли, хоры, арии и т.п. Музыкальную драматургию произведения
Чайковский создает на едином мелодическом дыхании, где один номер органически
переходит в другой…Здесь все поет.
Композитор словно распевает стихи
Пушкина, подобно тому, как поют романсы на стихи поэтов, и создает необычайно
широкие мелодии, покоряющие одухотворенностью и красотой, поэтичностью и
интонационно гибкой выразительностью. Подобно роману в стихах Пушкина, Чайковский создает свой роман в музыке».
Одержимости
этой работы над оперой не смогли помешать ни тяжелое душевное потрясение,
вызванное неудачной женитьбой композитора, ни связанная с этим потрясением
длительная болезнь и спешный отъезд за границу, где Чайковский пробыл целый
год. Едва оправившись от пережитого и вновь получив возможность писать, он с
прежней энергией принимается за оперу и заканчивает ее в поразительно короткий
срок – в ноябре 1878 года партитура была готова.
Чайковский
с волнением сообщает друзьям о завершении своего труда с огромным волнением, о
чем свидетельствует его письмо к С. И. Танееву: «…То, что я написал, в
буквальном смысле вылилось из меня, а не выдумано, не вымучено», и далее:
«…если была когда-нибудь написана музыка с искренним увлечением, с любовью к
сюжету и действующим лицам оного, то это музыка к «Онегину». Я таял и трепетал
от невыразимого наслаждения, когда писал ее».
Еще
ни одно произведение Чайковского не вызывало такого дружного восторга его
московских друзей, которые впервые познакомились с оперой в доме Н. Г
Рубинштейна. По свидетельству ближайшего друга Петра Ильича, его биографа
Николая Кашкина: «Танеев играл на фортепьяно, а мы следили по нотам.
Впечатление получилось огромное, какое-то захватывающее дух…». С. И. Танеев, музыкант
необычайно строгий, писал Чайковскому: «Онегин» доставил мне столько
наслаждения, я провел столько приятных минут, рассматривая его партитуру, что
совершенно не способен найти в его музыке хоть какой-нибудь недостаток. Чудная
опера!»
Окончив
оперу, Петр Ильич мечтал поскорее увидеть ее на сцене, но не императорской – с
ее помпезностью, с одной стороны, и рутиной – с другой. Так возникла мысль о
постановке ее силами учеников Московской консерватории в оперном классе, где
руководителем-режиссером был известный актер Малого театра И. В. Самарин, а
дирижировал спектаклями Н. Г. Рубинштейн. По словам Н. Кашкина, ничем и никогда
в консерватории не интересовались так, как подготовкой к этому представлению:
певцы, хор, оркестр работали с полным усердием, режиссер делал просто чудеса.
Тот
же Николай Дмитриевич Кашкин вспоминал впоследствии о последней репетиции: «…в
зале наступила полная тьма, только виднелись свечи у оркестровых пультов… рядом
присел Чайковский и мы начали слушать оперу. Все шло отлично, а чудная
стройность и свежая звучность голосов молодого многочисленного хора производили
просто чарующее впечатление. После сцены письма Татьяны Чайковский прошептал
мне на ухо: «Какое счастье, что здесь темно! Мне это так нравится, что я не
могу удержаться от слез». Но и со мной было то же самое» (И. Кунин. Петр Ильич
Чайковский. М., 1958).
На
репетиции присутствовал И. С. Тургенев, который еще в 1872 году высоко оценил
талант молодого композитора, предсказав ему большое будущее. Музыка оперы
показалась ему очаровательной, пылкой, страстной, юной, чрезвычайно красочной и
поэтичной. В письме к Л. Н. Толстому, интересовавшемуся «Онегиным», Иван
Сергеевич охарактеризовал музыку как «несомненно замечательную», отметив, что
«особенно хороши лирические, мелодические места».
Наконец
наступил решительный день 17 марта 1879 года. Зрительный зал Малого театра, где
происходил спектакль, был переполнен; в некоторых ложах люди не сидели, а
стояли сплошной стеной. На спектакль приехал из Петербурга учитель Чайковского
Антон Рубинштейн, великий музыкант, которого Чайковский в годы ученичества
просто боготворил. Партию Татьяны пела М. Н. Климентова, Ольги – А. Н.
Левицкая, Онегина – С. В. Гилев, Ленского – М. Е. Медведев, Гремина – В. В.
Махалов.
Публика
приняла оперу восторженно: и исполнителей, и композитора по окончании спектакля
вызывали на поклоны неоднократно. Но сам композитор был, в сущности,
разочарован. Ему казалось, что на репетиции «Онегин» шел бесконечно лучше, чем
на премьере.
Мнения
критиков были противоречивы и наивны. Кто снисходительно называл оперу милой,
кто утверждал, что она скучна; нашлись и такие критики, которые обвинили
композитора в искажении сюжета Пушкина. Новаторство Чайковского привело
рецензентов в недоумение. И только музыкальный критик Герман Августович Ларош,
которого Чайковский высоко ценил и считал «одной и самых даровитых натур и
обладателем громадного музыкального дарования», написал необычайно
проникновенную рецензию. «Никогда еще композитор не был в такой мере самим
собою, – писал он, – как в этих лирических сценах…Чайковский – несравненный
элегический поэт в звуках; трагическая сила, потрясающий пафос, разгул
фантазии, смелый реализм – все это вне его власти, и нужны были годы тяжких
искушений и заблуждений, прежде чем этот талант нашел свое естественное русло. Никто,
вероятно, не ожидал, что точкою гармонического примирения суждено было быть
знаменитой поэме Пушкина. Теперь, когда это случилось, нам это кажется очень
простым и очевидным…Духовное родство должно было его привлечь в ту деревню,
«где скучал Евгений». Счастливая звезда не дала ему почувствовать этого
влечения раньше, когда талант его не окреп и не сложился, когда у него далеко
не было нынешней правдивой и тонкой кисти».
Тем
не менее, именно широкая публика оказалась больше всего тронута и взволнована
этим необычайным произведением. Об этом свидетельствуют как горячие письма,
полученные Чайковским от своих «простых слушателей», так и то, что клавир
оперы, выпущенный Юргенсом (крупнейший нотоиздатель того времени), разошелся
мгновенно. «Онегин» нашел отклик во многих сердцах: лирические сцены,
казавшиеся самому композитору такими скромными и непритязательными, открыли им
мир чувств, какого еще не знала опера: внутренний психологический напряженный
драматизм зазвучал в опере подлинной глубиной и страстью.
Три
героя – три судьбы – три драмы. Таков общий итог столкновения каждого из них с
реальной жизнью. В первом действии оперы терпят крушение мечты Татьяны, которой
Онегин хладнокровно и равнодушно прочитал нравоучительную «проповедь». Во
втором, соприкоснувшиеся с действительностью, растоптаны искренние чувства
молодого поэта; погибает и сам Ленский, романтическая любовь которого оказалась
непонятной и ненужной. И, наконец, в последнем действии «лирических сцен»
третий герой, Онегин, именем которого и названа опера, попадает в неожиданно
драматическую ситуацию. Его единственная и настоящая в жизни любовь оказалась
не боле чем несбывшейся мечтой о счастье, которое «было так возможно».
Не
только главные герои оперы, но и другие действующие лица и участники массовых
сцен охарактеризованы Чайковским музыкально убедительно и ярко. Все внутренние
и внешние сценические отношения персонажей оперы и хора, представлявшего то
крестьян, то провинциальное, то великосветское общество, органично связаны
общей линией развития пушкинского сюжета.
На
большую сцену «Евгений Онегин» пришел в 1881 году, когда его постановку
осуществил московский Большой театр, а в 1884 – петербургский Мариинский. С
того времени и по сей день эта замечательная опера с успехом идет на многих
прославленных сценах России, к сценической жизни которой были причастными
лучшие отечественные музыканты.
Свою
интерпретацию «лирических сцен» предложили самые известные дирижеры – Г.
Рождественский, Е. Колобов, В. Федосеев, В. Гергиев и др. Некоторые из них,
как, например, Ю. Темирканов, выступили и в качестве режиссеров-постановщиков
«Евгения Онегина». Многие десятилетия украшением оперного репертуара Большого
театра была знаменитая постановка оперы Б. Покровским (1944). В 1952 г. партию
Татьяны в ней исполнила Г. Вишневская. Работа с Б. Покровским над образом
Татьяны стала встречей, перевернувшей ее представления об оперном театре. В
1982 г., во время прощания с оперной сценой, в Париже специально для Галины
Павловны поставили «Евгения Онегина», в котором она восемь спектаклей пела
партию Татьяны.
 |
| Г. Вишневская |
Партии
из оперы вошли в золотой репертуар лучших певцов мира. Непревзойденным
истолкователем партии Ленского стал Л. Собинов. Певец великолепно схватил
тончайшие оттенки лирики Чайковского, весь его внешний облик, пластика идеально
отвечали образу, созданному поэтом и композитором.
 |
| Л. Собинов в роли Ленского |
Ленский
– любимая партия С. Лемешева, «сквозной» образ его творческого пути. С этой
партией он впервые вышел на сцену зимой 1925г. в студии Станиславского, Ленским
же простился со сценой Большого театра, спев пятисотый спектакль «Евгения
Онегина» 13 ноября 1965 года. «Я часто думаю о том, как хорошо, что Чайковский
воссоздал в музыке пушкинских героев, сделал их осязаемо реальными, зримыми,
живыми людьми, – говорил С.Я. Лемешев. – Я глубоко уверен, что эта опера
бессмертна. Вслед за нами придут другие Ленские и Онегины, придет новая
публика, и все опять заново переживут то, что переживали мы, прикасаясь к
живому роднику поэзии Пушкина и Чайковского…»
 |
| С.Я. Лемешев |
Вереница
новых сценических решений как в России, так и за рубежом, позволяет увидеть
очень разные, порой диаметрально противоположные подходы к прочтению оперного
шедевра.
 |
| Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский |
Уже
в наше время одна из блистательных исполнительниц Татьяны Анна Нетребко, в
одном из интервью, сказала: «Эта история принадлежит 19-му веку, когда
благородство, честь, гордость, верность – такие понятия еще существовали.
Сейчас они почти не имеют смысла. А ведь у Пушкина все завязано на этом. Сейчас
пытаются превратить это в какую-то сентиментальную историю. Я пытаюсь
объяснить, что это не сентиментальная история, все гораздо глубже. Что русские
характеры сложны уже по самой своей природе, и, если вы будете пытаться это
изобразить как любовную историю – ох, она ему отомстила, она его отвергла! –
это глупо, это пошло, это не имеет никакого отношения ни к Пушкину, ни к
Чайковскому».
Сам
же Чайковский всю жизнь считал «Евгения Онегина» одним из любимейших своих
сочинений. Он был счастлив тем, что пережил успех своего детища и на сценах
оперных театров России, и Европы. В многочисленных письмах композитор
неоднократно подчеркивал, что роман Пушкина оказывает на него вдохновляющее
действие: «Я написал эту оперу потому, что в один прекрасный день мне с
невыразимою силою захотелось положить на музыку все, что в «Онегине» просится
на музыку. Я это и сделал, как мог».
Использованные
источники:
Кунин
И. Ф. Петр Ильич Чайковский. ЖЗЛ. – М., Молодая гвардия, 1958.
Прибегина
Г. А. Петр Ильич Чайковский. – М., Музыка, 1990.
Сидельников
Л. Чайковский/ След в истории. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1998.
Черная
Е.С. «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. – М., 1960.
Шольп
А. Е. «Евгений Онегин» П. И. Чайковского: Очерки. – Л., Музыка, 1982.
Ольга Солодовникова, зав.отделом
социально-гуманитарной литературы Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина
Творчество А.С. Пушкина, прошедшее яркой звездой по небосклону нашей литературы от юношеского романтизма до глубочайшего реализма, до сих пор привлекает композиторов к созданию музыкальных произведений на его сюжеты.
Это можно объяснить тем, что в его творчестве сочеталась всечеловечность (по определению великого русского писателя Ф. Достоевского) с национальным элементом. В произведениях Пушкина отражены все стороны русской жизни, человеческие помышления и чувства.
По произведениям Пушкина создано более 20 опер и более 10 балетов:
- М. Глинка «Руслан и Людмила» (опера), 1821 г.
- А. Даргомыжский «Русалка», 1856 г., «Каменный гость», 1868 г. (оперы)
- М. Мусоргский «Борис Годунов», 1869 г. (опера)
- Н. Римский – Корсаков «Сказка о царе Салтане», 1900 (опера), «Золотой петушок», 1908 г. (опера и балет (1937) на музыку оперы), «Моцарт и Сальери», 1897 г. (опера)
- П. Чайковский «Евгений Онегин», 1878 г., «Пиковая дама», 1891 г., «Мазепа», 1883 г. (оперы)
- Э. Направник «Дубровский», 1896 г. (опера)
- С. Рахманинов «Алеко», 1892 г., «Скупой рыцарь», 1903 г. (оперы)
- Ц. Кюи «Кавказский пленник» (опера), «Пир во время чумы», 1900 г. (опера), «Капитанская дочка», 1909 г. (опера)
- Р. Глиэр «Медный всадник», 1949 г. (балет)
- Л. Минкус «Золотая рыбка», 1867 г. (балет)
- Б. Асафьев «Бахчисарайский фонтан», 1934 г. (балет), «Барышня-крестьянка», 1946 г. (балет), «Кавказский пленник», 1938 г. (балет), «Пир во время чумы» (опера), «Медный всадник» (опера), «Граф Нулин», 1940 г. (балет), «Гробовщик», 1943 г. (балет), «Каменный гость», 1946 г. (балет)
- К. Кавос «Кавказский пленник» (балет)
- А. Аренский «Египетские ночи», 1900 г. (балет)
- М. Чулаки «Сказка о попе и о работнике его Балде», 1940 г. (балет)
- А. Лядов «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 1949 г. (балет)
- Я. Наполи «Скупой барон», 1970 г. (опера)
- А. Николаев «Пир во время чумы», 1982 г. (опера), «Граф Нулин», 1983 г. (опера)
- В. Кикта «Дубровский», 1984 г. (опера)
- Ф. Галеви «Пиковая дама» в переводе П. Мериме, 1850 г. (опера)
Кроме того, написано много романсов на стихи поэта.
Естественно, что в одной статье невозможно рассказать о всех операх, написанных на сюжеты А.С. Пушкина. Остановимся лишь на некоторых из них: более известных и недостаточно известных.
Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама»
История создания
В 1887 г. администрация Императорского театра предложила П.И. Чайковскому создать оперу на основе повести А.С. Пушкина. Либретто к ней уже написал И.А. Всеволожский, русский театральный деятель, сценарист, художник. Но композитор от предложения отказался. Он посчитал, что в сюжете недостаточно сценичности. Прошло два года, и Чайковский всё-таки принял заказ, но либретто оперы создал его брат, Модест Ильич Чайковский. Однако в процессе работы композитор сам редактировал либретто и сам написал слова к некоторым фрагментам, включая две арии (Елецкого, во втором акте и Лизы — в третьем). В результате пушкинский сюжет заметно изменён. Изменено даже имя главного героя: в повести Пушкина он носит фамилию Германн, а в опере Герман – его имя.
Премьера оперы
Премьера состоялась в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре, 19 декабря 1890 г. Дирижёр – Э. Направник.
Партию Германа (тенор) исполнил Н. Фигнер. Партию Лизы (сопрано) М. Фигнер. Елецкий (баритон) – Л. Яковлев, Томский (баритон) – И. Мельников, графиня (меццо-сопрано) – М. Славина.
Опера Чайковского «Пиковая дама» быстро приобрела популярность и вошла в репертуар многих театров мира. Она и в настоящее время является одной из самых востребованных театральных постановок.
Опера М. Мусоргского «Борис Годунов»
История создания
Работу над оперой М.П. Мусоргский начал в 1868 г. Либретто оперы создал он сам, используя текст трагедии Пушкина «Борис Годунов» и материалы книги Н.М. Карамзина «История государства Российского». Темой своей оперы Мусоргский выбрал период правления царя Бориса Годунова (1598-1605), предшествовавшего началу «Смутного времени». В выбранном историческом эпизоде композитора привлекала возможность отразить отношения царя и народа, представить народ и царя в качестве главных действующих лиц. Мусоргский писал: «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей. Это моя задача. Я попытался решить её в опере».
Еще про оперы:
Оконченную в 1869 г. оперу Дирекция императорских театров к постановке не приняла: в опере не было интересной женской роли. Композитор начал переработку оперы: ввёл любовную линию Лжедмитрий-Марина Мнишек, но и редакция 1872 г. также была отвергнута, хотя театральные и музыкальные круги Санкт-Петербурга и Москвы активно поддерживали оперу, увидев в ней новаторские достижения композитора и музыкальную глубину. Благодаря этой поддержке, оперу всё-таки поставили в 1874 г. на сцене Мариинского театра. Публика встретила оперу восторженно, а критика – резко отрицательно. В 1882 г. опера была снята с репертуара.
В 1896 г. Н.А. Римский-Корсаков делает попытку возродить оперу, создав новую редакцию, а затем в 1908 г. ещё одну. Уже в советское время оперу редактировал Д. Шостакович в 1940 г.
Но в настоящее время чаще используют авторскую редакцию оперы.
Причины множественных редакций оперы можно найти в объяснении Н. Римского-Корсакова, данном в предисловии к его изданию «Бориса Годунова» в 1896 г.: «Опера, или народная музыкальная драма, «Борис Годунов», написанная 25 лет тому назад, при первом своем появлении на сцене и в печати вызвала два противоположных мнения в публике. Высокая талантливость сочинителя, проникновение народным духом и духом исторической эпохи, живость сцен и очертания характеров, жизненная правда и в драматизме, и комизме и ярко схваченная бытовая сторона при своеобразии музыкальных замыслов и приемов вызвали восхищение и удивление одной части; непрактичные трудности, обрывочность мелодических фраз, неудобства голосовых партий, жесткость гармонии и модуляций, погрешности голосоведения, слабая инструментовка и слабая вообще техническая сторона произведения, напротив, вызвали бурю насмешек и порицаний — у другой части. Упомянутые технические недостатки заслоняли для одних не только высокие достоинства произведения, но и самую талантливость автора; и наоборот, эти самые недостатки некоторыми возводились чуть ли не в достоинства и заслугу.
Много времени, прошло с тех пор; опера не давалась на сцене или давалась чрезвычайно редко, публика была не в состоянии проверить установившихся противоположных мнений.
«Борис Годунов» сочинялся на моих глазах. Никому, как мне, бывшему в тесных дружеских отношениях с Мусоргским, не могли быть столь хорошо известны намерения автора «Бориса» и самый процесс их выполнения.
Высоко ценя талант Мусоргского и его произведение и почитая его память, я решился приняться за обработку «Бориса Годунова» в техническом отношении и eгo переинструментовку. Я убежден, что моя обработка и инструментовка отнюдь не изменили своеобразного духа произведения и самых замыслов его сочинителя и что обработанная мною опера, тем не менее, всецело принадлежит творчеству Мусоргского, а очищение и упорядочение технической стороны сделает лишь более ясным и доступным для всех ее высокое значение и прекратит всякие нарекания на это произведение.
При обработке мною сделаны некоторые сокращения ввиду слишком большой длины оперы, заставлявшей еще при жизни автора сокращать ее при исполнении на сцене в моментах слишком существенных.
Настоящее издание не уничтожает собой первого оригинального издания, и потому произведение Мусоргского продолжает сохраняться в целости в своем первоначальном виде».
Музыка оперы Мусоргского «Борис Годунов»
Это народная музыкальная драма, многогранная картина эпохи, поражающая шекспировской широтой и смелостью контрастов. Действующие лица обрисованы с исключительной глубиной и психологической проницательностью. В музыке с потрясающей силой раскрыта трагедия одиночества и обреченности царя, новаторски воплощен мятежный, бунтарский дух русского народа.
Жизнь оперы М. Мусоргского «Борис Годунов»
Опера Мусорского за время с момента её написания ставилась во многих театрах России: Мариинском, Большом, театром Солодовникова, театром Петербургской консерватории, на провинциальных русских сценах в Казани, Орле, Воронеже, Саратове, Риге, Таллине, Минске и др.
Из последних можно назвать постановку Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, Мариинского театра и Самарского академического театра оперы и балета в 2012 г.
За рубежом опера ставилась в Большом театре в Гранд-Опера (Париж), Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Друри-Лейн (Лондон), Софийской народной опере, Ковент Гарден (Лондон), в Зальцбурге, Ла Скала (Милан).
Опера Ц. Кюи «Кавказский пленник»
Опера в 3 действиях написана в 1857-58 гг. Либретто В.А. Крылова. Премьера оперы состоялась в феврале 1883 г. в Мариинском театре. Дирижёр – Э. Направник.
Это самая популярная опера Кюи. Отчасти это связывают с тем, что она была близка традициям итальянской оперы, где главным было «заинтересовать, растрогать, поразить». В сюжете оперы всё для этого есть: в ауле непокорных горцев захвачен русский пленник. Дочь Казенбека Фатима сочувствует ему: приносит тайком пищу, успокаивает, хотя она является невестой нелюбимого ею горца Абубекера. Когда тайну Фатимы раскрывают, она, чтобы не казнили русского пленника, освобождает его. Но он признаётся ей, что любит другую. Фатима кончает с собой, т.к. всё равно её ждёт гибель за помощь пленнику.
Немного о композиторе Ц. Кюи
Он был сыном наполеоновского офицера, оставшегося жить в России после ранения под Смоленском в 1812 г. Ц. Кюи не был профессиональным композитором, он окончил Главное инженерное училище и через 4 года был произведён в офицеры с чином прапорщика. В 1857 г. окончил Николаевскую инженерную академию с производством в поручики. Был оставлен при академии репетитором топографии, а потом преподавателем фортификации; в 1875 г. получил чин полковника. В связи с началом Русско-турецкой войны Кюи, по просьбе его бывшего ученика Скобелева, в 1877 г. был командирован на театр военных действий. Производил обзор фортификационных работ, участвовал в укреплении русских позиций под Константинополем. В 1878 г., по результатам блестяще написанной работы о русских и турецких укреплениях, был назначен адъюнкт-профессором, занимая кафедру по своей специальности одновременно в трёх военных академиях: Генерального штаба, Николаевской инженерной и Михайловской артиллерийской. В 1880 г. стал профессором, а в 1891 г. – заслуженным профессором фортификации Николаевской инженерной академии, был произведён в генерал-майоры.
Кюи первым среди русских инженеров предложил применение бронебашенных установок в сухопутных крепостях. Он приобрёл большую и почётную известность как профессор фортификации и как автор выдающихся трудов по этому предмету. Был приглашён для чтения лекций по фортификации наследнику престола, будущему императору Николаю II, а также нескольким великим князьям. В 1904 г. Ц. А. Кюи был произведен в чин инженер-генерала. Музыка была его любимым увлечением.
Опера Я. Наполи «Скупой барон»
Якопо Наполи – итальянский композитор (род в 1911 г. в Неаполе). Оперу «Скупой барон» на сюжет Пушкина он создал в 1970 г. Либретто написал Марио Пази. Опера имела большой успех у публики и была встречена похвалами итальянской музыкальной критики. Своё обращение к «маленькой трагедии» Пушкина он объясняет так: «Я всегда любил Пушкина, с детских лет. Достаточно одного «Бориса», чтобы определить всю личность этого великого поэта». И далее он пишет: «Текст Пушкина, напряженный, мрачный, изобилующий поэтическими образами, предоставил мне возможность, как я давно желал, расширить мой музыкальный язык, особенно с точки зрения гармонии и контрапункта. Этот новый опыт внутренне обогатил меня».
Опера состоит из 4 действий. Она была поставлена в Неаполе. Дирижер первого спектакля, маэстро Франко Караччоло, и певцы: Отелло Боргоново (барон) и баритон Клаудио Струдтгоф (Альбер) – своей интерпретацией способствовали успеху спектакля. Постановка оперы, освещение, костюмы, реквизит – все это было с большим искусством создано опытным художником Аттилио Колоннелло.
В кишиневском дневнике 1821 года Пушкин записывает: «Читал сегодня послание князя Вяземского к Жуковскому. Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! Кому был Феб из русских ласков (разрядка Пушкина.— В. Я.) — неожиданная рифма «Херасков» не примиряет меня с такой какофонией». Разбирая другое стихотворение того же поэта, «Нарвский водопад», Пушкин в письме к автору (1825) отмечает «звуки музыкальные».
«Звукопись» является органической частью великого поэтического мастерства Пушкина, всей его системы средств художественного воздействия.
Эту музыкальную законченность в поэзии Пушкина,—о которой всегда так много писалось и говорилось, без учета, однако, глубоко сознательной работы поэта,— живо чувствовал Чайковский. «Не могу понять,— писал он в письме к Мекк,— каким образом, любя так живо и сильно музыку, Вы можете не признавать Пушкина, который силою таланта очень часто врывается из тесных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки. Это не пустая фраза. Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть ч т о-т о проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть музыка»134 (разрядка Чайковского.— В. Я.).
Оперы Чайковского, написанные на сюжеты произведений Пушкина,— эпоха в истории русского оперного театра.
Возникает вопрос: почему композитор в вокальной лирике (в романсе и песне) почти совсем не обращался к пушкинской поэзии, которую он так высоко ценил. В сцене письма Татьяны музыкальность стиха повела к наиболее полному проявлению творческого гения Чайковского; но отчего же в своих многочисленных романсах композитор почти не нашел возможности использовать страницы богатейшего лирического наследия Пушкина? Несколько фактов, относящихся к данному вопросу, могут, как нам кажется, косвенно осветить отдельные моменты основной темы нашей работы — о «театре Чайковского» на пушкинские сюжеты.
Один из личных друзей композитора вспоминает: «Чайковский в разговоре со мной сказал однажды, что не может почти писать романсы на слова Пушкина, потому что у поэта все выражено так ясно, полно и прекрасно, что музыке договаривать нечего».
Такое заявление говорит о том, что Чайковский пытался писать на тексты Пушкина. К числу этих попыток относится, вероятно, самая ранняя из них и до нас не дошедшая, написанная еще в годы его учения в консерватории сцена: «Объяснение Самозванца с Мариной. Ночь. Сад. Фонтан» 136.
Но поэтическая ценность стихотворения для Чайковского еще не являлась решающей в выборе текста для музыкальной композиции; в некоторых письмах он чрезвычайно высоко оценивает, например, Фета, Тютчева, а между тем на слова первого поэта им написано всего пять романсов 137, а из творчества второго им использованы тексты также лишь для трех вокальных пьес — два романса (из них один — перевод из Гете) и дуэт. На текст Лермонтова Чайковским был написан один романс 138.
Таким образом, на стихи выдающихся поэтов Чайковским написано менее, чем на стихи Апухтина, Полонского, Ратгауза, К. Р., не говоря уже об Алексее Толстом (четырнадцать романсов) и Плещееве (кроме четырнадцати, из серии детских песен ор. 45, еще пять, впрочем, почти все переводные). Для Чайковского окончательный выбор текста решала не музыкальность стиха, а «большее или меньшее удобство (стихотворения.— В. Я.) быть положенным на музыку»139. Это замечание требует, разумеется, дополнительных разъяснений.
В историческом споре о правах текста и музыки Чайковский твердо стоял на позиции преимущественного значения музыки перед словом. Его творческие приемы, основанные на этом убеждении, были предметом постоянных нападок некоторых русских критиков при его жизни и впоследствии — от Ц. Кюи до В. Каратыгина.
Приведем одно из многих суждений Кюи, отстаивавшего иной принцип и более или менее последовательно осуществлявшего его в собственном творчестве: «Истинно вокальных композиторов вдохновляет поэтический текст: его метр определяет ритм музыки и такт; строение фраз текста определяет музыкальную фразировку и строение мелодии; форма стихотворения — количество музыки, словом — все в вокальной музыке должно быть вызвано текстом. Редко нечто подобное мы находим у Чайковского. Текст для него не имеет серьезного значения, поэтому он так часто выбирал для своих романсов не только заурядные, но просто плохие стихи. Музыка у него сама по себе, а текст сам по себе; обыкновенно музыки много, текста мало, приходится повторять не только стихи, но и отдельные слова, то есть искажать и форму и даже смысл стихотворения. Поэтому музыка многих романсов Чайковского прелестна, а хороших романсов у него мало. Такое же обращение со словом находится в операх Чайковского. Конечно, Чайковский приобрел некоторую практику в верном употреблении ударения в пении, но фразировка его слаба, а некоторые повторения слов — просто забавны» (1887) 140.
Свое категорическое суждение, лишь немного смягченное, Кюи повторил в известной книге «Русский романс», где подробно формулировал требования, предъявляемые к вокальному композитору; в главе, посвященной Чайковскому, Кюи подчеркнул, что с точки зрения этих требований Чайковский, будучи «прежде всего симфонистом, гораздо менее вокальный композитор» *41. Вслед за Кюи повторяла те же доводы довольно значительная часть русской критики XIX века.
В. Каратыгин также не раз возвращался к этому вопросу и в одной из последних своих статой буквально «обрушился» на Чайковского как за неразборчивость в выборе текстов, так и за «варварское», по словам критика, обращение со стихом; в частности В. Каратыгин обвинял Чайковского в искажении «музыки стиха» 142.
П.И. ЧАЙКОВСКИЙ
Фото 1877 года
Сам Чайковский, признавая некоторые свои недостатки по части «музыкальной декламации», в одном из писем коснулся этих нападок и объяснил свою позицию так: «Ваши указания на погрешности против декламации, вероятно, слишком снисходительны. В этом отношении я неисправим. Не думаю, чтобы в речитативе, в диалоге я наделал много промахов этого рода, но в лирических местах, там, где правдивость передачи общего настроения увлекает меня,— я просто не замечаю ошибок, подобных тем, о коих вы упоминаете, и нужно, чтобы кто-нибудь точно указал на них, чтобы я их заметил. Впрочем, надо правду сказать, что у нас к этим подробностям относятся слишком щепетильно. Наши музыкальные критики, упуская из виду, что главное в вокальной музыке — правдивость воспроизведения чувств и настроений,— прежде всего ищут неправильных акцентов, не соответствующих устной речи, вообще всяческих мелких декламационных недосмотров, с каким-то злорадством собирают и попрекают ими автора с усердием, достойным лучших целей. По этой части особенно отличался и до сих пор, при всяком случае, отличается Кюи. Но согласитесь, что безусловная непогрешимость в отношении музыкальной декламации есть качество отрицательное и что преувеличивать значение этого качества не следует. Однакож, указывая на это свойство наших зоилов, я вовсе не претендую быть правым. Что касается повторения слов и даже целых фраз, то я должен сказать, что тут диаметрально расхожусь с вами. Есть случаи, когда такие повторения совершенно естественны и согласны с действительностью. Человек под влиянием аффекта весьма часто повторяет одно и то же восклицание, одну и ту же фразу».
Взгляд на задачи музыки передавать лишь общее, основное настроение, выраженное стихотворением, поддерживал, как известно, друг Чайковского, Ларош, выдающийся музыкальный критик. В одной из своих статей, появившихся уже в то время, когда боевые столкновения с «Могучей кучкой» стали затихать, он стремится найти компромиссные решения в убедительных исторических примерах 144.
Ларош указывает здесь на то, что «никто не думает отрицать вокальную музыку. Вопрос только о том, требует ли совместное существование двух искусств в более или менее близкой связи безусловного и рабского подчинения одного из них другому, нельзя ли установить между ними такой modus vivendi, который, удерживая их от столкновений, гарантировал бы их взаимную независимость. На этот вопрос есть множество ответов. Для меня,— продолжает он,— идеал декламации — народная песня, положим русская. Здесь. одновременно сказывается живая связь двух искусств и их обоюдная свобода».
Далее Ларош ссылается на композиторов последних столетий от И. С. Баха до Берлиоза и Глинки, у которых декламация «то с преобладающим поэтическим, то с преобладающим музыкальным элементом представляет высокие, быть может, недосягаемые примеры». И в творчестве самого Кюи, главнейшего пропагандиста новейшей декламационной школы, Ларош находит примеры «отклонений от чисто декламационного принципа в опере «Анджело» и особенно в «Ратклиффе», где сильно чувствуется «песенный» элемент».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12