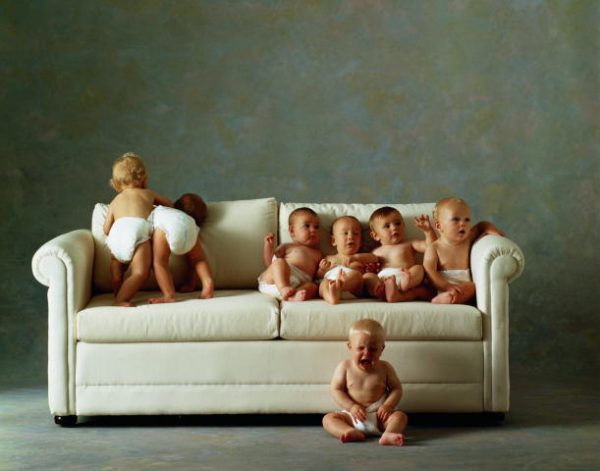Самое главное здесь – правильно рассчитать, как в Евангелии: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее». Не надо взваливать на себя груз больше, чем сможешь понести: груз не донесешь и спину себе сломаешь.
Нередко встречается в православной среде такое мнение: настоящая семья обязательно предполагает наличие большого количества детей. Один – недостаточно, два – лучше, но тоже мало, три – еще ничего, но лучше больше. И со всех сторон идут очень настойчивые призывы: рожай, рожай, чем больше, тем лучше! В стиле плаката про Родину-Мать: «А ты родил еще одного ребенка? Ты улучшил показатели рождаемости Российской Федерации?»
На мой взгляд, это не очень правильная позиция, а иногда и вовсе безответственная. Далеко не каждой семье «прописана» многодетность, далеко не каждая мать может понести этот крест, и далеко не каждый отец (о которых почему-то всегда забывают, призывая женщин рожать много детей, словно мы умеем размножаться вегетативно и нам, женщинам, вполне под силу воспитать много детей в одиночку).
Расскажу вам такую показательную историю. Была у меня одна знакомая православная семья: три дочери, муж – научный сотрудник с большой окладистой бородой, жена – каждое воскресенье в храме, длинная юбка, посты, акафисты – все как положено. Муж всеми руками-ногами был за рождение большего количества детей в семье. Говорил жене: хоть шестерых рожай, я только рад буду.
Но при этом никакой помощи от него во взращивании детей не было, жена одна должна была разбираться со всеми сложностями их воспитания. С деньгами в семье, как и с взаимным пониманием, тоже было довольно туго, что очень напрягало жену. Неоднократно она подумывала о разводе. На мой взгляд, чем такая натужная многодетность, из принципа: «помру, но сделаю, как положено», лучше вообще бездетность. Потому что никакой радости от этого нет – ни родителям, ни детям.
И ведь нередко бывает, что священник требует от своих духовных детей «рожать, сколько Бог даст» – несмотря ни на что. Очень сложно определить и обозначить, где границы, за которые никому нельзя заходить в такой сложный и хрупкий мир, как «малую церковь» – семью. Может и должен ли духовник в отдельных случаях быть ближе и «главнее», чем муж, например? Нужно ли ему вступать в конфликт с мнением мужа/жены?
Это очень непростой и важный вопрос, не вписывающийся в рамки данной статьи и компетенции ее автора. Но вопросы количества детей, контрацепции, как и интимной супружеской жизни, я уверена, регулировать могут и должны только сами супруги – друг с другом. Духовник может лишь мягко советовать, объяснять, максимум – увещевать. Но не давить, пугать и заставлять.
Памятник материнству в Хельсинки, Финляндия
А как часто бывает, что женщина просто не может забеременеть! Для нее это и так больное место, она и так переживает и расстраивается, что Бог не дает детей, а тут еще в рану втыкается «православная» игла: знать, за грехи Господь наказывает, раз деток не дает! Или еще что-нибудь, столь же «доброе» и «милосердное».
И тут же начинают давить и настырно убеждать, что нужно усыновить сироту, если своих детей не удалось завести. Это, конечно, правильная мысль, но надо понимать, что опять-таки не каждый может понести такое – усыновить чужого ребенка, что это очень непросто, едва ли не сложнее, чем воспитывать много собственных детей.
На этом пути множество подводных камней, и нередко благие намерения осчастливить несчастного ребенка из детдома сталкиваются с суровой реальностью. Поверьте: лучше вообще не усыновлять сироту, чем привести его домой, а потом опять вернуть его в детдом (а таких случаев возврата очень много, а бывают дети, которых возвращали по 3–4 раза! Что творится в душе этих детей, которых так предали неоднократно, страшно себе представить).
Самое главное здесь – правильно рассчитать, как в Евангелии: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее». Не надо взваливать на себя груз больше, чем сможешь понести: груз не донесешь и спину себе сломаешь. Главное в спасении чадородием – не количество детей, а их качество, если так можно выразиться. Главное, воспитывать их в любви, взаимопонимании, уважении и взаимной радости. Чтобы родители любили, прежде всего, друг друга, чтобы дети были их естественным продолжением и реализацией их взаимного чувства.
Есть у меня и другой, позитивный пример: шестеро детей, очень счастливая и крепкая семья. Каждый ребенок рождается от полноты любви, и только прибавляет количество счастья в доме. Всякий раз, когда я бываю в гостях у этой семьи, я восхищаюсь мамой и радуюсь, что такие героини (на мой взгляд) живут среди нас.
Но никогда бы я не стала рассчитывать на то, что все подряд смогут взять на себя этот ежедневный, малозаметный, но от этого не менее сложный и ресурсозатратный, подвиг – быть многодетной матерью.
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
«Я лично знаю людей, которые развелись, когда у них было уже 11 детей», «В последнее два года в родительских центрах, которые я курирую по вопросам психологии, произошли уже два громких больших разрыва семейных пар», — эти высказывания известных многодетных мам свидетельствуют о том, что резонансная тема проблем многодетных семей, затронутая протоиереем Павлом Великановым, возникла не на пустом месте.
Предлагаю подборку мнений по теме.
Юлия Комарова, мама 6 детей, лауреат Всероссийского конкурса для журналистов «Семья и будущее России»-2016
«Я думаю, силком тащить в наш лагерь никого не нужно»
Действительно есть такая практика – создавать некий лубочный образ многодетности в СМИ: от многодетных ждут не правдивого рассказа о том, как они живут, а духоподъёмных статей о «прелестях многодетной жизни». Мне ставили в упрёк, что я высказываю не всегда приятные и красивые мысли на эту тему. Не раз делали замечания, когда я называла многодетность подвигом. Сейчас везде говорят о том, что многодетность – это норма. Но разве это действительно так?
Трудностей тут как раз достаточно много.
Во-первых, у нынешних родителей нет опыта многодетной жизни – сами мы выросли в семьях с одним, максимум – двумя детьми. Во-вторых, у нас в провинции практически не существует современной работающей православной педагогики. Я говорю о такой науке, которая помогала бы воспитывать именно современных детей, с их особенностями развития. Потому что домострой и дореволюционная практика – это уже устаревший метод. В-третьих, очень мало помогает нам государство. С одной стороны, чтобы получить помощь, ты должен доказать, что ты малоимущий. С другой стороны, для получения медали, к примеру, нужно выдержать проверки как раз-таки на «имущесть»: заглянут в холодильник и шкаф, поинтересуются, есть ли у каждого ребёнка комната и т.п. Вот такая двойственность! При том, что у многодетных остаётся больная и часто нерешаемая проблема с жильём.
В-четвёртых, и это, пожалуй, главное, действительно существует большая беда отсутствия любви в семье. Как быть тем родителям, у которых не возникает этого чувства к новым рождающимся детям, а ведь православие подразумевает, казалось бы, рожать столько, сколько Бог пошлёт?
Включать ли мозги, анализировать свои проблемы или продолжать «через силу» осуществлять заповедь «плодитесь и размножайтесь», минуя заповедь «да любите друг друга»? Как вообще продержаться в «подводной лодке», если не выныривать на поверхность и не заглатывать нужную порцию воздуха-любви?
Да, многодетность не для всех. Я думаю, что силком тащить в наш лагерь никого не нужно. Мы же не пленников берём! Все знают: невольник – не богомольник. Я думаю, взрослым людям нужно осознавать совершенно чётко, на что они идут. Мы в своё время «замахнулись» на шестерых, причём не по недомыслию. Это был сознательный выбор двоих, совершенно добровольный и обоюдный, что важно. Потому что многодетность – это не личное дело индивидуума. В это действо вовлекаются и родители, и их дети, а потом и дети детей, поэтому круг ответственности необъятно широк.
Становясь многодетными, мы несём не только свой личный крест, как у нас любят выражаться. Мы взваливаем на себя три-шесть-десять крестов. К этому надо бы быть готовым. Хотя бы морально и психологически.
А есть люди, которые не тянут и одного. Вот у нас любят повторять: Господь не даёт крест не по силам. И это верно! Но люди часто своевольно взваливают на себя непосильную ношу.
И да, я считаю, что ядро в семье – двое родителей, поэтому никакое количество детей не сможет «склеить» разрушенные отношения между мужем и женой. Я лично знаю людей, которые развелись, когда у них было уже 11 детей. С другой стороны, по собственному опыту поняла, что дети не помеха любви между родителями. Если двое любят друг друга и хотят быть вместе, дети становятся естественным продолжением и плодом их отношений, неким бонусом. Честно! Они привносят в семью некую полноту жизни, завершённость жизненного цикла. По моим ощущениям, дети выводят пару в космос, помогают почувствовать необъятность Вселенной, неистребимость Жизни.
Протоиерей Алексий Уминский
«Родители должны четко понимать, ради чего они создавали семью»
Многодетность существует как возможность реализации брака, как продолжение брака в любви…
Все зависит от семьи. Если в ней соблюдена пропорция отношений, если детям есть чем заняться, если эти занятия родители контролируют, а внимания и любви к каждому ребенку со стороны родителей достаточно, то и впятером в одной комнате можно находиться. А если многодетная семья такова, что отец из последних сил зарабатывает на кусок хлеба, истощает свое собственное внутреннее состояние, возвращается домой раздраженный и злой, и ему не до детей, а мать постоянно находится в послеродовой депрессии и, соответственно, не включена в своих детей, то, конечно, в такой семье детям будет плохо независимо от количества комнат…
Депривация может быть и в семье с одним ребенком. Вопрос в том, понимают ли родители, что происходит в семье, видят ли себя, детей, отношения или им уже совсем не до этого? Следят ли они за тем, кому из детей сейчас необходима особенная помощь?
Вот совсем недавний пример: уехали родители отдыхать, оставили совершенно нормального ребенка с чужим человеком, вернулись через месяц, а их трехлетний сын перестал разговаривать, впал в аутизм. И у них стоит вопрос: заводить ли им следующего ребенка? Могут ли они в такой ситуации позволить себе многодетность? Разве не очевидно, что этому ребенку необходимо не просто все, а 200% их внимания!
Кто-то из родителей это понимает, а кто-то нет. Конечно, эта семья хочет еще детей, но что будет с этим ребенком? Понятно, что с ним тяжело, и вдруг новый ребенок будет хороший, хочется же себя реализовать как родителей.
Родители должны видеть, чувствовать, понимать, в какой ситуации растут дети, все ли у них в порядке. Не так важно, что им не хватает лишней комнаты, что они не носят модной одежды и у них нет мобильных телефонов. Родители должны четко понимать, ради чего они создавали семью, почему в их семье есть дети, какими они должны быть.
Я хочу подчеркнуть, что не так важно количество комнат, а важно состояние ребенка, состояние матери, состояние отца, включенность их в эту жизнь. И если этого не будет, не будет и нормальных детей ни в многодетной, ни в малодетной семье.
Я же не просто так говорю, я, к сожалению, вижу такие семьи, где мама беременна седьмым ребенком, а дети совершенно выключены из жизни. Ими очень много надо заниматься, чтобы растормозить, вывести из детской депрессии, потому что мать сама давно в депрессии. Она делает все, что надо – моет, стирает, готовит, проверяет уроки, но в жизнь не включена. И дети не включены.
Приходит с работы отец, начинает требовать, потому что хочет немного растормошить детей своей строгостью, и это было бы нормально, если бы мать была включена. Дети бы не боялись отца, не чувствовали бы напряжения, когда есть добрая мать, и строгий справедливый отец контролирует и иногда наказывает. Но мать не включена, а отец наказывает, потому что они ведут себя не всегда хорошо, получают плохие оценки.
Я вижу в нашей гимназии много многодетных семей, и все дети от мала до велика – замечательные. А есть семьи, где дети проблемные. Причем до какого-то возраста они могут быть вполне благополучными, но потом может наступить депривационная ситуация, если многодетность оказалась непосильной для родителей, и дети меняются, становятся зажатыми, задавленными. Они закрываются как бутончики. Хорошо еще, что они в такой школе учатся, где мало учеников в классе, где сильное влияние учителей, много разных интересных занятий. Я вижу, как они приходят в себя, постепенно начинают оживать. Но, так или иначе, они все равно проблемные дети, с ними все время что-то происходит. Их нельзя ругать, нельзя вызывать родителей – будет еще хуже, ведь родители с ними не справляются…
Подвиг многодетности тяжело дается…
Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, мама 11 детей
«Многодетные – молодцы, но это не повод для расслабления и эйфории»
Меня вообще пугает то, что сейчас многодетность идеологизируется. Когда семья решается на многодетность по слову батюшки, по слову «партии», а не по внутреннему желанию семьи. Дети — это надолго, на всю жизнь родителей. И поэтому здесь должно быть личное желание, личная заинтересованность и обоюдное согласие супругов…
Здесь нужно все очень хорошо продумывать. Вывесить транспаранты — это не помощь семье. Вообще идея, что как-то можно сделать многодетность популярной в обществе — малореальна, если смотреть на то, что в целом происходит в мире. В постиндустриальном обществе не нужна многодетная семья. Поэтому многодетными становятся либо люди верующие, религиозные (не обязательно православные), либо те, кто почувствовал эту детскую благодать помимо веры, понял, насколько это здорово — появление каждого следующего ребенка…
…Отличительная особенность многодетных родителей в том, что они уверены, что они молодцы. Они усиленно поддерживают родительский статус под давлением общества. Как вы справляетесь, удивляются окружающие, — А вот мы справляемся!
Люди, которые заводят большую семью, более сильные в некоторых аспектах, более ответственные. В наше время, когда большая семья – это нетипичная для России ситуация, многодетность говорит о том, что вы действительно молодцы. Но это не повод для расслабления и эйфории.
Количество детей – это не гарантия по отношению к семье, как это ни печально. По моим наблюдениям, в последнее два года в родительских центрах, которые я курирую по вопросам психологии, произошли уже два громких больших разрыва семейных пар. Те семьи, которые можно было ставить в витрину как образец, попали вдруг в колоссальные жернова испытаний и не справились с ними.
В семье неполадки начинаются не с детей, а с родителей. Существуют проблемы с органикой, соматикой, но проблемы маленьких детей, шероховатости в подсистеме детей являются следствием особенностей отношений в родительской подсистеме…
Показателем внутреннего комфорта семьи, супружеских отношений является то, возникла ли граница — детское и не детское… Родители должны следить, чтобы оставалось свободное пространство, пространство разговоров, пространство отношений. Его сложно описать, ну если бы вы остались вдвоем, прилетела бы добрая фея и отвлекла бы ваших детей, организовав праздник, подумайте, было бы вам интересно друг с другом и будете ли вы разговаривать на темы, не связанные с детскими и хозяйственными делами.
Когда подменяется и вымывается все содержание, кроме детского, это очень тревожный признак. Основной рецепт — увидеть, как это происходит.
Пришли вы с работы, привели с занятия ребенка, надо смотреть, как перетекают отношения в другие места, не туда, куда им надо, почему наступаете на эти грабли, в какое время суток это происходит. Типичная ситуация — нарушения контакта. Если вы это внимательно отследите, это уже будет изменение… Не забывайте, что только вы сами своим интеллектуальным трудом сможете выстроить гармоничные отношения в семье, браке.
О многодетности — честно
29 ноября 2017 01:32
Это интервью уже убрали с сайта, усмотрев в нем какую-то крамолу. Мне же оно кажется очень честным, взвешенным и добрым. Именно поэтому выкладываю его здесь.
На вопросы отвечает священник, многодетный отец.
Интервью опубликовано 26 ноября на сайте «Милосердие», снято – утром 27-го ноября. Интервьюирует – Дарья Рощеня.
Что-то неправильно в нашей консерватории, или размышления протоиерея Павла Великанова о семье как пространстве предельной концентрации любви.
Уже много лет я не слышала выражение «плодить нищету». Будто кто-то исключил его из списка привычных упреков. Чем не признак некоторого оздоровления общества и признания многодетности нормой?
Впрочем, недоумение и легкое негодование окружающих все же витает в воздухе. Не случайно, то и дело появляются статьи, в которых многодетных просят поделиться рассказами о семейном счастье и радости воспитания детей в большой семье, а вовсе не о трудностях. Чтобы развеять наши сомнения. И это не госзаказ, не политика пропаганды большой семьи. На фоне рекламных призывов новых столичных микрорайонов – «плодитесь!» – эти заметки на полях больше напоминают попытку почувствовать, нащупать — а как самим-то многодетным? Нормально? Многодетность – это благо или зло, счастье или беспросветные трудности?
О том, есть ли проблемы у многодетных и каков их характер, мы решили побеседовать с настоятелем Пятницкого Подворья Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, доцентом Московской духовной академии, главным редактором портала Богослов.Ру протоиереем Павлом Великановым, который, к слову, ещё и отец четырех детей. Разговор получился более, чем неожиданным.
Когда добро может обернуться бедой
— Отец Павел, есть ли у вас ощущение, что отношение к многодетным в России пренебрежительное и раздражительное: мол, нарожали, а теперь требуют решать их проблемы? И насколько это отношение устойчиво?
— У меня нет однозначного ответа. Лично я не сталкивался с ярко выраженным негативным отношением к многодетным. Впрочем, я могу предположить, что здесь немалая вина нас самих. Мы создаем и романтизируем культ многодетности, думая, что тем самым можем перевернуть и существенно изменить отношение к многодетности в обществе. Но многодетность – вовсе не панацея от социальных, психологических, личностных, да и духовных проблем. На самом деле, мне чаще приходится сталкиваться с другой серьезной проблемой – когда мы однобоко продвигаем культ многодетности без всякого рассуждения, словно это неотъемлемая часть православного «Символа веры», то на выходе получаем не сознательно и свободно ставших многодетными, а вынужденно. «Романтизация» многодетности без объяснения того, что это – реальный ежедневный труд и подвиг, к которому надо подходить ответственно, с рассуждением – и не каждому это по силам – всё это плохая услуга молодожёнам. Не всякому быть монахом, не всякому – женатым, и не всякому – многодетным.
— Что вы имеете в виду?
— Это ситуация, когда, став многодетными, у людей нет ни внутренних сил, ни материальных ресурсов, чтобы хотя бы просто детей обеспечить. Вся та романтическая пена, которая активно взбивается определенными кругами – «чем больше детей, тем легче жить!» – на самом деле далеко не всегда соответствует действительности.
Понимаете, одно дело – это материальная сторона, а другое, что гораздо сложнее и важнее – это необходимость включенности родителей в жизнь детей, возможность и способность уделять достаточно внимания своим детям.
Дети ведь хотят от родителей гораздо больше, чем мы думаем.
Если ребенок воспитывается в семье (в нормальной, любящей, обеспеченной семье), где один-два ребенка, он получает гораздо больше внимания, чем ребенок, где в семье 5-6 и больше детей, и при этом нет ни нянек, ни гувернанток, ни домработниц – дефицит внимания неизбежен.
Я уверен, что сегодня разговор о многодетности из высокого пафоса стоит переводить в плоскость более открытого и откровенного разговора о реальных сложностях, с которыми сталкиваются родители в многодетной семье.
Да, это единственно правильно, что в семье должно быть много детей. Но нужно понимать и то, что это серьезный подвиг. И к этому подвигу люди должны быть готовы. Готовы – но не вынуждены. Они чётко должны понимать, на что идут. Если раньше человек вырастал в многодетной семье и имел опыт такого уклада жизни – то сегодня большинство родителей – из семей с одним, максимум двумя детьми, а то и вообще из неполной семьи.
И если они не готовы, то делать заложниками многодетности как самих родителей, так и детей, – неправильно и нечестно.
Любая добродетель, которая стала вынужденной, рискует превратиться из добродетели в настоящую беду.
Если человек начинает жить на пределе сил и возможностей, если перестает воспринимать свою многодетность как благословение Божие, если начинает тяготиться этим, то возникает большой вопрос: а появится ли у детей, которые воспитаны в такой семье, хотя бы минимальное желание пойти по стопам своих родителей?… При том, что обязательная многодетность воспринимается именно как церковная неизбежность?
В чем мы ошибаемся
— Но есть же чадолюбивые нации, где многодетность воспринимается как достоинство, честь, норма и готовность к ней — в крови. Это итальянцы, испанцы, грузины. Грузия при этом была одной из советских республик. Только ли дело здесь в воспитании?
— Наша страна прошла через страшное горнило испытаний. Любой народ всегда четко разделен на определённые слои, которые и формируют общество как таковое. Так вот все эти слои в нашей новейшей истории засунули в мясорубку и превратили в фарш. Из русского народа сделали фарш. Из которого можно было уже лепить что угодно.
Те же самые грузины и другие жители Кавказа и Закавказья – они не стали «фаршем» в советский период. Да, их модус существования в государстве изменился, но внутреннее расслоение, устои, как были, так и оставались в целом незыблемыми. А русский этнос по-настоящему пострадал. Поэтому, мне кажется, что кризис современной российской семьи связан с глубинным кризисом идентичности.
Вы задали вопрос: как общество относится к многодетным? А знаете, я не вижу этого общества, о котором можно было бы сказать, что оно к чему-то и как-то относится. В нашем обществе нет целостности, гомогенности, сплоченности, того, что позволило бы заявить: российское общество относится к вопросу многодетности так-то. Его – общества как целостности – просто нет.
Точки, вокруг которых концентрируются взгляды, внешние серьезные стимулы, вызовы – возможно, это то, что способно помочь обществу консолидироваться. Как было в ситуации с Украиной и Крымом, например, когда какие-то события стали притягивать людей друг к другу и стало появляться некое единство.
Возможно, то же самое должно произойти и здесь. А пока я вижу, что российский исламский мир гораздо здоровее в плане семейных отношений, чем то, что мы именуем российским как-бы-православным миром. Это не на уровне теоретизирования, а на уровне практики особенно хорошо видно. Однажды я летел с малолетним сыном в Минеральные Воды. Почему-то нам указали места в разных рядах. Так вот, единственный, кто без всяких разговоров и просьб вскочил и поменялся местом – был мусульманин из одной из закавказских республик. «Конечно, батюшка, о чём разговор?» Остальные – наши, родные, русские, с крестами на груди, молодые и взрослые, делали вид, что не слышат, а то и просто отшивали: «Не видите что ли, я уже сижу, и это – моё место!» Когда вы приходите в кафе, например, то видите, что мы, русские, всегда сидим обособленно, по-отдельности, а мусульмане стараются не только поприветствовать единоверцев, но и сесть рядом друг с другом. Даже если в помещение заходит какой-то новый мусульманин, он тут же органически вписывается в это сообщество, несмотря на то, что ни с кем не знаком.
Я уверен, что наша консолидация должна произойти на уровне физической боли, какого-то глубинного ощущения появившейся сродности. Если этого не будет, то дальнейший распад только продолжится. Какие бы красивые лозунги не развешивали по улицам.
Сейчас в обществе есть огромная проблема с пониманием своей идентичности. Я бы назвал это ощущением растерянности. Люди сейчас хотят не на словах, а в самой жизни почувствовать что-то другое. И когда мы говорим: вот, посмотрите на наши православные семьи, как у них всё хорошо, только потому, что они православные и многодетные… – это нечестно. Ведь на самом деле придут и посмотрят, и сделают свои выводы.
Знаете, я смотрю на наши многодетные семьи, с которыми мне приходится работать, сталкиваться на приходе, а ведь среди них очень мало тех, на которых мне хотелось бы кого-то ориентировать. Они есть – но таких – единицы.
Они исключения. Чаще приходится сталкиваться с тяжелыми во всех отношениях непростыми ситуациями, в которых объективный взгляд найдет очень много негатива и невнимательности друг к другу.
Когда дети в таких семьях достигают относительно самостоятельного возраста, уверяю вас, они просто сбегают. Одни – пускаются во все тяжкие. Другие – хоть и живут с верой в Бога, но со значительной дистанцией от Церкви как института. В храм они, конечно же, не ходят. Поэтому я убежден, что сегодня мы имеем очень серьезные проблемы именно в содержательном плане: мы предлагаем людям многодетность как единственно эффективно работающую модель внутрисемейных отношений. И – ошибаемся. Многодетность – прекрасна, но не для всех.
— Постойте, но эта агитация разве не от Церкви исходит?
— Не только. Многодетность не сделает вас счастливыми механически. Не существует никакой «волшебной магии» многодетности.
Понимаете, если вы не научились любить друг друга без детей, то оттого, что у вас появятся их шестеро, ваши отношения не перерастут в нечто большое по принципу перехода «количества в качество».
Если между людьми были серьезные проблемы изначально, если они не смогли полюбить друг друга, раскрыться друг в друге, держаться друг друга без детей или с малым количеством детей, то при появлении «магического» седьмого ребенка, как у нас некоторые говорят – «происходит полное омоложение организма женщины на клеточном уровне» … – так вот, ничего этого не произойдет и чуда не случится!
Я знаю семьи, которые распадались, имея троих, четверых, пятерых детей. При этом все эти семьи были глубокоправославными, а некоторые даже ультра церковными.
Однако дети в таких семьях получались настоящими духовными инвалидами, которые никакого отношения к Церкви сегодня уже не имеют. Они вырастают, уходят – и всё! И то, что их еженедельно приносили к причастию, что годами они сидели в воскресных школах – все это не работает. Или, в лучшем случае, эффективность минимальная.
Потому, что механически в жизни личности ничего не работает. Работает только тогда, когда человека касается искренняя заинтересованность и любовь другого. Когда он приходит и отогревается, когда видит, что его любят не на словах, а на самом деле.
О лукавстве приставки «надо»
— Недавно на нашем портале был опубликован опрос супругов из православных многодетных семей. Когда мужчин и женщин спрашивали о рецептах их многодетности, то рефреном и в унисон у всех звучала мысль: «Чтобы быть счастливой семьей, нужно любить эту жизнь, где много детей; любить заботиться; любить решать проблемы; любить разговаривать… потому что, если все это выполнять как долг, можно надорваться». У меня к вам вопрос, а если попробовал и понял, что ну нет сил? Бывают же те, у которых не получается ни любить, ни справляться, ни терпеть. Есть у вас здесь рецепт, как у многодетного отца?
— Здесь вообще нет никаких рецептов, кроме одного универсального: когда человек учится любить, это всегда больно.
Это больно, потому что нужно всегда переступать через свою самость; нужно учиться находить основания, чтобы где-то собой поступаться.
И когда этот процесс начинает происходить в человеке, в родителе, дети его не могут не любить.
А все эти побудительные вещи с приставкой «надо», надо любить и так далее, они немного лукавые.
Ведь Христос никогда не говорил нам, что «надо любить». Он говорил «любите друг друга!» А это вовсе не «обязаны любить». Он говорил в значении перспективы, по направлению к которой нужно двигаться. Любить – это не требование. Хорошая же это любовь, когда она – требование! Любовь – это условие жизни, а не требование, понимаете?
И если у нас нет этого понимания, если у нас во всем звучит «надо», то получается «нетеплая» любовь, вымученная.
Нередко это происходит потому, что многое делается «от ума». Вот мы услышали правильные слова, изучили правильные схемы из достоверных и благословлённых источников – и во все эти вещи начали пытаться правильно вписаться. В итоге –получаем жизнь «в образе». Который в итоге «съедает» своего носителя.
Но если мы ориентируемся на Спасителя как на единственный камертон человечности и правильности всего, мы не станем так поступать. Ведь Он не играл благочестивого еврея, не смотрел внимательно на реакцию окружающих, не пытался оценить, насколько эффективны или неэффективны его слова. Он был глубоко естественен. Он был искренен. У него болело сердце, когда Он видел, что Лазарь в гробу. И Он плакал. Когда Он видел, что в притворе храма дерут многократно за жертвенных животных, чем за его пределами – Он был в гневе.
Эта глубинная детская непосредственность и отсутствие того, что мы сегодня назвали бы внутренней цензурой, «правильностью» в принятой нами в системе координат. Этой «нашей правильности» у Христа совершенно нет. Поэтому Он свободно переступал условности, даже требования закона – когда видел в этом необходимость.
Недавно в воскресение читалось Евангелие о воскрешении сына наинской вдовы. (Прим. Ред. — В Евангелии от Луки 7:11-16 говорится о встрече по дороге в город Наин Христа с вдовой, несущей хоронить единственного сына. Христос утешил женщину и воскресил мальчика). Подумайте, это же надо быть совершенно безумным с точки зрения любого благочестивого еврея, чтобы прикасаться к одру с лежащим трупом! Это, по иудейскому закону, ритуальное преступление! Все равно что сегодня Великим постом перед всем храмом съесть кусок баранины.
Но Христа ритуал не останавливает. Потому что в Нем нет нашей искусственной двойственности, когда мы, с одной стороны, понимаем, что должны быть вот такими, а по факту – другие. Мы превращаем себя в некий интерфейс, который транслирует то, что должно быть, от того, чего у нас нет, но очень хотелось, чтобы оно было…Мне кажется, что большая проблема наших многодетных православных семей состоит в том, что они живут извне навязанными шаблонами и установками.
Шаблонами, которые навязаны людьми и той средой, которая вообще не знает, что такое дети, семья, межличностные отношения и каковы сложности и проблемы.
Зачастую у нас экспертами по воспитанию детей являются вовсе не опытные и успешные многодетные родители, и даже не те, кто имеет одного ребенка, а бездетные, способные говорить высокие и правильные слова. Но все эти слова больше от ума, от книжек, от теории, а не от практики.
И когда семья оказывается заложником этих умных, правильных, благочестивых шаблонов, ее неизбежно ждет серьезный кризис. Выходом из этого кризиса обычно бывает разрыв шаблонов. Другого исхода быть не может.
И те, кто не смогли переступить эти шаблоны, неизбежно рано или поздно обнаруживают, что многое из рекомендованного, что ставилось во главу угла, просто не работает. Оно оказывается такой мулькой, блефом, который предлагается как нечто самодостаточное и бесконечно важное, эффективно работающее, а по факту оказывается десятистепенного значения, а часто и этого не имеет.
Мучения ради любви — разве не любовь?
— Так что же делать? Неужели нет никаких практических советов?
— Здесь есть только один практический совет. Нужно трудиться в изучении сложнейшей науки под названием «искусство любви». И правильно расставлять акценты в приоритетах. Исходя из вашей конкретной семьи, а не из некоего «абстрактного идеала».
Прежде всего постигать искусство любви друг ко другу, затем – к своим детям, а потом и к окружающим. Любить надо уметь. И этому надо сознательно учиться. Это – вовсе не очевидные вещи, как может казаться поначалу.
Классическая схема, когда молодые православные супруги с каждым новым ребёнком начинают отчуждаться друг от друга. Всё брошено в котёл обеспечения многодетности. Друг для друга нет ни времени, ни сил, да и желания тоже нет. Вместо «вживания» друг в друга, узнавания друг друга, выстраивания отношений друг с другом, заработала, с позволения сказать, «фабрика по производству детей» и их дальнейшему обеспечению – ибо только это может быть оправданием близости как «узаконенного блуда» для тех, кто не может жить воздержно. Но если бы они загодя, ещё до порога супружества, честно признались друг другу, что главная задача мужа будет оплодотворять жену и финансово обеспечивать неуклонно растущую семью, а жены – регулярно рожать и воспитывать, отрабатывая в одном лице функции домработницы, повара, гувернантки и водителя, и это – 99% от содержания их супружеской жизни – не уверен, что они захотели бы вступать в брак с такой перспективой.
Одна из доминирующих установок в нашей среде – оправдание супружеской близости только в зачатии ребёнка. На брак многие хотят смотреть именно так: но давайте будем в этом вопросе последовательны. Если единственная цель близости – деторождение, и всё – тогда единственно допустимое время для этого – время овуляции, которое надо тщательно высчитывать, дабы не «промахнуться». Всё же остальное – скажем честно! – грех! Но и это еще не конец истории: если просто подсчитать, сколько в среднем должно быть детей в такой «правильной» семье, то их будет не 3-4, и даже не 5-7, а куда более десятка. Простая арифметика: даже если женщина вышла замуж в 25-27, то период её фертильности – около 30 лет. Даже если она рожает 1 раз в 3 года – а в реальности куда чаще это происходит – то это уже – 10 детей! Возникает вполне логичный вопрос: а что же происходит с семьями, которые «останавливаются» на 3 или 5 ребёнке – когда «производственный процесс», казалось бы, филигранно отлажен? Неужели супруги перестают вообще разделять одно ложе и берут на себя подвиг «монашества в миру»? Очень сомневаюсь! Просто после n-го по счёту ребёнка семья очевидным образом оказывается вынуждена разорвать навязанный шаблон «от ума» – либо прекратить своё существование.
Нельзя смотреть на близость супругов, словно на биологический препарат под микроскопом. Это – тайна двоих, и только: это продолжение стремления их как личностей к глубинному душевному и телесному единству, это «одна плоть», без поглощения, без уничтожения одного другим. И зачатие ребёнка – естественное, но не безусловное следствие этой близости. Зачатием не исчерпывается смысл и полнота происходящего между любящими друг друга супругами. Отец Валентин Свенцицкий подметил очень важную деталь: «Половое чувство в своём высшем напряжении стремится к созданию «единой индивидуальности». Дети есть результат недостигнутой внутренней задачи в любви. Природа даёт возможность передать эту задачу последующему поколению».
Настоящая любовь «из воздуха» не берётся. Это определенное умение, которое в нашем постсоветском обществе тотально атрофировано. И я думаю, что от каждого из нас зависит, в какой мере умение любить и хотя бы не травмировать друг друга мы сможем возродить в нашем обществе. А ведь дети неизбежно копируют модели отношений в семье, и потом транслируют их уже в собственных семьях – либо, осознав, пытаются их мучительно преодолеть.
Как Спаситель говорил? «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он же не сказал, что если у вас будет пятеро детей, если вы будете еженедельно причащаться и соблюдать Великий пост, вычитывать каноны и акафисты, но сказал, что узнает нас, «если вы будете иметь любовь между собой». Причем эта любовь не может не быть очевидной для окружающих. Она либо есть, либо ее нет.
В «Основах социальной концепции» ясно сказано: «Для христиан брак стал не просто юридическим договором, средством продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей, но, по слову святителя Иоанна Златоуста, «таинством любви», вечным единением супругов друг с другом во Христе». И в продолжение – едва ли можно сказать лучше, чем это сказано дальше: «супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7. 5). Очевидно, что решения в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может «вместить» высокие требования воздержания, от тех, кому это не «дано» (Мф. 19. 11), и заботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи. Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года указал священникам, несущим духовническое служение, на «недопустимость принуждения или склонения пасомых, вопреки их воле, к… отказу от супружеской жизни в браке», а также напомнил пастырям о необходимости «соблюдения особого целомудрия и особой пастырской осторожности при обсуждении с пасомыми вопросов, связанных с теми или иными аспектами их семейной жизни»».
— Но чтобы научиться любви нужно время, много времени.
— Вот именно. На это и нужно и время, и силы, потому что все остальное –несоизмеримо по значимости и по отдалённым результатам.
— А давайте обратимся в плоскость материальную, где многодетность уже свершившийся факт. Вот как говорят о многодетных: они живут, несчастные, на трех квадратных метрах, и угла друг у друга нет. Родителям некогда голову поднять, потому что они должны зарабатывать на жизнь, а значит пахать и пахать, что предполагает хроническую усталость. Когда тут любви-то научиться? В какой момент?
— Эти люди в такой ситуации, потому что они и есть заложники шаблона, который однажды был навязан им кем-то из «великих» авторитетов.
— Постойте, а как же раньше люди жили? Например, сто лет назад многодетная семья была нормой, рядовым случаем, а не исключением. Значит, не было у них таких проблем?
— Не знаю. Но мне приходилось общаться с людьми, которые родились еще в десятых-двадцатых годах XX века в крестьянских семьях, и у меня было острое ощущение их хронической недолюбленности. Да, это были взрослые, которые составили свои семьи, имели детей, внуков, но они так и остались ощетинившимися волчками, которым всю жизнь нужно было выживать и бороться за свое место под солнцем. Для государства, для работы, для карьеры – это может быть и неплохо. Но то, что в своих семьях они не знали любви, не имели навыка любви – это факт. Поэтому я бы не стал идеализировать те семьи и то прошлое.
— Не знаю, имеют ли в прошлом опыт любви сегодняшние многодетные родители, но нередко создается ощущение, что многодетные вынуждены жить по принципу: успеть, добыть, урвать – и все это ради детей. Идет ли речь о бесплатной путевке в лагерь для ребенка, билете в театр или на концерт, социальном продуктовом наборе. При этом рефреном звучит: «к счастью, я успела, нам досталось, мы попали». Или «войдите в положение», а «есть ли многодетным скидки»? И перед глазами череда мелких житейских успехов в этой добыче и погоне за благом для своей огромной семьи, часто через унижение, либо полный и тотальный провал и безразличие. Но это же тоже форма любви?
— Вы очень глубокую тему затрагиваете. Но я здесь вижу другое. Во всем этом лежит глубиннейшая компенсация той проблемы, в которой человек оказывается по причине того, что стал многодетным. Но это же ненормально. Такие люди – заложники. Нельзя на многодетность смотреть, как на некую «печать православности». Это не печать – а призвание, и тот, кто решается его исполнить – молодец и подвижник; таких надо всячески поддерживать и государству, и приходу. Поддерживать – но не вынуждать, когда они к этому не готовы, тем более, когда их отношения друг с другом и так висят на волоске.
Я понимаю, что я не в тренде со своими рассуждениями.
Но у меня четкое ощущение того, что многодетность – совершенно не универсальный рецепт спасения. Я убежден и настаиваю на том, что в браке первичны отношения между мужем и женой, между супругами. И хорошо, когда большое количество детей эти отношения укрепляют, переводят на более серьезный и глубокий уровень.
Но чаще выходит так, что муж с женой становятся машинами по обслуживанию детей.
И когда дети «разлетаются», супруги смотрят друг на друга опустошенными глазами, часто не понимая – а что это за кошмар у них тут был? И что за кошмар им еще предстоит, потому что они не знают, что делать друг с другом, ведь кроме детей в их жизни нет и ничего не было. За минувшие двадцать – тридцать лет может они и научились успешно «функционировать» друг с другом, но в глубинном постижении друг друга так и не продвинулись.
Я убежден, что нельзя смотреть на семью, как на чадородную машину.
Значимость отношений между супругами в семье гораздо выше и глубже, она выходит за пределы чадородия. Семья – это не время, которое мы проводим, дожидаясь старости. Это не правильно и не нормально, если в семье у супругов нет возможности полноценно общаться друг с другом, нет возможности погружаться в тайну другой души, учиться уважать свободу другого, его (или её) несводимость к «заранее определённым рамкам».
Никакое количество детей не может быть оправданием невозможности реального и глубокого соединения душ этих людей. Потому что выходит, что любовь между людьми послужила лишь толчком к зачатию – и на этом вся ее энергия истощилась и закончилась. А дальше пошла работать машина по обслуживанию тех, кто родился. Но эта машина однажды неизбежно остановится – и что дальше? Навязывать себя в качестве бабушек и дедушек?
Главный смысл, миссия семьи, вложенная в неё Богом, состоит в том, что семья – это пространство предельной концентрации любви в мире. Если ребенок всеми клетками своего организма этой любви не ощущает, если видит, что родители загружены какими-то навязанными извне установками и делаются заложниками этих шаблонов, при этом у самих глаза потухшие, жизни нет, нет никакой радости, даже с утра, мне кажется, что-то неправильно в нашей консерватории: ноты-то безупречные, да только со слухом у исполнителей – проблемы…
https: //nikolaeva.livejournal.com/720128.html
Комментарии
Считаете, что с двумя детьми сложно? Не понимаете, как живут те, у которых трое? Все эти вопросы кажутся смешными героям нашего сегодняшнего материала — семьям, где не меньше пяти детей, а то и все 9. Историями счастья и любви делятся реальные многодетные родители, которые, вопреки предрассудкам, довольны жизнью и улыбаются этому миру.
«Я просто перестала делать вид, что слежу за ситуацией, и дети появлялись один за другим»
Татьяна (38 лет), Леонид (39 лет) и их 9 детей. Город Санкт-Петербург.
В нашей семье 9 детей: Софии 17 лет, Любови 15, Вере 13, Мише 11, Коле 8, Наде 7, Андрею 5, Насте 3 и Никите 9 месяцев.
Изначально мы хотели четырех девочек. Муж хотел назвать старшую дочь Софией, а дальше было решено мечтать ещё о троих: нам нужны были Вера, Надежда и Любовь. В какой-то момент нам вспомнилось, что в семье императора Николая тоже было четыре девочки.
Я училась на филологическом, уже несколько лет поступала в консерваторию на вокальное отделение, мечтала стать оперной певицей, делать карьеру. А ещё очень хотела ребенка.
И вот в конце четвертого курса я забеременела. Мы были счастливы, а я мечтала, чтобы мои дети были погодками с минимальным разрывом в возрасте: так им было бы интереснее вместе расти.
Поэтому мы решили, что будем рожать второго ребенка сразу после первого. Потом я собиралась отправить их обоих в детский сад, скорее всего в одну группу, и уже выйти из декрета, чтобы «вершить историю искусства».
Затем, через какое-то время, я планировала родить ещё пару погодков и действовать по тому же плану. Но человек предполагает, а Бог располагает.
Второй дочкой удалось забеременеть только спустя девять месяцев после рождения первой, и я считала, что ужасно опоздала со вторыми родами. Я была уверена, что теперь моим девочкам уже не будет так интересно вдвоем. Мне было 22, я была наивна.
Фото из семейного архива
Родив двоих, я поняла, что не отдам их ни в какой сад. Мне хотелось третьего ребенка, я ничего не боялась, но общественное мнение «хватит рожать» немного давило. Забеременев третьим, я сделала вид, что это произошло случайно, хотя прекрасно знала, что это желанный ребенок.
Потом родился четвертый — Миша. Я решила, что все равно буду сидеть дома, так чего же сидеть зря. К тому же, дети всегда доставляли мне удовольствие. Я очень люблю малышей и каждый раз чувствую сильное желание родить еще, как только предыдущему исполняется примерно годик. А ещё мне хотелось, чтобы хороших умных русских детей становилось больше, как бы банально это ни звучало.
С появлением четвертого — Миши — я почувствовала себя настоящей матерью. Мальчики совершенно другие, и ощущение материнства с ними иное.
Затем я решила, что Миша у нас будет слишком избалован среди девочек и ему нужен ещё братик или сестричка. Так появился Коля. Потом я просто перестала делать вид, что слежу за ситуацией, и дети появлялись один за другим.
Муж был не против рождения детей, всегда мог немного помочь с ними, почитать, выйти погулять, но в основном я справлялась сама — для меня это было в радость.
Муж полностью занимался и до сих пор занимается бюджетом. Я не знаю ничего о квитанциях, счетах — это не моя забота, но я знаю, где лежат деньги, и, если предстоят большие траты, советуюсь с мужем, а он решает, можем ли мы сейчас себе это позволить. У нас в принципе классическое разделение обязанностей: я отвечаю за еду, чистоту и детей, а он — за достаток. Обоих это устраивает.
Наши родители всегда нам помогали, радовались новой беременности, хоть иногда и намекали, что пора бы остановиться. Дедушка по папиной линии, к примеру, сейчас очень помогает с сопровождением детей после школ на секции, кружки.
Все дети постоянно заняты: у них спорт, музыка, языки — очень много вкладываем в развитие и образование, детки способные и трудолюбивые.
Бабушка даже оставалась одна с пятью детьми, чтобы отпустить нас с мужем в путешествие. Так что у нас надёжные помощники.
По поводу отношений между детьми — некоторые проблемы были только между двумя из них: третьим и четвертым (Верой и Мишей). У Верочки были очень сильные переживания, когда Миша родился. Потом все стало проще, но они только недавно перестали драться и до сих пор периодически спорят. Возможно, это потому, что очень похожи. В остальном между детьми мир и любовь. Единственное, что делят старшие, это младших. Выясняют, кто кого нянчит.
Безусловно, дети постоянно рядом друг с другом и иногда выясняют отношения, но это все происходит в рамках нормы, а если нет, то они быстро исправляются. Я тоже очень вспыльчивая, могу прикрикнуть, но умею признавать свои ошибки, извиняться.
Конечно, я не идеальна. Совсем. Честно, иногда просто плачу, когда кажется, что я не справляюсь, несправедливо поступаю, делаю все не так. В такие моменты дети ходят тише воды, ниже травы, шипят друг на друга: «Это из-за тебя мама расстроилась», а потом подходят и говорят что-то вроде «Мама, не расстраивайся, мы знаем, что ты добрая, просто устала». Очень мудрые, чуткие у меня ребята.
Друзья и знакомые относятся к нам очень позитивно, кажется, никто не осуждает, по крайней мере мы на это надеемся.
Что можно успевать с девятью детьми? Да очень много. Я играю на фортепиано, научилась кататься на роликах и легко проезжаю по 10 км с коляской. Начала плавать, бегать, осваиваю все это вслед за детьми. Они у меня все спортсмены, старшие — кандидаты в мастера спорта по акробатике. Мариинка, филармония, обожаю театры, ходим вместе с детьми. Музеи, прогулки, вязание (каждому новорожденному на выписку я обязательно вяжу костюм), вышивание. Не люблю сидеть дома, люблю активную жизнь, учу языки, веду небольшой блог о нашей жизни в инстаграме — @tiptatiana. Благодаря детям вообще открываются очень многие горизонты: что-то вспоминаешь, чему-то учишься заново.
Если говорить о помощи государства, то мы действительно ее чувствуем, но, возможно, это потому, что живем в Санкт-Петербурге (про регионы не знаю).
Нам дали земельный участок после пяти детей, выдали машину газель после семи детей и дают социальную карту при рождении ребенка, на которую начисляются ежемесячные деньги для покупки детских товаров.
Иногда я могу подкопить деньги на этих картах и купить что-то существенное детям (верхнюю одежду, обувь). Также компенсируют раз в год расходы на школьную форму и мы меньше платим за электричество и квартиру.
Я считаю, что у нас отличная семья и, если честно, хочу еще детей.
«Приходится убирать в себе «начальника» и учиться дружить с ребенком»
Мария (39 лет), Александр (37 лет) и их 7 детей. Город Москва.
В нашей семье 7 детей: Василисе 17 лет, Алексею 15, Николаю 11, Святославу 9, Наталии 7, Софии 5, Семену 1 год.
Я с детства мечтала быть многодетной мамой, так как выросла в деревне у бабушки, где вокруг было много двоюродных и троюродных братьев и сестер. Все каникулы я проводила среди большого количества родни, детей разного возраста, и все находили общий язык, было весело. Мы могли собираться по 10-12 ребят одновременно. Муж любит детей так же, как и я. Он всегда был готов жить в большой семье, с детства с удовольствием возился с малышами, они никогда его не раздражали. Когда поженились, Саша сказал: «Сколько Бог даст, столько и родим!»
Все наши дети разные, у каждого свой характер. С кем-то Саша лучше находит общий язык, с кем-то я. Нет такого, что со всеми детьми одинаковые отношения. Считаю, что мальчикам больше важен отец, девочкам — советы мамы. Несмотря на то, что дети, бывает, ссорятся, они очень дружные и друг за друга стоят горой. Если возникает какая-то проблема или опасность, они сплачиваются. Превращаются в команду.
Фото из семейного архива.
Девочки лидируют среди детей, а мальчики любят, чтобы за ними ухаживали, но способны проявлять заботу и сами. Все дети очень музыкальные, девочки еще и рисуют. У каждого ребенка свой вкус, свое отношение к тому, как он выглядит, и они готовы отстаивать свое мнение.
Конечно, с появлением детей полностью поменялся ритм жизни. Но это не все. Появился стержень, стимул, ответственность, осознание того, что я несу ответ за жизнь другого человека. Это очень стимулирует.
При этом, действительно, остается мало времени на себя. Недавно мы впервые за 12 лет сходили в кино вдвоем. Бабушка оставалась со всеми детьми.
Наши отношения с мужем с момента свадьбы поменялись, мы стали терпимее к недостаткам друг друга, такое количество детей очень объединяет, сплачивает.
Да, нам иногда приходится забывать о своем «Я», учиться договариваться с ребенком и понимать, что, если сейчас не будет контакта, то потом его тоже не будет. Приходится убирать в себе «начальника» и учиться дружить с ребенком. У меня лучше контакт с Василисой (старшая дочь), у Саши — с Лешей (второй ребенок по старшинству, подросток). Считаю, что пока родители эмоционально не присоединятся к ребенку, переходный возраст трудно пережить. Со старшими это важно.
Мне приходится бороться со своим «родительским контролем»: стараюсь доверять детям, разговаривать с ними, объяснять, убеждать. Если ребенок начинает дерзить, я могу сказать: «Я тебя выслушаю, но не забывай кто я». Стараюсь научиться сдерживаться, не хочется обидеть ребенка. Но нужно всегда соблюдать правило: быть близким ребенку, не превращаясь в его «подружку». Границы — это важно.
Среди детей есть и ревность, и конкуренция. Каждый считает, что его любят меньше. Один только Коля не говорит на эту тему. Конкуренция тоже есть: за место побыть ближе к маме, место в машине. Всегда стараются, чтоб мама сидела посередине, во всем и в мелочах каждый хочет внимания именно к себе. При этом дети заботятся друг о друге. Младшие берут пример со старших, пытаются подражать. Несмотря на ссоры, конечно, они любят друг друга: это видно в мелочах и всегда становится очевидным в критических ситуациях.
Быт, конечно, устроить тяжело, но старшие помогают водить младших по занятиям, делать уроки, могут покормить, одеть. Есть распределение дел, но на постоянной уборке не зацикливаемся, потому что приоритет накормить, помочь с уроками, привести в порядок, помыть, одеть чисто. Все это важнее, чем строго требовать делать уборку. Дома есть вся необходимая бытовая техника, это помогает.
Расписание у детей очень плотное, стараемся, чтоб они были заняты помимо школы. Каждый день много времени уходит на то, чтобы развозить детей по занятиям. А еще мы много путешествуем, особенно в каникулы и летом.
Если говорить о помощи государства, то оно помогает выплатами как многодетным и как малоимущим. Мы получили квартиру: 4 комнаты, есть льготы в школе, субсидия, дотации на форму и многое другое. С медициной хуже — почти нет бесплатных лекарств.
Чем больше детей у нас становилось, тем меньше становился круг друзей, у которых нет детей. Сегодня круг общения состоит из родителей и друзей, которые помогают, разделяют наши ценности. Это позитивные люди, от них мы получаем только поддержку.
«У многодетных есть большой соблазн начать жить интересами детей»
Ольга (42 года), Вадим (43 года) и их 5 детей. Город Томск.
У нас 5 детей: Алена — 21 год, Наташа — 19 лет, Надя — 16 лет, Арина — 8 лет и младший сын — Паша 3,5 года.
Того, что наша семья будет многодетной, мы никогда особо не планировали, об этом не договаривались. Когда-то в юности я думала, что хотела бы большую семью. Но все это было на уровне легких мечтаний, никогда не представляла точное количество детей, которое у меня будет.
Я бы сказала, что дети сами к нам приходили, и не всегда в подходящие моменты.
Алена у нас родилась, когда мы были ещё студентами, практически сразу за ней родилась Наташа. У них разница всего 1.10.
Сама сложное было решиться на третью Надю. Это была как некая граница, отделяющая «нормальных» людей от многодетных.
Фото из семейного архива.
16 лет назад, когда родилась Надя, многодетность была не так распространена, как сейчас. Тогда хорошим тоном было иметь одного, максимум двух детей. Большее количество детей вызвало у окружающих людях сомнение в адекватности и разумности родителей.
Когда мы решились на Надю, я работала на крупном заводе экономистом по труду, и коллеги недоумевали: как? зачем?
Вроде оба с мужем с виду нормальные, интеллигентные, разумные люди, оба с высшим образованием, работой, не похожи на маргиналов. Люди искренне не понимали нас. Даже практически незнакомые люди подходили ко мне и пытались выяснить причину: зачем? Зачем рожать ещё детей?
Тогда было действительно непросто выдержать этот напор окружающих, как будто мы делаем что-то нехорошее.
Четвёртую Арину мы родили через 8 лет после Нади. Изначально мы не думали о четвёртом ребёнке. Но старшие девчонки подросли. У Нади был выпускной в детском саду, когда мы впервые задумались, что хотим ещё малыша.
Получилось не сразу: была замершая беременность, а потом только через год родилась Арина.
Пятый — Паша — был незапланированный ребёнок и пришёл к нам не в самый подходящий момент, абсолютно удивительно и неожиданно.
Я тогда только устроилась на новую работу и даже умудрилась в первый месяц беременности сдать кровь на донорство.
Дети все абсолютно разные, у каждого свой характер и темперамент. Они уже рождаются со своими индивидуальными особенностям. От нас зависит только воспитание, а воспитывать, я считаю, можно только собственным примером.
Дети для меня вообще большой стимул личностного роста. Стимул стать кем-то, кем они будут гордиться, стимул узнавать новое.
А ещё я просто не люблю сидеть на месте, мне быстро становится скучно. В третьем декрете я получила новую специальность — специалист по кадрам, в четвёртом декрете получила второе высшее образование — психология, в пятом декрете — завела свой блог в инстаграме — @mam5x.
Чему меня учит моя многодетная жизнь? Терпению и умению находить компромисс. Я холерик, у меня довольно подвижный темперамент, но благодаря детям он у меня заметно сгладился. Учусь все проблемы решать со спокойствием и позитивом.
Ссорятся ли дети? Безусловно! Как и в любом другом коллективе, у нас бывают конфликты, но при этом я считаю, главное не забывать, что семья — это самые близкие и родные друг другу люди.
При этом для всех многодетных родителей, по моему мнению, важно жить своей жизнью и иметь свои интересы. Ведь именно у многодетных есть большой соблазн начать жить интересами детей, строить свою жизнь вокруг них. И это в корне неверно! Дети очень быстро вырастают и родители остаются опустошенными — у них больше нет интересов и смысла в жизни, либо, что ещё хуже, они не отпускают от себя подросших детей и пытаются продолжать жить их жизнью.
Вообще я считаю, что счастливые дети бывают у счастливых родителей. Поэтому маме очень важно находить время на себя, свои интересы, хобби.
Рано утром мы с мамой встретились на кухне. По радио передавали новость, что родился ребенок весом свыше 7 кг, одиннадцатый в семье. Мама обрадовалась этой новости, а я отнеслась к ней нерадостно. Весовая категория — это не нам решать, какой родится малыш, а вот какой у него будет порядковый номер, вполне по силу родителям. Так мы и разошлись с кухни каждый при своем мнении. Мама родила семерых детей, а я – старшая дочь в этой большой семье.
В пятнадцать лет я встречала свою маму из роддома, взяла на руки очередной комочек, завернутый в одеяло, и мы пешком пошли домой. В нашей семье родилась пятая девочка. Папа и мама уже к этому времени расстались. Два года спустя я ходила узнавать результаты выпускных экзаменов в школе с двухлетним малышом в коляске. Никто во дворе не верил, что это моя сестренка, все считали, что это моя дочь, и мама взяла на себя мои грехи.
Прочитав статью в одном из номеров журнала «Фома», где пелся гимн многодетности от лица мамы трех малышей, мне хотелось бы высказаться от лица тех, кто вырос в таких семьях. Имея горький жизненный опыт, хочется, чтобы его учли многодетные родители.
Можно выделить некоторые виды многодетных семей: религиозные семьи, семьи, где родители пьют и ведут беспорядочную половую жизнь и семьи, в которых большое количество детей – это способ самовыражения для родителей. На сегодняшний день можно выделить еще и семьи, созданные под влиянием социально-материальной мотивации: пособия, доплаты, льготы подталкивают родителей, чтобы, родив ребенка, поправить трудное положение остальных. Как говорила одна мудрая женщина: «Каши хватит на всех, пока они маленькие, а вот что делать потом?»
Как это не печально, но причины для появления такого количества детей не всегда кроются в любви к ним. Кто-то считает, что в многодетной семье, хоть один ребенок да будет удачлив, кто-то таким образом хочет получить все социальные блага от государства, кто-то просто считает, что Бог заповедал плодиться и размножаться и сделал эту заповедь самоцелью на всю жизнь. Хорошо сказал на эту тему один знакомый психолог: «Муж попользовался телом жены, а за последствия должен Бог отвечать».
Моя мама всю свою жизнь чувствовала себя одинокой. С самого раннего возраста она была одна в семье. Ее окружали родные и двоюродные бабушки и тетки. У нее не было даже троюродных сестер и братьев. Вся ее мечта детства это было желание выйти замуж и родить много детей.
Рождение детей и их количество – это решение обоих родителей в рамках семьи. Взрослые люди осознанно идут на то, чтобы в их доме бегали малыши и приносили радость. Кажется, что будущие трудности совсем не беспокоят ни пап, ни мам. Женщина добровольно берет на себя трудности вынашивания детей. Некоторым доставляет даже удовольствие регулярно посещать роддом. Кормить большую семью – это уже обязанности папы. И домашний детский сад выглядит таким милым и замечательным с обилием дней рождений, веселых встреч Нового года и прочих семейных радостей. Но среди всего кроется то, о чем не задумываются родители, когда представляют себе дом – полную чашу. Дети, выросшие в многодетной семье, часто выходят во взрослую жизнь с приданым, которое хочется спрятать от других глаз. Зачастую приобретая разные комплексы, страхи, привычки, рано становясь взрослыми, эти дети теряют радость детства и долго хранят боль и обиды, от недостатка внимания и бытовой неустроенности. Кажется, что родители не представляют себе, а что же будет потом, когда дети вырастут, начнут получать образование, жениться и выходить замуж. Дать полноценное образование, помочь материально в становлении семьи, дать хоть какое-то приданое могут очень мизерное количество семей. Все остальные отпускают детей в вольное плавание по жизни. И когда появляются внуки, то у родителей уже не хватает эмоциональных сил, ни здоровья быть бабушками и дедушками.
«Не так давно я впервые откровенно поговорила со своим отцом. Задала ему вопрос, почему он мало уделял нам внимания за все эти годы. Его ответ поразил меня.
— Знаешь, вас ведь пятеро, и если каждому уделять в день хотя бы час, то ведь это пять часов в день. Когда же я буду жить для себя?
— Но тогда зачем же вы нас родили столько?
— А это не я, это мама сама так решила».
«Мы никогда не жили всей семье, так как квартира была маленькая. Некоторые братья и сестры постоянно жили у бабушек, которые нас жалели и помогали, как могли. Состояние крепкой и дружной семьи как-то не получалось. Вместе мы собирались редко. Но самое обидное было то, что постоянно не было денег, и мы донашивали одежду друг друга, в школьные походы мне давали баранки, когда другие доставали бутерброды с колбасой и сыром. Постоянное чувство зависти сопровождало меня всю жизнь».
«Когда мне было 17 лет, мы жили в двух коммунальных комнатах. Мое место было за шкафом, а вещи хранились на шкафу. Тут же стояла коляска, которую я качала ногой сидя в кресле, и читала учебники. Я несла ответственность за ребенка, которого не я захотела, не я родила на этот свет. Меня не спрашивали, хочу ли я посвящать себя на воспитание не своих детей. Меня просто ставили перед фактом – надо. Мне хотелось ходить с друзьями в кино, жить и развиваться. Я пребывала в постоянной депрессии, оттого, что ничего не могу изменить».
Возвращаясь к статье в августовском номере «Фомы» хочется добавить еще несколько строк. Молодая мама говорит о том, что за целый день работы мамой, дети получают свою порцию любви, когда идет кормление, смена подгузников и прочих дел. Образовался этакий закон перехода количества в качество. При этом в конце статьи есть интересная мысль «смотрю на подругу, родившую пятого ребенка. У нас с ней общая черта: мы обе нервные и раздражительные…» Откуда взялись эти черты автор не написала. А не оттого ли что, есть попытка взять не свой вес? Нужны ли мы такие нервные и истеричные своим детям, которые чем старше становятся, тем больше требуют внимания и заботы. И если в младенчестве ты вытер попу ребенку и уложил его спать, то в шесть-семь лет просто так «не отделаешься» от своего чада. Обсуждение прожитого дня, чтение Библии и совместная молитва, походы на кружки и др. отнимает гораздо больше времени и сил. Не говоря уже о более старшем возрасте. Так стоит ли подгонять количество под качество?
«В детстве я посещала музыкальную и спортивную школы. За долгие годы хождения на занятия меня никто не встречал и не провожал. С первых классов я ходила и ездила в другой конец города сама. Мне было страшно возвращаться по темным улицам. Мне было до слез обидно, что никто из родителей так и не посетил ни одной игры на соревнованиях за семь лет. Им было некогда».
А.С. Экзюпери написал о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Применяем мы это чаще по отношению к животным. Мы же пред Богом в ответе за тех, кого родили. Принимая решение о количестве детей, надо помнить, что каждый имеет право на внимание и любовь со стороны родителей.
LinaRabik
Подвиг матери… Испокон веков материнство воспевалось поэтами и писателями на всех языках мира. «Настоящее материнство – мужественно», – говорила Марина Цветаева. При этом само понятие радости материнства не подвергалось сомнению. Так где же истина? Легко ли быть многодетной мамой? Сложно ли воспитывать приемных детей? Эти вопросы мы задали женщине, которая знает о материнстве не понаслышке. Вместе с мужем Валентина Петровна Григорьева, жительница Мелекесского района, воспитывает 13 детей, 10 из которых – приемные.
– Валентина Петровна, как вы познакомились с мужем?
– Мы с Николаем познакомились летом 1974 года. Я приехала на каникулы в деревню к маминой сестре. Вечером с подругами пошли в местный клуб. Там и заметил меня Николай. Стал ухаживать. Четыре года дружили. После армии сделал предложение, в 1978 году сыграли свадьбу.
– Когда вы поженились, заходила ли речь о том, сколько должно быть малышей в семье?
– У нас с мужем были большие семьи. В семье у Николая – шестеро детей: четыре мальчика и две девочки. У меня также. И когда создавали семью вопроса не возникло – какая будет семья? Оба решили: большая. И были готовы к этому.

– Родных детей у нас с мужем трое. Две девочки и мальчик. Их вырастили, как мы думаем, хорошими и достойными людьми. У всех троих высшее образование. Сейчас дети сами себя обеспечивают. Когда они выросли и стали жить отдельно, мы с мужем стали скучать без детского смеха и озорства. Супруг тогда работал на вахте, а я в большом доме осталась одна. Я себе в маленькой кастрюле и суп сварить не могла! То пересолю, то еще что – привыкла варить на большую семью. Вот думаю, кто-то сейчас голоден, а я телевизор смотрю. Решила себе подружку взять, девочку приемную, а дали двух. Мне веселее стало – бантики, косички… Я на огород – они за мной. Все вместе делали.
Опека смотрит – ага, все хорошо, надо вам, Валентина Петровна, еще двух. Согласилась. Позвали в «Радугу» (Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ульяновска – прим.ред.), иду и думаю – ну как выбрать? Вывели мне одну семью, а там четыре ребенка! В другой – тоже! Говорю – вторую не показывайте, а то я и ее заберу. Всех жалко! Всем добра хочется! Так у нас появилось еще четверо ребятишек. Потом в течении трех лет к нам в семью пришли еще четыре мальчика. Вот мы и стали огромной и дружной семьей. Мама, папа, трое родных и десять приемных детей.
– Есть ли разница в воспитании своих детей и приемных? С кем вам, как маме, сложнее? С кем проще? Как складываются отношения у родных и приемных детей?
– Разницы мы не видим. Дети они и есть дети. Каждому нужны тепло рук, ласка и любовь. Родные дети относятся к приемным, как к своим. Для некоторых стали крестными. Конечно, стараются быть примером.
Все они называют меня мамой. Сами стали, даже вопросов не возникало ни у кого. Хотя думала, что я для них скорее бабушка. Но им нужна именно мама…
– Случалось ли, чтобы у Вас «опускались руки»? Как выходили из сложных ситуаций?
– В каждой семье есть и трудные дети, и послушные, но за все время воспитания у нас ни разу не возникла мысль о том, чтобы вернуть их обратно. Ребенок – не игрушка, с которой можно поиграть и бросить. Это чувствительные и хрупкие маленькие люди. Да и как вернуть – две недели у нас – и все, они уже свои, родные.
Наша семья старается с Божией помощью преодолевать все возникающие на нашем пути трудности. Мы с мужем доносим до деток ценность хороших поступков и важность быть честными, добросовестными людьми.
– Многие считают многодетность подвигом именно женщины, ведь хлопоты и по хозяйству, воспитание детей, по большей части, ложатся на ее плечи. Вы согласны? Считаете ли, что материнство – предназначение вашей жизни? Реализуете ли себя в работе, хобби?
– Многодетность – это не подвиг, а состояние души. Где растет один ребенок, там может вырасти и второй, и третий. А о предназначении я и не задумывалась. Материнство дается Богом. Женщина испокон веков отвечала за сохранение очага, семьи.
Хобби? Даже не знаю… Водить машину люблю, очень! Я за рулем более 25 лет, раньше работала водителем трамвая. И до сих пор люблю ездить. Сейчас это «хобби» очень выручает – надо возить много продуктов. Да и детей тоже. Бывает, выступают с концертами или конкурс у них – садимся и едем.
– Как распределяются роли у вас в семье?
– В нашей семье главным является папа. Он друг и наставник детей. Я его помощница и поддержка. Последнее слово всегда за ним. И чаще всего это: «слушайте мать»! (смеется – прим.ред.) Старшие помогают маленьким. Маленькие слушают старших. Мы с мужем стараемся вырастить детей с добротой и уважением друг к другу, а также к людям старшего поколения. Роли «доброго» или «злого полицейского» не играем, но в определенных случаях строгость слова применяем. Можем и в угол поставить. Я думаю, без разумного наказания тоже нельзя.
– Как вас поздравляют дети в день рождения? Каждый готовит свой подарок? Или все вместе, общий? Какой подарок вы как мама мечтали бы получить от своих детей?
– На мой день рождения дети готовят общий подарок вместе с внуками. Он ни с какими другими подарками в сравнение не идет. Ребята готовят представление или концерт с различными выступлениями. Начиная от рисунков, заканчивая танцами. Каждый вкладывает всю свою любовь. Самый дорогой подарок для меня – знать, что мои дети здоровые и достойные люди.
– Что жизнь в многодетной семье дает самим детям? Проще или сложнее жить ребенку, если он из многодетной семьи?
– Жизнь в многодетной семье учит детей уважению, самоотдаче, взаимовыручке.
От нас неподалеку есть два-три дома, их отдали выпускникам детского дома. Так они совсем не умеют вести хозяйство! Элементарно даже чай заварить. Я ходила к ним объяснять и показывать. Конечно, воспитатели – все хорошие люди, заботятся о детках, но это не семья. В детском доме и интереса нет, чтобы научиться чему-то. А в семье это происходит само собой.
– Может ли приемная семья заменить родную? Что, на ваш взгляд, необходимо, чтобы воспитать детей счастливыми?
– На мой взгляд, нужны, прежде всего, любовь и семейное тепло. Может ли заменить приемная семья родную? Смотря какая, конечно… Но я думаю, что может, если семья порядочная, хорошая. Вот, взяли самого последнего мальчика, он был очень зажатым, замкнутым. Мы его окрестили, отогрели – и выправился парень! Сейчас все прекрасно. И улыбка-то какая красивая сразу стала и сам он весь – совсем другой человек!
Беседовала Марина Орлова
Газета «Православный Симбирск» № 20 (532), 28 октября 2020 г.