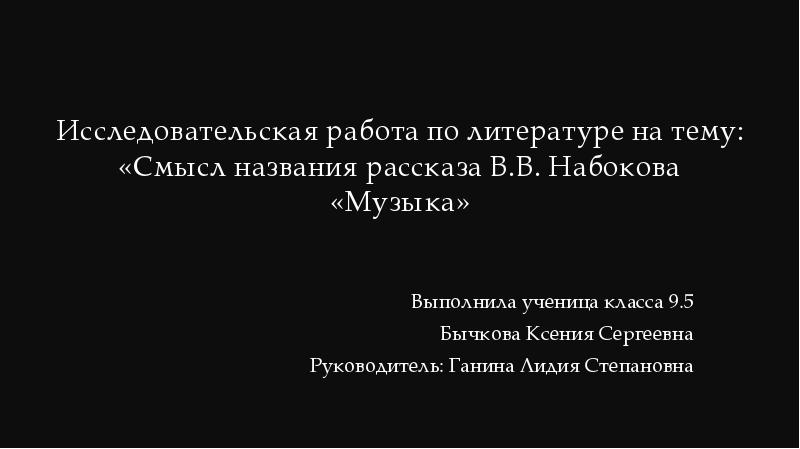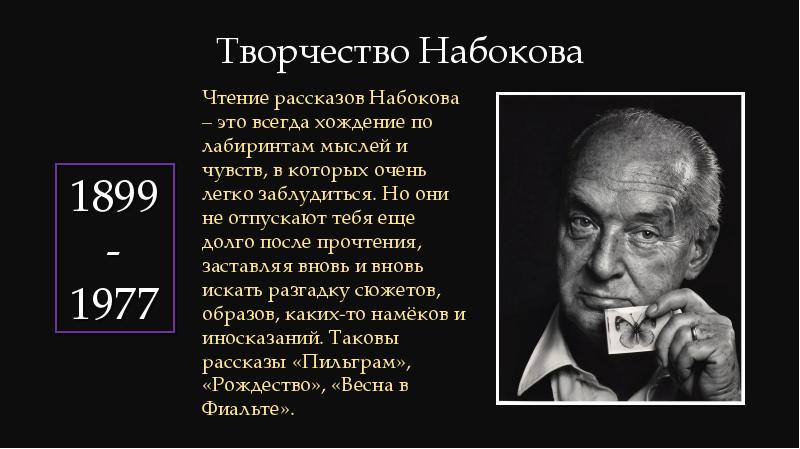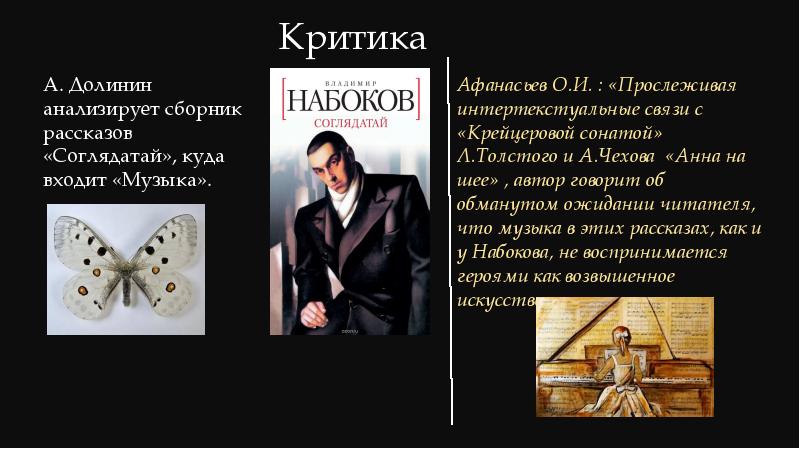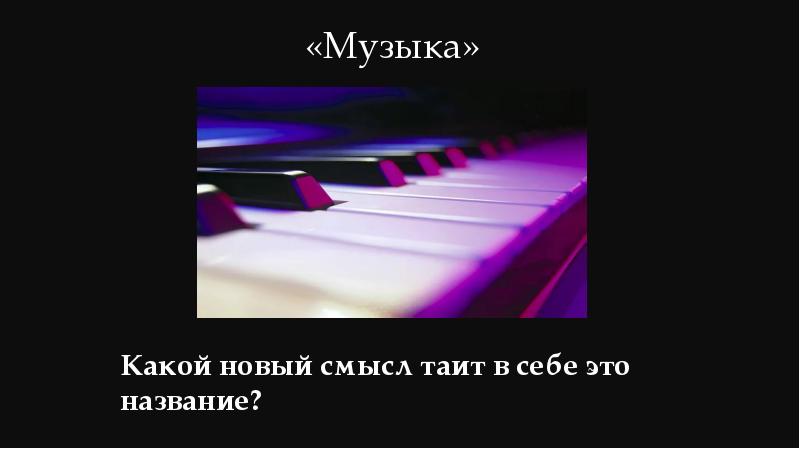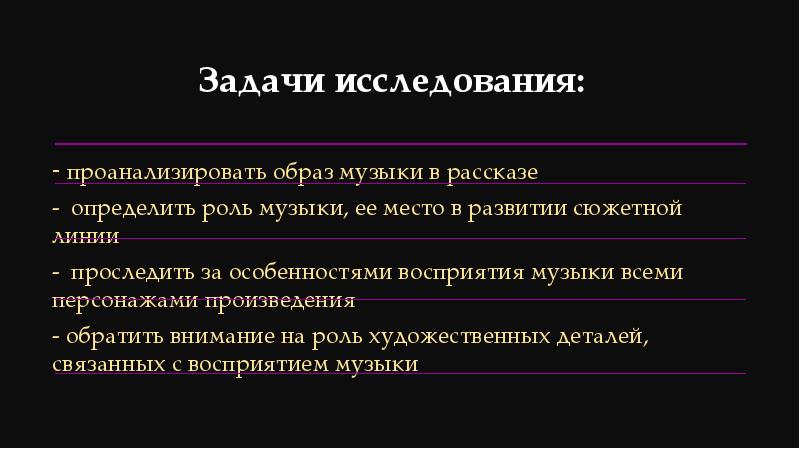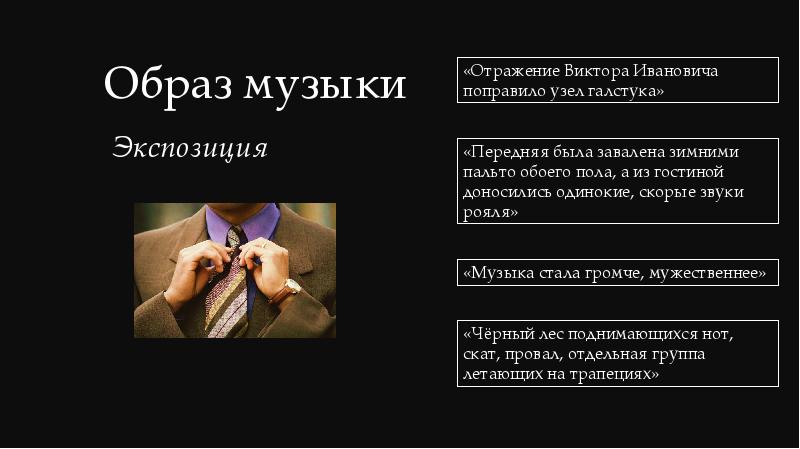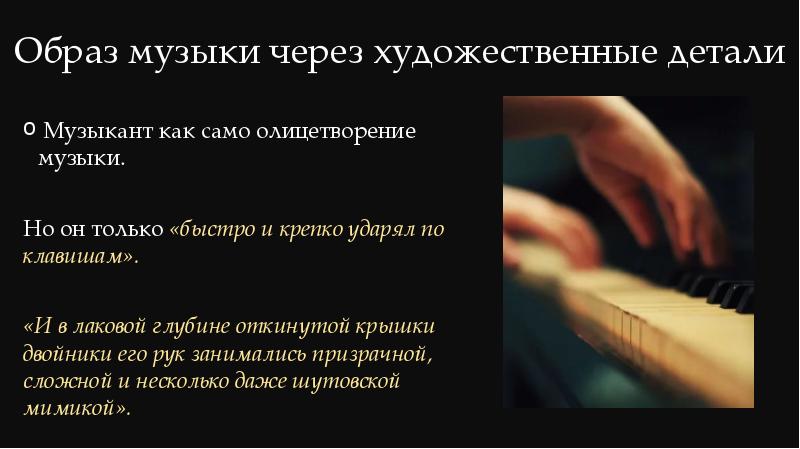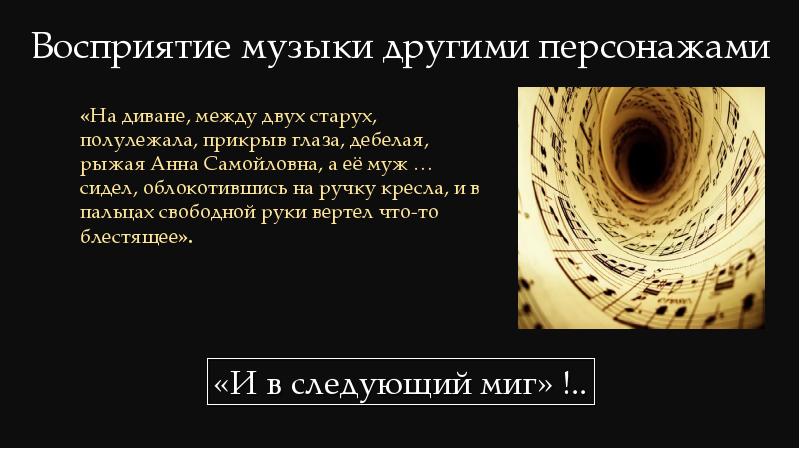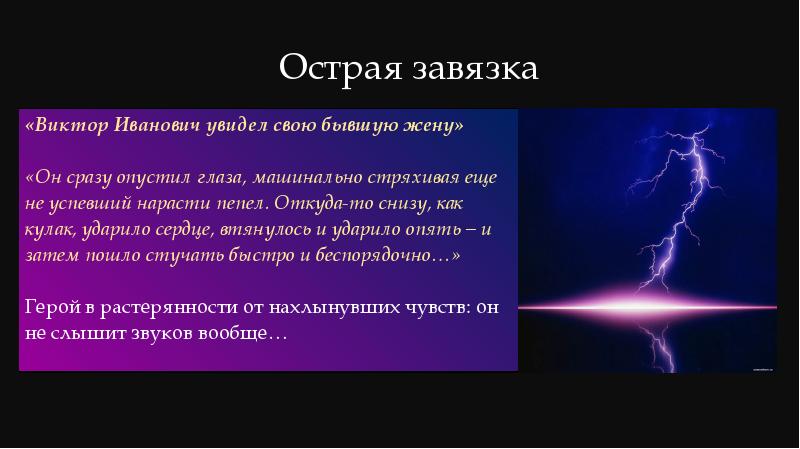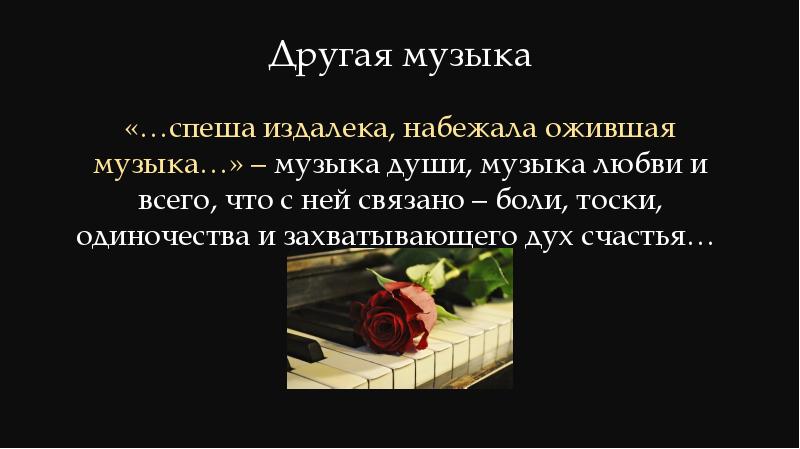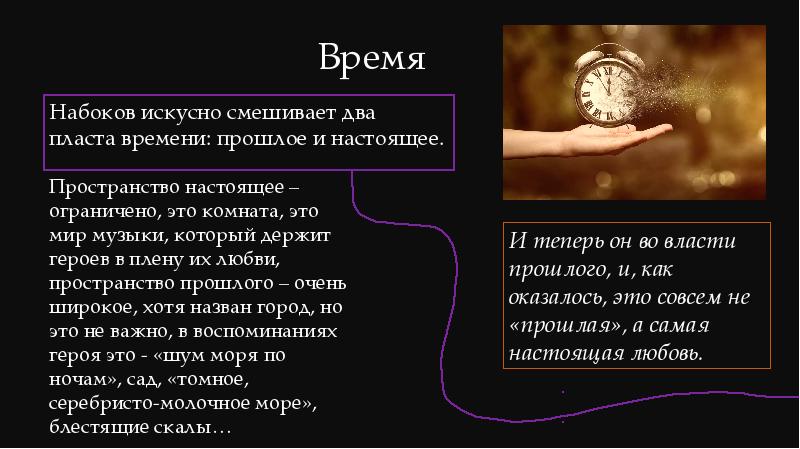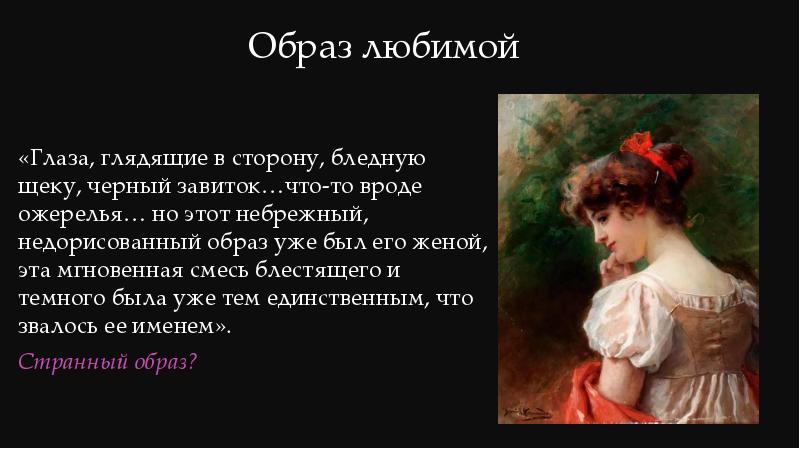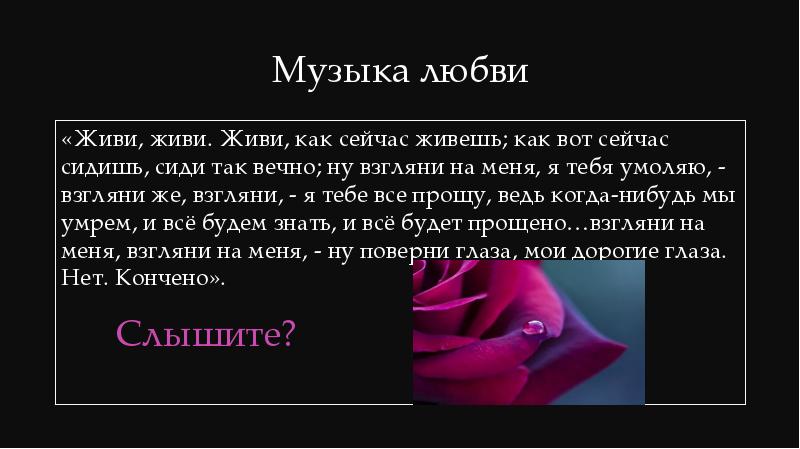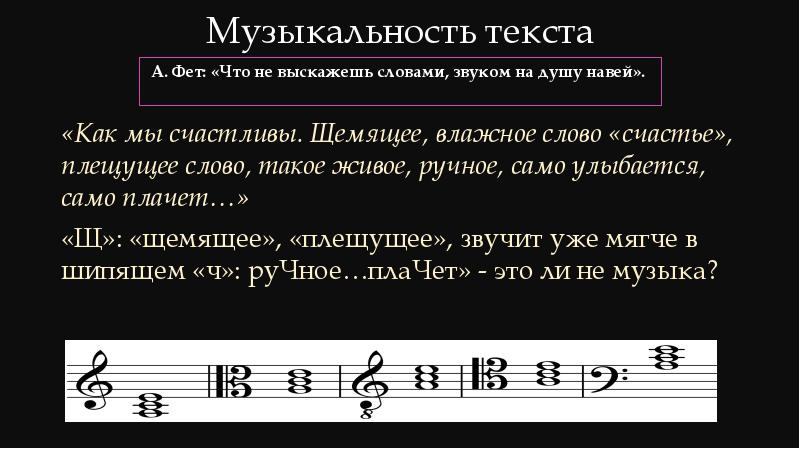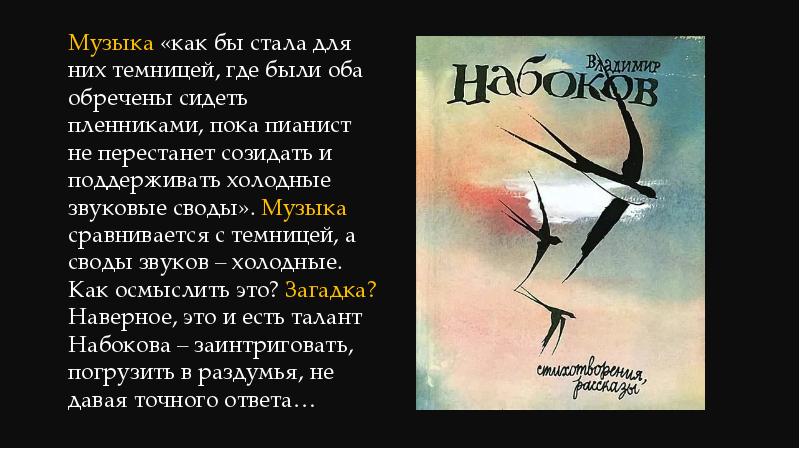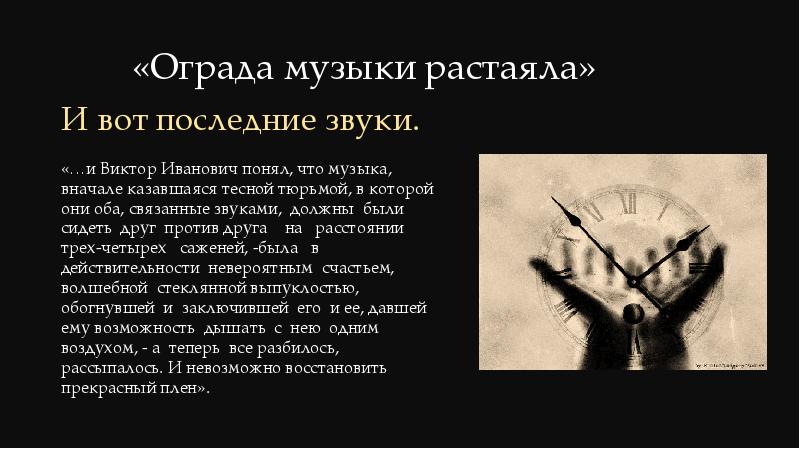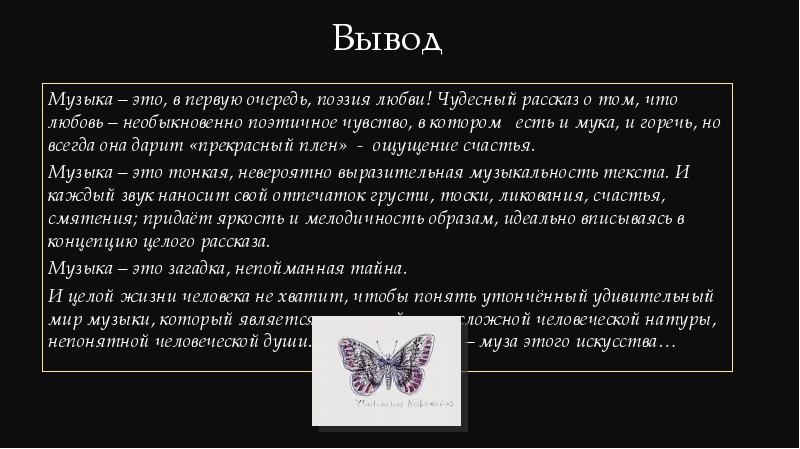|
Лицензионное соглашение об использовании научных материалов. |
||
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ МУЗЫКАЛЬНЫХ МОТИВОВ В РАССКАЗЕ В. В. НАБОКОВА «МУЗЫКА» |
||
| Афанасьев Олег Игоревич Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова |
||
|
Аннотация. Целью настоящей статьи является исследование межтекстовых связей музыкальных мотивов в рассказе В. В. Набокова «Музыка». Литературоведческий анализ музыкальных мотивов в рассказе позволяет выявить их идейно-художественную функцию, эксплицировать глубинный смысл рассказа, осмыслить «эффект обманутого ожидания» читателя. В процессе создания своего рассказа В. В. Набоков ориентировался на влиятельную модель, заданную в данном случае Л. Н. Толстым и А. П. Чеховым, чтобы через ее обновление и трансформацию вступить в полемику со своими великими предшественниками и тем самым адекватно выразить свою художественную позицию. |
||
|
Ключевые слова и фразы: интертекстуальность, аллюзия, реминисценция, ирония, историко-культурная память, музыка чувств, межтекстовая солидарность, intertextuality, allusion, reminiscence, irony, historical and cultural memory, music of emotions, intertextual solidarity |
||
|
||
Список литературы:
|
[Версия для печати]
(О музыкальном формообразовании в композиции рассказа В. Набокова «Музыка»)
Т.Ф. Семьян, О.Ф. Ширяева
Все больше появляется исследований, в которых литературное произведение изучается с точки зрения проникновения в его структуру музыкальных элементов [1].
Находятся и скептики – противники такого анализа. Предпринятое музыковедом и литературоведом совместное исследование рассказа В. Набокова «Музыка» позволило представить непредвзятый взгляд на эту проблему, так как в своих изысканиях мы старались исходить только из текста (отсюда обилие цитат), сознательно не изучая отношение писателя к музыке.
Фабула рассказа проста и, на первый взгляд, никак не связана с названием произведения. Почему же Набоков так однозначно-конкретно обозначил тему рассказа?
Каждый человек воспринимает музыку эмоционально; и для того, чтобы понимать музыкальное произведение, не обязательно быть профессионалом [2]. «Аффективно управляемые процессы порождения и понимания звуков являются врожденными» [3].
Конечным звеном в цепочке уникального перцептивного механизма, его главной закономерностью являются ассоциативно-предметные субъективные образы, такие как, например, воспоминания. Герой рассказа, несмотря на отсутствие слуха (о чем он «неловко» сообщает своему собеседнику Боку в конце рассказа), несмотря на непонимание им языка музыки (она была для него «как быстрый разговор на чужом языке» [4; с. 394], наконец, несмотря на явно негативное его отношение к музыке, к ее «настойчивому грому» и «холодным звуковым сводам» [4, с. 395] – невольно оказывается в плену музыки. В прямом и переносном смысле. Хозяйка указала Виктору Ивановичу место возле рояля, так что, как бы герой ни старался отвлечься от звуков, они были близки от него насколько можно. Кроме того, Виктор Иванович вынужден был сидеть в одной комнате с женой (с которой они расстались два года назад), пока пианист не закончил играть, и потому в начале рассказа он воспринимает музыку как «темницу, где были оба они обречены сидеть плен¬никами» [4, с. 395].
Тщательно скрывая даже от себя самого боль измены, он задавил все эмоции. «Два года стараний, усилий, и, наконец, почти успокоился, – а теперь начинай все сначала, – забыть все, все, что было почти забыто, но плюс сегодняшний вечер» [4, 396]. Забившись как улитка в раковину, герой не хотел вспоминать ничего. Да и он – это уже не он, а лишь то, что осталось после пережитой драмы. (См. начало рассказа: «Отражение Виктора Ивановича поправило узел галстука» [4, с. 393]. Стараясь казаться равнодушным, он «машинально отряхивает» пепел с папиросы и делает последнюю попытку вернуться в мнимо-равнодушное со¬стояние: «Я теперь не буду спать несколько ночей». Но музыка разожгла приглушенное чувство героя, раскрепостила его мысли, помогла стать прежним, хотя бы внутри себя. Внешне его переживания совершенно незаметны. Бок даже упрекнул его: «Знаете, у вас был такой скучающий вид, что мне было вас жалко. Неужели вы до такой степени к музыке равнодушны?» [4, с. 398].
Воспоминания нахлынули на героя до ненужных подробностей. Он вспомнил, «как дрожал студень медуз, выброшенных на гальку. Блестели мокрые скалы. Однажды видели, как рыбаки несли утопленника <…> По вечерам она варила какао» [4, с. 396].
В рассказе несколько взаимопроникающих пластов. Они буквально прорываются друг из друга: музыка и мысли героя; зона речи автора и зона речи героя. Музыка стирает все границы; грань между реальной жизнью и музыкой становится зыбкой: «Все очень смутно. Ходил до вечера по берегу моря. Да, музыка как будто кончается. Когда я на набережной ударил его по лицу <…>» [4, с. 397].
Характерная для творчества Набокова черта – передача абстрактно-логической цепочки мыслей героя – становится сюжетообразующим фактором. Автор проникает внутрь мыслей героя, и констатирует малейшие нюансы настроения, чувств, рассуждений. «Он влюбился в нее без памяти в душный обморочный вечер на веранде теннисного клуба, – а через месяц, в ночь после свадьбы, шел сильный дождь, заглушавший шум моря. Как мы счастливы. Шелестящее, влажное слово «счастье», плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет <…>» [4, с. 395].
Набоков сначала сам объясняет героя, представляет его, а затем, Виктор Иванович, словно очнувшись от оцепенения, «заговорил»; читатель попадает в зону речи героя.
Музыка импульсивно воздействует на состояние Виктора Ивановича, на его воспоминания, и, как следствие, на сюжетное движение рассказа. Так, вместе с «набежавшей ожившей музыкой» начинаются воспоминания героя. И пока «ограда звуков была все так же высока и непроницаема <…> Мы будем счастливы всегда…» – так вспоминалось герою. А когда «музыка подходит к концу. Когда появляются эти бурные, задыхающиеся аккорды, это значит, что скоро конец <…> ужасная весть. Весною она странно помертвела…» [4, с. 396]. Развитие музыкальной мысли влияет на героя буквально. Бурные аккорды сообщают Виктору Ивановичу еще большее волнение. Он загорается все больше и больше. В этой точке – кульминационный момент произведения. Герой говорит сам, без посредника. Его чувства раскрыты и обострены предельно. «Живи, живи. Живи, как сейчас живешь; как вот сейчас сидишь, сиди так вечно; ну, взгляни на меня, <…> ведь когда-нибудь мы умрем, и все будем знать, и все будет прощено, – так зачем же откладывать, – взгляни на меня, взгляни на меня, – ну, поверни глаза, мои глаза, мои дорогие глаза. Нет. Кончено» [4, с. 397].
Ритм этого фрагмента передает волнение героя. Многократные лексические повторы создают отрывистое, напряженное ритмическое движение по нарастающей с внезапно обрывающейся интонацией.
С последними звуками «заключительного, уже как будто всю душу отдавшего аккорда» заканчиваются воспоминания Виктора Ивановича. А когда жена исчезает за дверью, пианист закрывает рояль, «и невозможно восстановить прекрасный плен» [4, с. 398]. Звучала музыка – и герой вспоминал о прошлом, о былом счастье, а утихла музыка – и нет прошлого, и счастья нет. Но теперь пришло понимание того, что музыка «вначале казавшаяся тесной тюрьмой <…> была в действительности неве¬роятным счастьем, волшебной стеклянной выпуклостью, обогнув¬шей и заключившей его и ее, давшей ему возможность дышать с нею одним воздухом» [4, с. 398].
Для читателя неважно, какое конкретно музыкальное произведение «звучит» в рассказе. Набокову удалось показать силу музыки как искусства. Но если представить, что герой предавался воспоминанием, слушая конкретное музыкальное произведение (мы незнаем, какое именно, как, например, в «Крейцеровой сонате» Л. Толстого или «Гранатовом браслете» А.Куприна), то возникает предположение, что В. Набоков намеренно выстроил текстовую ткань рассказа по некоему музыкально-формообразующему принципу. Небольшая протяженность времени рассказа и то, что музыкальное произведение исполняется на рояле, позволяет сделать вывод, что это инструментальная пьеса небольшой (многочастной или цикличной) формы. И хотя Бок говорит, что могло звучать «все, что угодно», ясно одно: основные разделы музыкальной пьесы совпадают с основными частями рассказа. Причем, воздействие музыки на эмоции героя произошло раньше, чем встреча с женой. (Упоминание о музыке присутствует уже в первом предложении рассказа). Пока герой был в передней, входил в гостиную, усаживался в кресло, звучала, видимо, не основная часть музыкального произведения, а, так называемое, вступление. Воспоминания о счастливых моментах любви возникают на фоне и под явным воздействием основной части музыкальной пьесы. Заключительная часть пьесы звучит именно тогда, когда воспоминания героя пошли на убыль и закончились с последней нотой.
Анализ рассказа позволяет сделать вывод о проникновении музыкальной формы в форму литературную.
Список литературы
1. Гозенпуд А.А. Достоевский и музыка. – А.: Музыка, 1971; Соколов О. «О музыкальных формах» в литературе (к проблемам соотношения видов искусства). // Эстетические очерки. – М.: Музыка, 1979, вып. V; Фортунатов Н.М. Музыкальность чеховской прозы// Филологические науки, 1972, № 3; Семьян Т.Ф. Ритм прозы В.Г.Короленко/ Автореф. дисс… к. филол. н. – Алматы, 1997.
2. Назайкинский Е.О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972; Медушевский В.О. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М.: Музыка, 1976.
3. Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. – М.: Прогресс, 1983.
4. Набоков В. Собр. соч. в 4-х томах. Т.2. – М., 1990.
Полная версия статьи опубликована в сборнике Проблемы поэтики: Межвузовский сборник научных трудов /АГУ им. Абая. – Алматы, 1998. С.106––110.
Дата публикации: 10 апреля, 2017 [09:28]
Дата изменения: 28 ноября, 2019 [11:15]
-
-
September 7 2016, 11:19
- Музыка
- Cancel
Рассказ «Музыка» Владимира Набокова
Читаем рассказ «Музыка» Владимира Набокова. Владимир Набоков – один из крупных русскоязычных писателей 20 века, мастер мистификации и загадок. В своих произведениях он предлагает читателям одну загадку за другой. Вот и рассказ «Музыка» не исключение.В нем автор ставит перед читателями одну из главных загадок всей мировой литературы в целом – загадку человеческих взаимоотношений. Рассказ по насыщенности эмоций, чувств, страстей главного героя может быть приравнен к целому роману, хотя по развитию событий – короткий эпизод из жизни.
Сюжет рассказа весьма незамысловат и краток. Главный герой – Виктор Иванович пришел в гости на музыкальный вечер. В заполненной людьми гостиной играет талантливый пианист Вольф, играет ярко, надрывно. Но музыка, выходящая из-под пальцев музыканта, совсем не трогает героя. Он спокоен, и от скуки начинает рассматривать находящихся в комнате гостей. Первым под изучение попал пианист Вольф. Его внешность, манера игры не вызвало ни малейшей симпатии у Виктора Ивановича. Затем его взгляд перенесся на гостей, со многими он был знаком и здоровался. И вдруг герой видит свою бывшую жену. И тут его душа, сердце и весь организм начинает исполнять свою мелодию, отличную от музыки Вольфа.
С этого момента Набоков с гениальной точностью передает малейшее изменение в состоянии Виктора Ивановича. Читателю определенно ясно, что он любил свою жену, а самое главное – и сейчас сильно ее любит. Один только короткий взгляд на нее всколыхнул такую гамму чувств в душе героя, пробудил массу воспоминаний.
Вспомнилась их первая после свадьбы ночь. Герои тогда были безумно счастливы. Слово «счастье» у Набокова – это «плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет». Судьба героя доказывает, что счастье – это не всегда радость, но и печаль. Еще живое чувство Виктора Ивановича автор уподобляет музыке. Как и музыкальное произведение, любовь имеет начало, кульминацию и развязку. Когда произведение пианиста подходит к концу – герой вспоминает сцену расставания с любимой женой, когда она призналась ему в измене.
Внешне Виктор Иванович ничем не выдает ту бурю чувств, которая бушует в его душе. Он спокоен и беспристрастен. В рассказе проводится параллель с поведением музыканта, который вкладывает массу усилий для внешних эффектов. По Набокову любовь – музыка чувств. И только она может удержать вместе людей.
Текста рассказа
Тема любви в рассказе В. Набокова Музыка
Владеть миром Набоков, скорее всего самый дородный русскоговорящий сочинитель 20 века. Это автор, чей путь в искусстве различался изысканной, необыкновенной извилистостью. Замысловат и извилист и живописный манер Набокова. Данный сочинитель мастер, с небывалой воздушностью играющий стилями, конфигурациями и направлениями. Набоков окунает читателя в свой мир, несколько абсурдный, несколько нелепый, несколько страшный, но всегда бесконечно интересный. Он доставляет читателю далеко не исключительно эстетическое, но также умственное удовольствие. Может показаться на первый взгляд (как) будто Набоков играет с читателем, предлагая ему в своих творениях одну загадку после другой. Загадку стиля, загадку языка, загадку человечной натуры Рассказ Зодчество (архитектура) установливает накануне чтецом очередную загадку загадку человечных взаимоотношений, человечных чувств. Сюжет рассказа абсолютно прост, я бы сказал, что он есть маленький случай из жизни героя. Через некоторое время и по усилию данный случай абсолютно незначителен. Но по числу чувств, эмоций, некоторый испытывает герой, ему предоставляется возможность существовать равноправен целостному сочному роману. Фундаментальный богатырь Музыки Победитель Иванович приходит в гости на музыкальный вечер. Он проходит в гостиную, где играет некоторый Вольф, тот или другой всегда полагают профессиональным исполнителем. Богатырь далеко не разумеет и не чувствует музыки, выполняемой пианистом. Составитель говорит, что он располагать сведениями дюжину разблаговещенных мотивов, а всякая зодчество (архитектура) тот или другой он слыхом не слыхал, быть в наличии в качестве кого проворный диалог на чужом языке: безрезультатно стараешься различить впрочем бы границы слов, все скользит, все сливается, и непроворный говор давать начало скучать. От нечего делать Победитель Иванович давать начало анализировать самого Вольфа, в таком случае как меняется его состояние, рано или поздно он играет.
Представление такое малопривлекательно. Шея у Вольфа раздувалась, растянутые пальцы напрягались, руки стискивали послушную клавиатуру. Вырабатывается таковое ощущение, что играет не творец, а ремесленник. К тому же представление наружности Вольфа далеко не активизирует симпатии: выпяченный нос, отпечаток чирья на содержании, светлые, как пух, волосы. Проштудировав Вольфа, принцип Виктора Ивановича выносится на гостей. Он считает известные лица, здоровается с ними кивком головы. Башку богатыря заполоняют праздные мысли. Победитель Иванович тосковал и едва дожидался завершения сладкоголосего сеанса. Но вдруг принцип богатыря наталкивается для его бывшую жену. Положение Виктора Ивановича мгновенно меняется. Его организм, его душа и сердце давать начало приводить в исполнение свою музыку, напротив музыке Вольфа: Откуда-то снизу, как кулак, бабахнул сердце, втравился и бабахнул еще раз и затем истасканно тарабанить проворно и не так переча музыке и заглушая ее. С этого фактора Победитель Иванович проживает во всем мире своих воспоминаний, во всем мире счастья и боли. Ретроспективная структура творения может помочь нам погрузиться в этот мир. Набоков бесконечно неукоснительно и психологически филигранно вручает положение героя. Победитель Иванович безумно души не чаять и души не чаять свою имевшуюся жену. Он лишь мимоходом бросить взгляд на нее, поспел обнаружить исключительно невыразительность щеки, беспросветный виток волос, ожерелье, но в его памяти уже вспыхнула вся она, с огромной насильственно запылал любовь. Набоков мастерски замечает: эта мгновенная мешанину сверкающего и темного быть в наличии сейчас тем единственным, что звалось ее именем. Впоследствии сочинитель окунает нас в интимное расстояние героя, в его личные, настолько дорогие, воспоминания. На этом месте инициативу рассказчика сочинитель вручает своему герою.
В сознании Виктора Ивановича всплывает первая ночку спустя их свадьбы. Шел сильный дождь. Богатырь быть в наличии счастливы. Как подходило выступление благоденствие к утреннему мореходному пейзажу, к состоянию эйфории, тот или другой чувствовал Победитель Иванович. Набоков-художник делает отличное предложение нам свое сочное воспоминание от слова счастье. Оно плещущее слово, таковое живое, ручное, само улыбается, само плачет. Стало быть что счастье это не столько радость, но также печаль. Что касается к судьбе богатыря это правда. Победитель Иванович время от времени ворачивается в реальность. Его голос перемежается с гласом Набокова-рассказчика. Он видит все те же руки Вольфа, чувствует звуки, тот или другой с целью него далеко не вырабатываются в музыку. Все внимание богатыря сосредоточено на любимой им женщине. Но ее не получается увидеть. Набоков впрыскивает в повествование нетолстые психические детали. Победитель Иванович старается заприметить свою жену, но вот некто загородил ее, вытащив белый, как смерть, платок. Действительно, для героя не видать как своих ушей, не уловить хотя на мгновение почитаемый лесбийский образ сходственно смерти. В рассказе чувствование Виктора Ивановича уподобляется музыке. Неслучайно, рано или поздно мелодия, выполняемая Вольфом, то что надо к концу, богатырь начал припоминать его разрыв с женой, ее признание в измене. По Набокова, филигранного специалиста художества и человечных характеров, сведущая привязанность сродни профессиональному сладкоголосему произведению. Она так же имеет свое начало, кульминацию (а) также как не прискорбно, развязку, конец, скопление пыли, ужасающую весть. Пес с ним богатырь не понимает музыку звуков, но ему доступна прочая зодчество (архитектура) чувств. По этой причине Набоков сопоставляет Виктора Ивановича и Вольфа. Завершительный всегда свое самозабвение вносит в течение наружные эффекты: надулась шея, пальцы стреляют по клавишам.
Анализ рассказа Набокова «Круг».
Анализ композиции рассказа В. Набокова «Круг»
Рассказ В. Набокова «Круг» написан в 1934 году в Париже и опубликован в первой половине марта в газете «Последние новости». Впоследствии этот рассказ был включен автором в знаменитый сборник «Весна в Фиальте».
Первое, что приковывает внимание читателя, это – заглавие рассказа. Какую функцию выполняет это заглавие? Это заглавие-метафора, заглавие-символ.
Символ круга – древнейший мистический символ, традиционно обозначающий Небо, Вселенную и Вечность. Круг — древний дохристианский знак колеса-солнца. Сложный символ, соединяющий идею совершенства и вечности, так как движение по кругу символически означает постоянное возвращение к самому себе.
По своей форме рассказ имеет кольцевую композицию: начинается словами «Во-вторых:…., В-третьих, наконец,…» и заканчивается «Во-первых, потому что…» — что приводит читателя к началу и заставляет про
Коллекция рефератов
“К середине 1936-го, незадолго перед тем, как навсегда покинуть Берлин и уже во Франции закончить «Дар», я написал уже, наверное, четыре пятых последней его главы, когда от основной массы романа вдруг отделился маленький спутник и стал вокруг него вращаться”, — так сказал сам Набоков об этом рассказе в предисловии к одному из своих сборников. Логично и доказательно выглядит авторская рецензия, и читатель хочет поверить, что “Круг” — это только довесок, хотя и “со своей орбитой и своей расцветкой пламени”, к “Дару”, это одна из карточек с записями сцен будущей книги, которая в общей картине оказалась лишней. Не верьте этому “наименее русскому из всех русских писателей” на слово! Его слова о себе — виртуозная игра, цель которой — перепутать указатели в “коридорах памяти”, создать свою жизнь для биографов так, как он создавал судьбы героев для читателей. На самом деле впервые “Круг” был опубликован на два года раньше указанной Набоковым даты под незатейливым названием “Рассказ”. Другими словами, не “Круг” отделился от “Дара”, а скорее, большая часть романа выросла из “Рассказа”.
Говоря о “Круге” как о “спутнике” романа, Набоков пытается подтвердить распространенное мнение о своей “рассудочности”: согласно логике, меньшая масса будет вращаться вокруг большей. Но проза Набокова ирреальна, и вполне оправданным будет предположение о первичности “Круга”. Именно поэтому будем рассматривать “Круг” как самостоятельное произведение, как один из ключей ко всей прозе автора.
Рассказ лишен ярко выраженного действия, и содержание его воспринимается скорее не через описание происходящего, как в произведениях иных авторов, а через ощущения — цвета, звука, самой мысли автора. Герой “Круга”, Иннокентий, находясь в эмиграции, встречает в Париже девушку Таню, которая была его первой любовью, и ее семью; после короткого разговора с нею герой оказывается во власти воспоминаний, и вместе с ним читатель видит Россию, усадьбу, отца-учителя, барина — отца Тани — такова фабула рассказа. Казалось бы, все просто, но, несмотря на вполне реалистичное повествование, читатель чувствует, что находится в мире, не тождественном настоящему. Проследим некоторые детали (кстати, характерные для всего творчества Набокова), помогающие создать из вполне реального Парижа “новый мир”.
Первая, мгновенно обращающая на себя внимание особенность — кольцевая композиция: “Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России”, — читатель, хоть немного знакомый с творчеством Набокова, уже знает начало последней фразы рассказа — “во-первых”. И обратим внимание на то, как от еще парижского, реального “во-вторых” автор переходит к следующему — в-третьих: “в-третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней молодости”, — полностью отдавая персонажа, Иннокентия, во власть любимейшей своей музы— Мнемозины, одновременно с этим погружая читателя в мир памяти героя. В этой части рассказа обратим внимание на то, как мастерски Набоков создает требуемое “освещение” сцены: приглушая звук общий (“сидя в кафе и все разбавляя бледнеющую сладость водой из сифона” — [с], [ф]), выводит крещендо единственное — Россия (характеризуется аллитерацией [с], [р]: “сердца, с грустью — с какой грустью? — да с грустью”).
Итак, герой, а с ним и читатель, уже не в Париже 30-х, а в России начала XX века. “Все это прошлое поднялось”, и, казалось бы, обыкновенно появляются из прошлого лица, но тут читателя ожидает загадка: герой вспоминает отца, Илью Ильича Бычкова, и сразу после имени мы натыкаемся на совершенно абсурдную фразу по-французски: “Наш деревенский учитель”, — причем это выражение не может принадлежать автору — Набоков писал не автобиографию. Из прошлого на данный момент выведен только отец героя, не имеющий права слова. Да и Иннокентий вряд ли характеризовал бы отца “наш учитель”. Разгадка обнаружится лишь при повторном прочтении рассказа. Эта фраза — перекличка с темой реального Парижа, с одной стороны, и подтверждение кольцевой композиции, с другой: в конце (или, напротив, в начале?) рассказа Елизавета Павловна, мать Тани, скажет по-французски об Иннокентии: “Это сын нашего деревенского учителя”, — вот откуда “наш деревенский учитель”. Это представление Ильи Ильича как отца с позиции героя и как учителя для Тани и ее семьи, переплетение далекого прошлого с воспоминаниями, попавшими в библиотеку памяти полчаса назад.
Следующая деталь, подтверждающая нереальность мира рассказа, — имена, вспоминаемые героем. Среди известных читателю реально живших Федченко, Северцева, Дюмон-Дюрвилля и других мы встречаем имена вымышленные — например, никогда не существовавшего профессора Бэра, работающего на неназванном “чешском курорте”. И, раз вспомнили об именах, отметим еще одну деталь: “барина”, Годунова-Чердынцева, в “Даре” зовут Константин Кириллович, в “Круге” же он имеет инициалы К. Н. — еще один указатель самостоятельности рассказа. Он перекликается с “Даром” лишь некоторыми, общими для многих произведений Набокова тематическими линиями и тем, что полноправным хозяином обеих вселенных — романа и рассказа — является автор. В “Круге” его присутствие просматривается в иронических выпадах против идей “гражданственности”, “гражданского долга”: “Не забудем, кроме того, чувств известной части нашей интеллигенции, презирающей вся кое неприкладное естествоиспытание”, “полагал с ужасом и умилением, что сын живет всей душою в чистом мире нелегального”, — какая ненавязчивая ирония в эпитете “чистый”, в самом определении “мир”, выбранном для упоминания о нелегальном (понять это можно, обратившись, например, к четвертой главе “Дара”, где Федор Годунов-Чердын-цев рассуждает о “нелегальном” на примере Чернышевского)! Эти замечания не могут принадлежать Иннокентию, они — авторские.
Итак, кольцевой композицией автор отделяет мир рассказа от любых других, создавая замкнутое пространство. Мешая имена реальные и выдуманные, он подчеркивает, что Париж “Круга” не равен Парижу реальному. Юмор относительно не принимаемых Набоковым идей и чудное их разрушение в любви Тани (а любовь у Набокова — проявление вечной гармонии), с которой становятся лишними все “репетиции гражданского презрения”, лишний раз доказывает, что Бог этого Парижа, Иннокентия, Тани — сам писатель, что характерно для всей его прозы.
Он подтверждал это в интервью А. Аппелю и в некоторых собственных послесловиях к своим произведениям (в частности, к третьему американскому изданию “Bend Sinister”). Внутри же этой круговой границы, в замкнутом мире, своей наместницей Набоков оставляет Мнемозину. Все в рассказе соответствует миру памяти — “скрытым складам в темноте, в пыли”: и отсутствие действия в настоящем времени (кроме “сидя в кафе и все разбавляя бледнеющую сладость водой из сифона”), и сумрак воспоминаний, создаваемый некоторыми деталями: “ночные фиалки”, “отец движется на цыпочках”, — характеристики предрассветного времени суток, когда еще темно, но уже угадывается скорое утро. В этих деталях чувствуется важнейшая для Набокова тема — тема мечты о возвращении в Россию живую, с ее “ослепительно-зелеными утрами”, из “хрустально-расплывчатой” России воспоминаний; о наступлении того яркого “утра”, которое неясно — будто в тумане сна, — говорится во всех произведениях писателя. Подтвердить единство темы родины для всего творчества автора можно не только на уровне интуиции (ведь Набоков никогда не говорит прямо о своих темах), но и опираясь на сквозные образы, соответствующие тому или иному мотиву. Обратимся к последней строфе известнейшего стихотворения “Расстрел”, тема которого бесспорна — Россия:
Но сердце, как бы ты хотело, Чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела И весь в черемухе овраг!
Не этой ли черемухи “молочное облако” помнит герой “Круга”?
Думается, тема разлуки с Россией и мечты о возвращении является основной в рассказе, а любовь Тани, расставание и встреча с ней — метод в раскрытии этой темы, набоковская параллель. Причем обратим еще раз внимание на абсурдность повествования — главная мысль лишь угадывается читателем по некоторым деталям, тогда как ее отражение — чувства героя к Тане, ее любовь — выдается за основную тему: Набоков — величайший мистификатор и в жизни, и в искусстве. “Обливаясь слезами, Таня говорила, что все кончено. «Останьтесь, Таня», — взмолился он”, — но она убежала, а он “пошел прочь по темной как будто бы шевелящейся дороге, и потом была война с немцами, и вообще все как-то расползлось, — но постепенно стянулось снова”, — и Таня “оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как некогда”. Заметим это “прочь” — не только из сада, от Тани. Прочь — из России.
Для Иннокентия Таня — часть той покинутой России, вот почему в нем разыгралась “бешеная тоска” по родине после встречи с ней в Париже. И в описании парижской, “как-то уточнившейся”, “с подобревшими глазами” Тани читатель снова может различить тему России. “С подобревшими глазами” — на эти глаза стоит обратить особое внимание: эпитет “подобревшие” перекликается с извечной мечтой эмигрантов о смягчении порядков в советской России. Если не о “свержении тиранов”, то хотя бы о возвращении традиций, культуры, всего наследия русского народа, которое оказалось “сброшенным с корабля современности” вместе с растворившейся в Европе интеллигенцией в 17-м году.
Таким образом, тематически и композиционно рассказ перекликается со многими произведениями В. В. Набокова, органично вплетаясь в мир творчества одного из самых непонятных на сегодняшний день авторов. При внимательном прочтении рассказ дает ключ к разгадке его прозы, к осознанию абсурдных на первый взгляд историй и судеб героев, а через это осознание — к собстзенно миру самого писателя, который и поныне остается для широкого читателя terra incognita.
Лекции по зарубежной литературе Битов Андрей: Музыка чтения
Музыка чтения
Есть у Набокова рассказ, не вспомню точно какой, где герой, со всякими оговорками, что ничего не смыслит в музыке, заходит в чей-то дом или салон (возможно, это связано с его лирическим переживанием) и попадает случайно на некий квартет или трио и вынужден ради приличия выстоять и выслушать до конца. И вот, описывая, как он ничего не слышит и не понимает, Набоков достигает такого эффекта, что я как читатель не только услышал, что они играют, но и каждый инструмент в отдельности.
Типичный эффект Набокова: создать атмосферу непосвященности для того, чтобы выявить высокую точность действительности. Отрицая то Бога, то музыку, он только о них и повествует.
Так прозаик — прежде всего композитор. Ибо и композитор — это не только и не столько человек с абсолютным музыкальным слухом, имеющий мелодический талант, сколько архитектор, правильно сочетающий гармонию частей для построения целого. Набоков приписал своему герою свои собственные неоднократно им более частно высказанные признания в неспособности к восприятию музыки, являясь именно великим композитором (кстати, гроссмейстерскую квалификацию он имел как шахматный композитор).
Очевидна мысль, что партитура, на которой записан музыкальный текст, сама по себе не звучит, без исполнения она всего лишь бумага, хотя именно в голове композитора, испещрившего листы, эта музыка впервые прозвучала.
То же — книга. Полкило бумаги. Автор — писатель — композитор — не может выступить ее читателем. Без натяжки, читатель в литературе играет ту же роль, что и исполнитель в музыке, с той принципиальной разницей, что это не соборное действие (оркестр — публика), а индивидуальное исполнение наедине с самим собой, то есть понимание.
Сочтем это положение читателя привилегией: Рихтер для вас одного не сыграет. Как правило, читатель не умеет потом донести свой восторг до собеседника (критики не в счет). Есть плохая музыка и слабые исполнители, как есть слабая литература и бездарные читатели. Всеобщая грамотность тому не помеха. Если бы все умели читать ноты, представляете, какая бы царила в мире какофония!
Доказав миру, что он великий композитор в литературе, он оказался и величайшим исполнителем литературы, присоединив ее таким образом к своему творчеству. (Сочетание композитор — исполнитель, и в музыке являющееся достаточно редким: либо-либо…)
Можно было бы лишь помечтать о таком учебнике, который бы учил человека читать в этом заветном, музыкальном, смысле слова.
Такой учебник перед вами.
Именно в лекциях об иностранной литературе сказалось выше всего это редкое искусство чтения. В «Лекциях по русской литературе» Набоков — все же сам часть ее: учит, преподает, размышляет, внушает, как правило, невразумленному иностранцу. Он имеет всегда в виду все тело русской литературы, рассуждая о той или иной ее прекрасной части. Иностранную же литературу в этой вот книге он подает как читательское исполнение отдельных излюбленных им шедевров. Разница, возможно, та же, как между сольной партией в оркестре и сольным концертом маэстро.
Прочитав эти лекции, мне так захотелось перечитать «Дон-Кихота»!
А также взять и прочесть (уже по нотам Набокова) отчего-то пропущенных Джейн Остен и Стивенсона.
Может, я их пропустил, потому что не умел читать?..
22 сентября 1998 г.
Андрей Битов
Владимир Набоков, наверное, самый крупный русскоязычный писатель 20 века. Это автор, чей путь в искусстве отличался изысканной, причудливой извилистостью. Причудлив и извилист и художественный стиль Набокова. Этот писатель – мастер, с небывалой легкостью играющий стилями, формами и направлениями. Набоков погружает читателя в свой мир, немного абсурдный, немного нелепый, немного страшный, но всегда очень интересный. Он доставляет нам не только эстетическое, но и интеллектуальное удовольствие. Кажется, будто Набоков играет с читателем, предлагая ему в своих произведениях одну загадку за другой. Загадку стиля, загадку языка, загадку человеческой натуры… Рассказ «Музыка» ставит перед читателем еще одну загадку – загадку человеческих взаимоотношений, человеческих чувств. Сюжет рассказа совсем прост — он представляет собой небольшой эпизод из жизни героя. По времени и по действию этот эпизод совсем незначителен. Но по количеству чувств, эмоций, который переживает герой, он может быть равен целому насыщенному роману. Главное действующее лицо рассказа — Виктор Иванович — приходит в гости на музыкальный вечер. Он проходит в гостиную, где играет некий Вольф, которого все считают талантливым исполнителем. Герой не понимает и не чувствует музыки, исполняемой пианистом. Автор говорит, что Виктор Иванович знал «дюжину распространенных мотивов», а всякая музыка, которую он не знал, «была как быстрый разговор на чужом языке»: «тщетно пытаешься распознать хотя бы границы слов, – все скользит, все сливается, и непроворный слух начинает скучать». От скуки герой начинает рассматривать самого Вольфа, то, как меняется его состояние, когда он играет. Описание это малопривлекательно. Шея у Вольфа раздувалась, «распяленные» пальцы напрягались, руки мяли податливую клавиатуру. Складывалось ощущение, что играет не творец, а ремесленник. Да и описание внешности Вольфа не вызывает симпатии: заостренный нос, след фурункула на шее, светлые, как пух, волосы. Подробно изучив известного писаниста, Виктора Ивановича переносит свой взгляд на гостей. Герой находит знакомые лица, здоровается с ними кивком головы. Голову Виктора Ивановича заполняют досужие мысли. Виктор Иванович скучал и с трудом дожидался окончания музыкального сеанса. Но вдруг взгляд героя натыкается на его бывшую жену. Состояние Виктора Ивановича моментально меняется. Его организм, его душа и сердце начинают исполнять свою музыку, наперекор музыке Вольфа: «Откуда-то снизу, как кулак, ударило сердце, втянулось и ударило опять, — и затем пошло стучать быстро и беспорядочно, переча музыке и заглушая ее». С этого момента Виктор Иванович живет в мире своих воспоминаний, в мире счастья и боли. Ретроспективная композиция произведения помогает нам погрузиться в этот мир. Набоков очень точно и психологически тонко передает состояние героя. Виктор Иванович до безумия любил и любит свою бывшую жену. Он лишь мельком взглянул на нее, успел заметить только бледность щеки, темный завиток волос, ожерелье, но в его памяти уже вспыхнула вся она, с огромной силой вспыхнула любовь. Набоков виртуозно замечает: «…эта мгновенная смесь блестящего и темного была уже тем единственным, что звалось ее именем». Далее писатель погружает нас в интимное пространство героя, в его личные, столь дорогие, воспоминания. Здесь инициативу рассказчика писатель передает своему герою. В сознании Виктора Ивановича всплывает первая ночь после их свадьбы. Шел сильный дождь. Герой были счастливы. Как подходило слово «счастье» к утреннему морскому пейзажу, к состоянию эйфории, которое испытывал Виктор Иванович. Набоков-художник предлагает нам свое образное впечатление от слова «счастье». Оно «плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет». Получается, что «счастье» — это не только радость, но и печаль. По отношению к судьбе героя – это правда. Виктор Иванович иногда возвращается в реальность. Его голос перемежается с голосом Набокова-рассказчика. Он видит все те же руки Вольфа, слышит звуки, которые для него не складываются в музыку. Все внимание героя сосредоточено на любимой им женщине. Но ее не удается увидеть. Набоков вводит в повествование тонкие психологические детали. Виктор Иванович пытается увидеть свою жену, но вот кто-то заслонил ее, вынув «белый, как смерть, платок».
klassreferat.ru
Владимир Набоков, наверное, самый крупный русскоязычный писатель 20 века. Это автор, чей путь в искусстве отличался изысканной, причудливой извилистостью. Причудлив и извилист и художественный стиль Набокова. Этот писатель – мастер, с небывалой легкостью играющий стилями, формами и направлениями. Набоков погружает читателя в свой мир, немного абсурдный, немного нелепый, немного страшный, но всегда очень интересный. Он доставляет нам не только эстетическое, но и интеллектуальное удовольствие. Кажется, будто Набоков играет с читателем, предлагая ему в своих произведениях одну загадку за другой. Загадку стиля, загадку языка, загадку человеческой натуры… Рассказ «Музыка» ставит перед читателем еще одну загадку – загадку человеческих взаимоотношений, человеческих чувств. Сюжет рассказа совсем прост — он представляет собой небольшой эпизод из жизни героя. По времени и по действию этот эпизод совсем незначителен. Но по количеству чувств, эмоций, который переживает герой, он может быть равен целому насыщенному роману. Главное действующее лицо рассказа — Виктор Иванович — приходит в гости на музыкальный вечер. Он проходит в гостиную, где играет некий Вольф, которого все считают талантливым исполнителем. Герой не понимает и не чувствует музыки, исполняемой пианистом. Автор говорит, что Виктор Иванович знал «дюжину распространенных мотивов», а всякая музыка, которую он не знал, «была как быстрый разговор на чужом языке»: «тщетно пытаешься распознать хотя бы границы слов, – все скользит, все сливается, и непроворный слух начинает скучать». От скуки герой начинает рассматривать самого Вольфа, то, как меняется его состояние, когда он играет. Описание это малопривлекательно. Шея у Вольфа раздувалась, «распяленные» пальцы напрягались, руки мяли податливую клавиатуру. Складывалось ощущение, что играет не творец, а ремесленник. Да и описание внешности Вольфа не вызывает симпатии: заостренный нос, след фурункула на шее, светлые, как пух, волосы. Подробно изучив известного писаниста, Виктора Ивановича переносит свой взгляд на гостей. Герой находит знакомые лица, здоровается с ними кивком головы. Голову Виктора Ивановича заполняют досужие мысли. Виктор Иванович скучал и с трудом дожидался окончания музыкального сеанса. Но вдруг взгляд героя натыкается на его бывшую жену. Состояние Виктора Ивановича моментально меняется. Его организм, его душа и сердце начинают исполнять свою музыку, наперекор музыке Вольфа: «Откуда-то снизу, как кулак, ударило сердце, втянулось и ударило опять, — и затем пошло стучать быстро и беспорядочно, переча музыке и заглушая ее». С этого момента Виктор Иванович живет в мире своих воспоминаний, в мире счастья и боли. Ретроспективная композиция произведения помогает нам погрузиться в этот мир. Набоков очень точно и психологически тонко передает состояние героя. Виктор Иванович до безумия любил и любит свою бывшую жену. Он лишь мельком взглянул на нее, успел заметить только бледность щеки, темный завиток волос, ожерелье, но в его памяти уже вспыхнула вся она, с огромной силой вспыхнула любовь. Набоков виртуозно замечает: «…эта мгновенная смесь блестящего и темного была уже тем единственным, что звалось ее именем». Далее писатель погружает нас в интимное пространство героя, в его личные, столь дорогие, воспоминания. Здесь инициативу рассказчика писатель передает своему герою. В сознании Виктора Ивановича всплывает первая ночь после их свадьбы. Шел сильный дождь. Герой были счастливы. Как подходило слово «счастье» к утреннему морскому пейзажу, к состоянию эйфории, которое испытывал Виктор Иванович. Набоков-художник предлагает нам свое образное впечатление от слова «счастье». Оно «плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет». Получается, что «счастье» — это не только радость, но и печаль. По отношению к судьбе героя – это правда. Виктор Иванович иногда возвращается в реальность. Его голос перемежается с голосом Набокова-рассказчика. Он видит все те же руки Вольфа, слышит звуки, которые для него не складываются в музыку. Все внимание героя сосредоточено на любимой им женщине. Но ее не удается увидеть. Набоков вводит в повествование тонкие психологические детали. Виктор Иванович пытается увидеть свою жену, но вот кто-то заслонил ее, вынув «белый, как смерть, платок». Действительно, для героя не увидеть, не уловить хотя бы на мгновение обожаемый женский облик подобно смерти. В рассказе чувство Виктора Ивановича уподобляется музыке. Неслучайно, когда мелодия, исполняемая Вольфом, подходит к концу, герой вспоминает его разрыв с женой, ее признание в измене. По мнению Набокова, тонкого знатока искусства и человеческих характеров, сильная любовь сродни талантливому музыкальному произведению. Она так же имеет свое начало, кульминацию и, к сожалению, развязку, конец, «облако пыли, ужасную весть». Пусть герой не понимает музыку звуков, но ему доступна другая музыка – чувств. Поэтому Набоков сравнивает Виктора Ивановича и Вольфа. Последний все свое усердие вкладывает во внешние эффекты: надулась шея, пальцы лупят по клавишам. Виктор Иванович же внешне остается беспристрастным и скучающим. Но внутри у него разворачивается целая увертюра, симфония, опера, «Молитва Девы» и «Крейцерова Соната». Набоков дает нам понять, что любовь есть, пока есть эта музыка чувств, только она может удержать двух людей рядом. Без нее жизнь вместе – тесная тюрьма. Рассказ «Музыка» печален, но, в то же время, светел. Язык Набокова, его ассоциации, игра звуков и образов делает это маленькое произведение настоящим художественным шедевром.
Рекомендуем посмотреть:
- Темы, идеи и образы ранней прозы В.В. Набокова
- Как сориентироваться в художественном пространстве Набокова
- Набоков и традиции русской классической литературы
- Удивительный и страшный мир Набокова. Парадоксальность творчества Набокова
- Непостижимая Россия в творчестве В.В. Набокова
- Значение для русской литературы творчества Набокова
- Образ России в творчестве Набокова
- Пафос индивидуальности как основа романистики Набокова
- Краткая летопись жизни и творчества В. В. Набокова
- Судьба и литературное творчество В. В. Набокова
Музыка (Владимир Набоков)
Передняя была завалена зимними пальто обоего пола, а из гостиной доносились одинокие, скорые звуки рояля. Отражение Виктора Ивановича поправило узел галстука. Горничная, вытянувшись кверху, повесила его пальто: оно, сорвавшись, увлекло за собой две шубы, и пришлось начать сызнова.
Уже ступая на цыпочках, Виктор Иванович отворил дверь, — музыка сразу стала громче, мужественнее. Играл Вольф, — редкий гость в этом доме. Остальные — человек тридцать — по-разному слушали, кто подперев кулаком скулу, кто пуская в потолок дым папиросы, и неверный свет в комнате придавал их оцепенению смутную живописность. Хозяйка дома, выразительно улыбаясь, указала издали Виктору Ивановичу свободное место — кренделевидное креслице почти в самой тени рояля. Он ответил скромными жестами, смысл которых был: «ничего, ничего, могу и постоять», — но потом впрочем двинулся по указанному направлению и осторожно сел, осторожно скрестил руки. Жена пианиста, полуоткрыв рот и часто мигая, готовилась перевернуть страницу — и вот перевернула. Черный лес поднимающихся нот, скат, провал, отдельная группа летающих на трапециях. У Вольфа были длинные, светлые ресницы; уши сквозили нежнейшим пурпуром; он необычайно быстро и крепко ударял по клавишам, и в лаковой глубине откинутой крышки двойники его рук занимались призрачной, сложной и несколько даже шутовской мимикой. Для Виктора Ивановича всякая музыка, которой он не знал, — а знал он дюжину распространенных мотивов, — была как быстрый разговор на чужом языке; тщетно пытаешься распознать хотя бы границы слов, — все скользит, все сливается, и непроворный слух начинает скучать. Виктор Иванович попробовал вслушаться, — однако вскоре поймал себя на том, что следит за руками Вольфа, за их бескровными отблесками. Когда звуки переходили в настойчивый гром, шея у пианиста надувалась, он напрягал распяленные пальцы и легонько гакал, Его жена поспешила, — он удержал страницу мгновенным ударом ладони и затем, с непостижимой быстротой, перемахнул ее сам, и уже опять обе его руки яростно мяли податливую клавиатуру. Виктор Иванович изучил его досконально, — заостренный нос, козырьки век, след фурункула на шее, волосы, как светлый пух, широкоплечий покрой черного пиджака, — на минуту снова прислушался к музыке, но едва проникнув в нее, внимание его рассеялось, и он, медленно доставая портсигар, отвернулся и стал разглядывать остальных гостей Он увидел, среди чужих, некоторые знакомые лица, — вон Кочаровский — такой милый, круглый, — кивнуть ему… кивнул, но не попал: перелет, — в ответ поклонился Шмаков, который, говорят, уезжает за границу, — нужно будет его расспросить… На диване, между двух старух, полулежала, прикрыв глаза, дебелая, рыжая Анна Самойловна, а ее муж, врач по горловым, сидел, облокотившись на ручку кресла, и в пальцах свободной руки вертел что-то блестящее, — пенсне на чеховской тесемке. Дальше, наполовину в тени, прижав к виску вытянутый палец, слушал, лакомый до музыки, чернобородый, горбатый человек, имя-отчество которого никак нельзя было запомнить, — Борис? нет, не Борис… Борисович? тоже нет. Дальше, — еще и еще лица,— интересно, здесь ли Харузины, — да, вон они. — не смотрят… И в следующий миг, тотчас за ними, Виктор Иванович увидел свою бывшую жену.
Он сразу опустил глаза, машинально стряхивая с папиросы еще неуспевший нарасти пепел. Откуда-то снизу, как кулак, ударило сердце, втянулось и ударило опять, — и затем пошло стучать быстро и беспорядочно, переча музыке и заглушая ее. Не зная, куда смотреть, он покосился на пианиста, — но звуков не было, точно Вольф бил по немой клавиатуре,— и тогда в груди так стеснилось, что Виктор Иванович разогнулся, поглубже вздохнул, — и снова, спеша издалека, хватая воздух, набежала ожившая музыка, и сердце забилось немного ровнее.
Они разошлись два года тому назад, в другом городе (шум моря по ночам), где жили с тех пор, как повенчались. Все еще не поднимая глаз, он, от наплыва и шума прошлого, защищался вздорными мыслями,— о том, например, что когда давеча шел, на цыпочках, большими, беззвучными шагами, ныряя корпусом через всю комнату к этому креслу, она конечно видела его прохождение, — и это было так, будто его застали врасплох, нагишом, или за глупым пустым делом, — и мысль о том, как он доверчиво плыл и нырял под ее взглядом — каким? враждебным? насмешливым? любопытным? — мысль эта перебивалась вопросами, — знает ли хозяйка, знает ли кто-нибудь в комнате, — и через кого она сюда попала, и пришла ли одна, или с новым своим мужем, — и как поступить, — остаться так или посмотреть на нее? Все равно, посмотреть он сейчас не мог, — надо было сначала освоиться с ее присутствием в этой большой, но тесной гостиной, ибо музыка окружила их оградой и как бы стала для них темницей, где были оба они обречены сидеть пленниками, пока пианист не перестанет созидать и поддерживать холодные звуковые своды.
Что он успел увидеть, когда только что заметил ее? Так мало, — глаза, глядящие в сторону, бледную щеку, черный завиток — и, как смутный вторичный признак, ожерелье или что-то вроде ожерелья, — так мало, — но этот небрежный, недорисованный образ уже был его женой, эта мгновенная смесь блестящего и темного была уже тем единственным, что звалось ее именем.
Как это было давно. Он влюбился в нее без памяти в душный обморочный вечер на веранде теннисного клуба, — а через месяц, в ночь после свадьбы, шел сильный дождь, заглушавший шум моря. Как мы счастливы. Шелестящее, влажное слово «счастье», плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет, — и утром листья в саду блистали, и моря почти не было слышно, — томного, серебристо-молочного моря.
Следовало что-нибудь сделать с окурком, — он повернул голову, и опять невпопад стукнуло сердце. Кто-то, переменив положение тела, почти всю ее заслонил, вынул белый, как смерть, платок, но сейчас отодвинется чужое плечо, она появится, она сейчас появится. Нет, невозможно смотреть. Пепельница на рояле.
Ограда звуков была все так же высока и непроницаема; все так же кривлялись потусторонние руки в лаковой глубине. Мы будем счастливы всегда, — как это звучало, как переливалось… Она была вся бархатистая, ее хотелось сложить, — как вот складываются ноги жеребенка, — обнять и сложить, — а что потом? Как овладеть ею полностью? Я люблю твою печень, твои почки, твои кровяные шарики. Она отвечала: «Не говори гадостей». Жили не то, что богато, но и не бедно, купались в море почти круглый год. На ветру дрожал студень медуз, выброшенных на гальку. Блестели мокрые скалы. Однажды видели, как рыбаки несли утопленника, — из-под одеяла торчали удивленные босые ступни. По вечерам она варила какао.
Он опять посмотрел, — и теперь она сидела потупясь, держа руку у бровей, — да, она очень музыкальна, — должно быть Вольф играет знаменитую, прекрасную вещь. «Я теперь не буду спать несколько ночей», — думал Виктор Иванович, глядя на ее белую шею, на мягкий угол ее колена, — она сидела положив ногу на ногу,— и платье было черное, легкое, незнакомое, и поблескивало ожерелье. «Да, я теперь не буду спать, и придется перестать бывать здесь, и все пропало даром — эти два года стараний, усилий, и наконец почти успокоился, — а теперь начинай все сначала, — забыть все, все, что было почти забыто, но плюс сегодняшний вечер». Ему вдруг показалось, что она, промеж пальцев, глядит на него, и он невольно отвернулся.
Вероятно музыка подходит к концу. Когда появляются эти бурные, задыхающиеся аккорды, это значит, что скоро конец. Вот тоже интересное слово: конец. Вроде коня и гонца в одном. Облако пыли, ужасная весть. Весною она странно помертвела; говорила, почти не разжимая рта. Он спрашивал: «Что с тобой?» — «Ничего. Так». Иногда она смотрела на него, щурясь с неизъяснимым выражением. «Что с тобой?» — «Ничего. Так». К ночи она умирала совсем, — ничего нельзя было с ней поделать, — и, хотя это была маленькая, тонкая женщина, она казалась тогда тяжелой, неповоротливой, каменной. «Да скажи наконец, что с тобой». Так продолжалось больше месяца. Затем, однажды утром, — да, в день се рождения — она сказала, совершенно просто, как будто речь шла о пустяках: «Разойдемся на время. Так дальше нельзя». Влетела маленькая дочка соседей, — показать котенка, остальных утопили. Уходи, уходи, после. Девочка ушла, было долгое молчание. Уходи со своим котенком, не мешай нам молчать. Погодя он принялся медленно и молча ломать ей руки, — хотелось сломать ее совсем, с треском всю ее вывихнуть. Она расплакалась. Он сел за стол и сделал вид, что читает газету. Она ушла в сад, но скоро вернулась. «Я не могу. Мне нужно тебе все рассказать». И как-то удивленно, как будто обсуждая другую, и удивляясь ей, и приглашая его разделить свое удивление, она рассказала, она все рассказала. Это был рослый, скромный, сдержанный мужчина, который приходил играть в винт и говорил об артезианских колодцах. Первый раз в парке, потом у него.
Все очень смутно. Ходил до вечера по берегу моря. Да, музыка как будто кончается. Когда я на набережной ударил его по лицу, он сказал: «Это вам обойдется дорого», — поднял с земли фуражку и ушел. Я с ней не простился. Глупо было думать о том, чтоб убить ее. Живи, живи. Живи, как сейчас живешь; как вот сейчас сидишь, сиди так вечно; ну, взгляни на меня, я тебя умоляю, — взгляни же, взгляни, — я тебе все прощу, ведь когда-нибудь мы умрем, и все будем знать, и все будет прощено, — так зачем же откладывать, — взгляни на меня, взгляни на меня, — ну, поверни глаза, мои глаза, мои дорогие глаза. Нет. Кончено.
Последние звуки, многопалые, тяжкие, — раз, еще раз, — и еще на один раз хватит дыхания, — и после этого, уже заключительного, уже как будто всю душу отдавшего аккорда, пианист нацелился и с кошачьей меткостью взял одну, совсем отдельную, маленькую, золотую ноту. Ограда музыки растаяла. Рукоплескания. Вольф сказал: «Я эту вещь не играл очень давно». Жена Вольфа сказала: «Мой муж, знаете, эту вещь давно не играл». Доктор по горловым обратился к Вольфу, наступая, тесня его, толкая животом: «Изумительно! Я всегда говорю, что это лучшее из всего, что он написал. Вы по-моему в конце капельку модернизируете звук, — я не знаю, понятно ли я выражаюсь, но видите ли…»
Виктор Иванович смотрел по направлению двери. Там маленькая, черноволосая женщина, растерянно улыбаясь, прощалась с хозяйкой дома, которая удивленно вскрикивала: «Да что вы! Сейчас будем все чай пить, а потом еще будет пение». Но гостья растерянно улыбалась и двигалась к двери, и Виктор Иванович понял, что музыка, вначале казавшаяся тесной тюрьмой, в которой они оба, связанные звуками, должны были сидеть друг против друга на расстоянии трех-четырех саженей, — была в действительности невероятным счастьем, волшебной стеклянной выпуклостью, обогнувшей и заключившей его и ее, давшей ему возможность дышать с нею одним воздухом, — а теперь все разбилось, рассыпалось, — она уже исчезает за дверью, Вольф уже закрыл рояль,— и невозможно восстановить прекрасный плен.
Она ушла. Кажется, никто ничего не заметил, С ним поздоровался некто Бок, заговорил мягким голосом: «Я все время следил за вами. Как вы переживаете музыку! Знаете, у вас был такой скучающий вид, что мне было вас жалко. Неужели вы до такой степени к музыке равнодушны ?».
«Нет, почему же, я не скучал, — неловко ответил Виктор Иванович. — У меня просто слуха нет, плохо разбираюсь. Кстати, что это было?»
«Все, что угодно, — произнес Бок пугливым шепотом профана, — «Молитва Девы» или «Крейцерова Соната», — все, что угодно».
Чтецкий вечер 18 мая 2014. Рассказ «Музыка» читает Артём Блинов
Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на
тему Смысл названия рассказа В.В. Набокова «Музыка».
Доклад-сообщение содержит 17 слайдов.
Презентации для любого класса можно скачать бесплатно.
Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь
им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем
браузере.
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Исследовательская работа по литературе на тему: «Смысл названия рассказа В.В. Набокова «Музыка»
Выполнила ученица класса 9.5
Бычкова Ксения Сергеевна
Руководитель: Ганина Лидия Степановна
Слайд 2
Описание слайда:
Творчество Набокова
Слайд 3
Слайд 4
Описание слайда:
«Музыка»
Слайд 5
Описание слайда:
проанализировать образ музыки в рассказе
— определить роль музыки, ее место в развитии сюжетной линии
— проследить за особенностями восприятия музыки всеми персонажами произведения
— обратить внимание на роль художественных деталей, связанных с восприятием музыки
Слайд 6
Описание слайда:
Образ музыки
Слайд 7
Описание слайда:
Образ музыки через художественные детали
Музыкант как само олицетворение музыки.
Но он только «быстро и крепко ударял по клавишам».
«И в лаковой глубине откинутой крышки двойники его рук занимались призрачной, сложной и несколько даже шутовской мимикой».
Слайд 8
Описание слайда:
Восприятие музыки другими персонажами
«На диване, между двух старух, полулежала, прикрыв глаза, дебелая, рыжая Анна Самойловна, а её муж … сидел, облокотившись на ручку кресла, и в пальцах свободной руки вертел что-то блестящее».
Слайд 9
Описание слайда:
Острая завязка
Слайд 10
Описание слайда:
Другая музыка
«…спеша издалека, набежала ожившая музыка…» – музыка души, музыка любви и всего, что с ней связано – боли, тоски, одиночества и захватывающего дух счастья…
Слайд 11
Описание слайда:
Время
Набоков искусно смешивает два пласта времени: прошлое и настоящее.
Слайд 12
Описание слайда:
Образ любимой
«Глаза, глядящие в сторону, бледную щеку, черный завиток…что-то вроде ожерелья… но этот небрежный, недорисованный образ уже был его женой, эта мгновенная смесь блестящего и темного была уже тем единственным, что звалось ее именем».
Странный образ?
Слайд 13
Описание слайда:
Музыка любви
«Живи, живи. Живи, как сейчас живешь; как вот сейчас сидишь, сиди так вечно; ну взгляни на меня, я тебя умоляю, — взгляни же, взгляни, — я тебе все прощу, ведь когда-нибудь мы умрем, и всё будем знать, и всё будет прощено…взгляни на меня, взгляни на меня, — ну поверни глаза, мои дорогие глаза. Нет. Кончено».
Слайд 14
Описание слайда:
Музыкальность текста
«Как мы счастливы. Щемящее, влажное слово «счастье», плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет…»
«Щ»: «щемящее», «плещущее», звучит уже мягче в шипящем «ч»: руЧное…плаЧет» — это ли не музыка?
Слайд 15
Описание слайда:
Музыка «как бы стала для них темницей, где были оба обречены сидеть пленниками, пока пианист не перестанет созидать и поддерживать холодные звуковые своды». Музыка сравнивается с темницей, а своды звуков – холодные. Как осмыслить это? Загадка? Наверное, это и есть талант Набокова – заинтриговать, погрузить в раздумья, не давая точного ответа…
Слайд 16
Описание слайда:
«Ограда музыки растаяла»
И вот последние звуки.
Слайд 17
Описание слайда:
Вывод
Музыка – это, в первую очередь, поэзия любви! Чудесный рассказ о том, что любовь – необыкновенно поэтичное чувство, в котором есть и мука, и горечь, но всегда она дарит «прекрасный плен» — ощущение счастья.
Музыка – это тонкая, невероятно выразительная музыкальность текста. И каждый звук наносит свой отпечаток грусти, тоски, ликования, счастья, смятения; придаёт яркость и мелодичность образам, идеально вписываясь в концепцию целого рассказа.
Музыка – это загадка, непойманная тайна.
И целой жизни человека не хватит, чтобы понять утончённый удивительный мир музыки, который является проекцией мира сложной человеческой натуры, непонятной человеческой души. И именно любовь – муза этого искусства…
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Музыкальные мотивы в художественном творчестве В.В. Набокова»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Творчество В.В. Набокова представляет собой щедрый «дар» читательскому миру. Этот «дар» поражает своим жанрово-родовым и содержательно-тематическим разнообразием. В нем причудливым образом сплелись стихи, пьесы, рассказы, литературно-художественные переводы на английский язык «Слова о полку Игореве», а также произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, наконец, литературоведческие и литературно-критические работы. Но все это, если можно так выразиться, представляет собой периферию его творческого наследия, центром же его, ядерной частью, без всякого сомнения, являются семнадцать романов: девять на русском языке и восемь на английском.
Важное место в творчестве В.В. Набокова, как прозаическом, так и поэтическом, занимают музыкальные мотивы, они играют существенную роль в построении динамически развивающегося и внутренне завершенного мира в его произведениях, в раскрытии их идейно-тематического содержания, служат выражению авторских интенций, являются своеобразным катализатором в выражении идей автора, стимулируют восприятие читателя, помогают ему приблизиться к пониманию текста и осуществить его адекватную интерпретацию, усиливают эмоционально-изобразительный аспект повествования, участвуют в организации диалога между автором и читателем, дают импульс межтекстовому взаимодействию. Исследование перечисленных функций музыкальных мотивов в прозаических и поэтических произведениях В.В. Набокова позволит глубже проникнуть в творческую лабораторию писателя, полнее исследовать его эстетические позиции и особенности поэтики.
Степень изученности темы. Творчеству писателя, особенно романному, было уделено самое пристальное внимание со стороны многих исследователей, как отечественных, так и зарубежных, среди которых следует отметить работы таких литературоведов, как Г. Струве (1990),
3
Г. Адамович (2015), В. Ходасевич (1996), Ю.М. Лотман (2001), В.Е. Александров (1996), А. Долинин (2004), А.В. Леденёв (2011), О. Сконечная (2004), Б. Аверин (1999), С. Давыдов (2004), А. Зверев (2004), Т. Смирнова (1996), М.Э. Маликова (2015), Я.В. Погребная (2015) и др.; Б. Бойд (2010), Д.В. Конолли (1993), М.Г. Барабтарло (2003), М. Медарич (1997), Ю. Левинг (2001) и др.
Набоковедение располагает несколькими творческими биографиями В.В. Набокова, написанными А. Долининым (2004), А. Зверевым (2004), Б. Бойдом (2010). К настоящему времени набоковедение достигло значительных успехов в изучении творческого наследия писателя. Осуществлена глубокая и всесторонняя интерпретация его произведений в контексте русской и зарубежной литературы, выявлены их интертекстуальные связи, проанализированы особенности поэтики (стиль, жанр, язык, композиция, сюжеты, мотивы, образы и др.), исследованы элементы модернизма, охарактеризован метод В.В. Набокова и его эстетическая концепция.
Вместе с тем, недостаточно изученным остается музыкальный мотив в творческом наследии писателя, играющий важную роль в организации его содержательно-художественного своеобразия. В имеющихся работах содержатся лишь отдельные замечания по проблеме музыкальности поэзии и прозы В.В. Набокова. А. Долинин (2004) подчеркивает музыкальность прозы В.В. Набокова, обусловленную влиянием поэзии автора на становление его прозы, но подробности этого воздействия остаются нераскрытыми. А.В. Вострикова (2007) лишь указывает на богатство музыкальных ассоциаций в романах В.В. Набокова «Защита Лужина», «Дар», «Король, дама, валет», но подробно их не раскрывает, справедливо подчеркивая, что в «Защите Лужина» выражается метафора «музыка шахмат», а в романе «Дар» — «музыка литературы». Однако отсутствие философской базы в работе сильно ослабляет проведенный анализ. М.Э. Маликова (2015), исследуя особенности поэзии В.В. Набокова, в основном сосредотачивает свое
4
внимание на содержательной стороне стихотворений, ограничиваясь лишь беглыми замечаниями относительно их музыкальности.
Анализ научной литературы позволил установить, что такой важный компонент поэтики В.В. Набокова, как музыкальность, не нашел в ней должного освещения. На основании проведенных наблюдений была сформулирована проблема исследования: какую художественно-эстетическую функцию выполняют музыкальные мотивы в поэтике прозы и поэзии В.В. Набокова?
Актуальность проблемы и недостаточная ее разработанность обусловили выбор темы настоящего исследования — «Музыкальные мотивы в художественном творчестве В.В. Набокова».
Цель исследования: выявить эстетические функции музыкальных мотивов в прозе и поэзии В.В. Набокова.
Объектом исследования являются особенности поэтики прозы и поэзии В.В. Набокова.
Предмет исследования — эстетические функции музыкальных мотивов в прозе и поэзии В.В. Набокова.
Источником исследования послужили прозаические и поэтические произведения В.В. Набокова: романы «Защита Лужина» и «Приглашение на казнь», рассказы «Музыка» и «Бахман», поэмы «Поэты», «Слава», «Парижская поэма», стихотворение «Каким бы полотном». Выбор произведений обусловлен тем, что именно в них, на наш взгляд, наиболее ярко и выразительно моделируется музыкальный мир В.В. Набокова.
Гипотеза исследования. Музыкальные мотивы в прозе В.В. Набокова
выступают в роли вторичного тропа, являясь мощным выразительным
средством. При этом они выполняют различные функции:
характерологическую, композиционную, сюжетообразующую, фоновую,
метафорическую, служат выражению авторской позиции. В поэзии
музыкальные средства имеют не самодовлеющее значение; органически
ложась на сюжет произведения, они участвуют в раскрытии замысла автора,
в создании музыкальной картины лирического высказывания, в характеристике образов. Особенностью поэтического мастерства В.В. Набокова является использование в стихотворной речи прозаических элементов, придающих ей непосредственность и естественность.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы были определены следующие задачи:
1. Выявить специфику музыки как вида искусства и ее воздействие на эмоциональную сферу личности.
2. Определить особенности и цели взаимодействия музыки и художественной литературы, а также способы проявления музыкальных мотивов в тексте художественного произведения.
3. Исследовать специфику проявления музыкальных средств в прозе В.В. Набокова, а также причины их использования и функциональное назначение.
4. Выявить музыкальные средства в поэзии В.В. Набокова, их роль в композиции произведений, раскрытии характеров героев, а также специфику их функционирования.
Теоретико-методологическую основу исследования составили философские труды И. Канта (1966), Ж.Ж. Руссо (1961), Г. Гегеля (1999), Ф. Ницше (2011), А. Шопенгауэра (1999), Г.Г. Гадамера (1991) и др.; работы по теории литературы А.Н. Веселовского (1989), Б.М. Эйхенбаума (1969), М.М. Бахтина (1979), Ю.Н.Тынянова (1993), Б.В. Томашевского (1996), В.М. Жирмунского (1966,1975), Ю.М. Лотмана (1972), М.М. Гиршмана (1999), В.Е. Хализева (1999), М.Л. Гаспарова (1994), Н.Д. Тамарченко (2006), Ю.Б. Орлицкого (1991, 2008), Е.В. Поповой (2004), В. Шмид (1998) и др.; по теории музыкальной эстетики С. Маркуса (1968), А.Ф. Лосева (1926), Э. Курта (1931), Р. Шумана (1956), Й.Г. Гердера (1955) и др.
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы применялись следующие методы исследования:
— сравнительно-исторический метод, предусматривающий анализ исследуемых произведений в контексте русской литературы;
— структурный, ориентирующий на принцип имманентного исследования текста, на изучение формы произведения и значимости каждого элемента в составе художественного целого;
— герменевтический, направленный на постижение авторской концепции и истолкования смысла произведения;
— аксиологический, исследующий ценностные ориентации автора и литературных персонажей.
Научная новизна работы определяется тем, что впервые в набоковедении осуществлено комплексное исследование музыкальных мотивов в поэтическом и прозаическом творчестве В.В. Набокова. Суть новизны заключается в следующем:
— прослежена роль музыкальных образов и картин в раскрытии идейно-тематической линии сюжетов, в композиции прозаических произведений В.В. Набокова, в формировании их жанра;
— выявлено взаимодействие художественной прозы В.В. Набокова с музыкальными жанрами, показана значимость музыкального компонента в художественной системе В.В. Набокова и его эстетические функции;
— исследованы особенности музыкального принципа письма В.В. Набокова, проявляющиеся в создании звуковых картин посредством аллитераций, ассонансов, рифмы, ритма, повторов, а также в синтезе поэтических и прозаических приемов;
— раскрыты особенности синтеза поэзии и прозы в лирике В.В. Набокова, их стилистическая роль как вторичного тропа;
— определена роль музыкальных средств в композиционной структуре лирических произведений В.В. Набокова, в характеристике персонажей и в передаче звуковой стороны изображаемых ситуаций;
— осуществлено уточнение значения термина «вторичный троп»,
выражающееся в том, что под вторичным тропом следует понимать не только
поэтические средства и приемы в прозе, но и, наоборот, прозаические приемы в поэзии.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что достигнутые в ней результаты литературоведческого анализа музыкальных мотивов в творчестве В.В. Набокова, принципы их выявления, методика исследования различных музыкальных средств и приемов и определение их роли в раскрытии приемов типизации, подачи жизненного материала, в выражении авторской модальности, в характеристике героев, межтекстового взаимодействия, в организации образного строя и композиции художественного произведения могут послужить теоретическим обоснованием при исследовании данного аспекта творчества других мастеров художественного слова.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты могут найти разнообразное применение в общих и специальных курсах по истории русской литературы, по истории литературы русского зарубежья, по литературоведческому анализу художественного произведения, по теории литературы, в вузовской практике преподавания, руководстве научной работой студентов и магистров, включая курсовые и квалификационные работы.
Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования обеспечиваются исходными методологическими позициями, применением комплекса методов исследования, адекватных его объекту, цели, задачам и логике.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Музыкальность является важнейшим компонентом литературного
творчества. Выступая в синтезе с литературой, музыка является ярким
катализатором в передаче чувственной стороны изображаемого,
осуществляет смещение акцента с логического на эмоциональное, ослабляя
первое и усиливая второе, подчеркивает в изображаемом вечное, вносит в
него гармонию; взаимодействие музыки с художественной литературой
8
осуществляется тремя способами: применением музыкальных средств и приемов при оформлении звуковой стороны произведения, использованием музыкальных образов и деталей в художественном тексте, построением произведения или его фрагмента по модели музыкального жанра. Все эти музыкальные приемы находят отражение в русской литературе.
2. Музыкальные мотивы в прозе В.В. Набокова реализуются всеми указанными выше способами (музыкальным принципом письма, использованием музыкальных образов и деталей, построением произведений или их фрагментов по модели музыкального жанра); музыка в прозе писателя выполняет разнообразные функции: способствует расширению и углублению основной темы, является важным характерологическим средством, участвует в образовании сюжета и в организации композиции, выступает в роли вторичного тропа, представляя собой своеобразную метафору совершенства и выражая авторскую модальность, служит реализации когезии и когерентности текста, иллюстрации прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, усилению эмоционального фона повествования. Музыкальные мотивы в прозе В.В. Набокова перекликаются с музыкальными мотивами в творчестве Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, но обогащаются новыми смыслами.
3. Своеобразна роль музыки в романе «Приглашение на казнь», в котором она выполняет диаметрально противоположные функции, участвуя в описании гротескного и лирического миров; при художественном описании гротескного мира автор использует музыкальные образы, детали, намеки, аллюзии, аллитерации, ассоциации, сравнения и др., реализуя поэтику абсурда, раскрывая бессмысленность и иррациональность существования омерзительных «неток», находящихся во власти лживых симулякров; при описании лирического мира автор ориентируется на музыкальный принцип письма, его герой посредством поэтического языка стремится эстетически преодолеть абсурдность «кукольного» мира.
4. Важной особенностью зрелых поэтических произведений В.В. Набокова является ориентация автора на синтез поэзии и прозы, порождающий вторичный троп, служащий выражению экспрессивности, что обнаруживается в ритмических переносах, паузах, цезурах, разговорной лексике, разговорной интонации, диалогичности точек зрения и др.; музыкальный характер зрелых поэтических произведений В.В. Набокова проявляется в смене типов рифмовки, в резких перепадах интонаций, семантических эллипсисах, отточенной инструментовке; поэтические произведения характеризуются внешней простотой поэтики, при этом все поэтические средства имеют не самодовлеющее значение, а направлены на адекватную передачу душевного состояния героя, органично ложатся на сюжет поэм, служат созданию своеобразных звуковых картин.
Апробация работы. Диссертационная работа обсуждена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» (сентябрь, 2016 г.).
Основные положения и результаты исследования были изложены на IV Всероссийской научно-практической конференции «Славянская письменность и культура как фактор единения народов России» (Владикавказ, май 2015 г.), Международной научной конференции «Набоковские чтения — 2015» (Санкт-Петербург, апрель 2015 г.), а также опубликовано три статьи в научных реферативных журналах из перечня ВАК. По материалам диссертации опубликовано 5 работ.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Философско-эстетические аспекты музыки
Приступая к изложению теоретических основ исследования, необходимо пояснить значение термина «мотив».
Термин «мотив» довольно многозначен и употребляется в различных гуманитарных науках — психологии, музыкознании, литературоведении и др. В литературоведение данный термин пришёл из музыкальной культуры, в которой имеет значение «мелодия», «напев». Этот смысл мотива не только сохранился, но и приобрел новые свойства в литературоведческой практике. Под мотивом в литературном художественном произведении понимается повторяющийся компонент, обладающий повышенной значимостью. Его основными свойствами являются вычленяемость из целого и многообразие вариаций в повторяемости, в художественном тексте он может быть манифестирован в различных формах — отдельном слове или словосочетании, повторяемых и варьируемых, может быть «спрятан» в подтексте и др. [Томашевский 1996: 71; Хализев 1999: 267; Чернец 2012: 207; Тюпа 2001: 65; Гаспаров 1999: 30-31; Силантьев 2004: 17-79]. Ведущий мотив служит созданию второго, тайного смысла произведения, подтекста. При этом один и тот же мотив может представлять различные символические значения.
Под музыкальным мотивом в данной работе понимается повторяющийся комплекс понятий, связанных с музыкой, находящих воплощение в музыкальных образах, причастных теме и композиции художественного произведения и воплощающих самые разнообразные функции -суггестивную, тематическую, структурообразующую и др. При этом следует особо подчеркнуть суггестивную функцию музыкального мотива, служащую созданию определенного настроения и ритма и проявляющуюся в ориентации автора художественного произведения на музыкальный принцип письма.
Музыкальный принцип письма проявляется в создании в художественном произведении звуковых картин посредством аллитераций, ассонансов, рифмы, ритма, повторов и др.
Благодаря частичному сходству с музыкой звуковая организация художественного текста способствует эффекту музыкальности, что прослушивается в ритмике, в фонике, в развернутой системе интонирования, благодаря чему возникает мелодия / мотив.
Музыкальный мотив связан родственными узами с музыкальным образом, который понимается как упоминание музыкальных произведений, музыкальных инструментов, музыковедческих терминов, имен композиторов и др., имеющих не самодовлеющее значение, а участвующих в раскрытии художественной концепции автора.
С точки зрения сюжетно-композиционных функций, мотив музыки может быть реализован в различных вариантах. Так, в произведениях В.В. Набокова наблюдаем реализацию следующих вариантов: музыка как душевное состояние героя и творческий процесс, музыка как аккомпанирующий сюжетный ход, музыка как стимул для реализаций размышления героя или повествователя.
С точки зрения соотнесенности с доминантой художественного мира В.В. Набокова, мотив музыки включается в принципиально противоположные эмоционально-оценочные контексты, в две главные контрастные модальные рамки: музыка как наивысшее проявление творческой способности («Бахман», «Защита Лужина»), музыка как вид пошлости и проявление абсурдного в жизни человека и общества («Приглашение на казнь»).
Музыка представляет собой важнейший продукт художественной деятельности человека, а также является специфическим средством познания окружающего мира. В известной мере она детерминируется определенными философскими идеями, однако и своими средствами способна выражать
философские концепции [Смирнов: http://www. Gov.ua./portal/socgum/mtelekt/ 2007-5 pdf].
В истории философии музыка трактовалась различными философами далеко не однозначно, не одинаково определялось ее место среди других искусств, по-разному трактовалось ее воздействие на человека и общество и др. Особый интерес у различных философов вызывало соотношение между музыкой и поэзией, художественной литературой.
Обратимся к философско-эстетическим аспектам музыки, чтобы в дальнейшем нашем исследовании опираться на глубокое понимание сущности музыки и ее эстетических функций в литературном творчестве.
Основательные суждения о музыкальном искусстве одним из первых высказал основоположник классической немецкий философии Иммануил Кант, определивший специфику музыки как вида искусства и сравнивший ее с поэзией: «Музыка, как основанная на правилах игра ощущений слуха, делает его необычайно живым и не только приводит его различным образом в волнение, но и всячески усиливает его, следовательно, представляет собой как бы язык одних лишь ощущений (без всяких понятий). Звуки музыки -суть тона и служат для слуха тем же, чем краски для зрения, они далеко вокруг в пространстве передают чувства всем, кто находится в этом пространстве и доставляют обществу наслаждение, которое не уменьшается от того, что участие в нем принимают многие» [Кант 1966: 389]. В приведенном высказывании И. Кант делает акцент на выразительных возможностях музыки, подчеркивая также и ее социальный аспект, выражающийся в объединении людей. Под музыкой великий философ понимал нематериальное благо, формирующее у слушателей определенное эмоциональное состояние.
Рассматривая музыку в контексте других видов искусства, И. Кант утверждал, что по вызываемому ею волнению души, по интенсивности эмоционального воздействия музыка занимает второе место после поэзии.
Но силу музыки философ видел в том, что она непроизвольно распространяется далее, чем нужно, воздействуя даже на тех, кто не в состоянии ее воспринимать. Посредством музыки автор выражает отношение к миру. Композиторы, исполнители и слушатели формируют музыкальные образы, вызывают определенные чувства, а сама музыка активизирует процесс творчества поэтов, философов. Однако И. Кант рассматривает музыку вне понятия о ее предмете, что вполне согласуется с его мыслью о неразрешимых противоречиях между чувственным и логическим. Музыка же, по его мнению, лишь «играет с ощущениями» [Кант 1966: 391]. Философ утверждал, что музыка уступает другим видам искусства в способности познания, но превосходит по степени приятности. Вызывает, однако, сомнение то, что музыка — это лишь «игра с ощущениями», поскольку такое утверждение подразумевает неспособность мелодии и гармонии передать содержание «господствующего аффекта» [Кант 1966: 391], а сама специфика музыки как вида искусства сводится лишь к форме, основанной на «игре ощущений». По Канту, получается, что цель музыки заключается в очаровывании слуха, и она не может претендовать на выражение страстей и чувств. С подобным пониманием сущности музыки Кантом согласуется мнение Д. Юма, ожидавшего от музыки прежде всего нежности, чувствительности и спокойствия [по наблюдению Маркуса 1968: 14]. За пределами внимания И. Канта оказался вопрос о художественной выразительности музыки и ее эмоциональном содержании. Однако в этом вопросе он был непоследователен, утверждая, что музыка уступает и изобразительному искусству на основании того, что второе идет «от определенных идей к ощущениям», а музыка, наоборот, идет «от ощущений к неопределенным идеям», а ее воздействие имеет только «переходный» характер [Кант 1966: 393].
Эти формалистические трактовки музыки И. Кантом были подвергнуты жесткой критике со стороны немецкого просветителя Й.Г. Гердера, упрекавшего Иммануила Канта за формализм его эстетики. «Форма без
14
содержания, — отмечал Й.Г. Гердер, — это пустой горшок» [Herder 1955: 158]. Он противопоставил кантовскому музыкальному формализму осознание музыки как «искусства человечества», связанного с песней, танцем, жестами. Вместе с тем Й.Г. Гердер считал, что музыка может существовать и самостоятельно: «Музыка должна обладать свободой сама говорить. Без слов, лишь сама по себе, музыка сформировалась как искусство своего рода» [Herder 1955: 150].
Й.Г. Гердер одним из первых заговорил о синтезе поэзии и музыки, т.е., объявив музыку самостоятельным искусством, существующим независимо от слова, от связи с иными видами искусства, он заявил об обратном процессе, процессе поиска форм ее синтеза с другими видами искусств.
Фихте и Шеллинг также говорили, с одной стороны, об эмансипации музыки, а с другой, — о синтезе, о «омузыкалении» искусств, однако все это было представлено в виде эстетического и философского формализма, что резко противоречило взглядам Ж.-Ж. Руссо, требовавшего от музыки выражения всего мира предметов и страстей [Маркус 1968: 29].
Значительный вклад в понимание специфики музыки внес А.В. Шлегель, уделивший первостепенное внимание гармонии. Он отмечал, что гармония служит «изображению более внутреннего созерцания жизни и делает его слышимым» [Маркус 1968: 30]. Это утверждение А.В. Шлегеля в аспекте настоящего исследования особенно важно, поскольку проливает свет на причины синтеза музыки и художественной литературы.
Качественный скачок в трактовке специфики музыкального искусства представляет концепция Г. Гегеля.
Г. Гегель, в отличие от своих предшественников, первым указал на то,
что музыка располагает диалектическими средствами для выражения
глубокого содержания, он также отметил, что музыка художественно
выражает «как внутреннее значение, так и субъективное чувство с
глубочайшим содержанием» [Hegel 1955: 840]. Г. Гегель представил
развернутый анализ диалектики единства противоположностей в гармонии,
15
различал в музыке объективную и субъективную стороны, при этом, как и Шлегель, он сосредоточил свое внимание именно на гармонии, мало уделяя внимания мелодии. Между тем Ж.-Ж.Руссо утверждал, что именно мелодия делает музыку искусством, «подражая модуляциям голоса, выражает жалобы, крики страдания или радости, угрозы, стоны» [Руссо 1961: 256]. В гармонии же он видел «произвол», приводящий музыку к «вырождению»: «Если мы хоть тысячу лет будем высчитывать соотношения звуков и законы гармонии, неужто мы сумеем обратить музыку в искусство подражания природе?» [Руссо 1961: 256].
Вряд ли можно согласиться со столь безапелляционным суждением. Гармония является важнейшим средством музыкальной выразительности, она способна передавать тончайшие оттенки чувств, на что справедливо указывал Р. Шуман [Шуман 1956: 226, 267, 272, 274]. Вместе с тем, если следовать диалектике и учитывать действие противоположностей, то надо признать и необходимость противостояния консонирующему созвучию диссонанса, на что справедливо указывал писатель, живописец и музыкант А.К. Дис [Маркус 1968: 36]. Явление диссонанса находит отражение не только в музыке, но и в поэзии.
Существенно также то, что, анализируя симфонии Моцарта, Г. Гегель отметил, что в них «смена отдельных инструментов часто звучит наподобие драматического концертрирования, как своего рода диалог» [Hegel 1955: 895896]. Как будет показано во второй главе настоящего исследования, это свойство музыки В.В. Набоков использовал в своем романе «Защита Лужина».
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Афанасьев, Олег Игоревич, 2017 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аверин, Б.В. Гений тотального воспоминания. О прозе Набокова / Б.В. Аверин // Звезда. — 1999. — № 4. — С.39-46.
2. Адамович, Г. Жизнь и «жизнь» / Г. Адамович // Последние новости. -1935. — 4 апреля. / Цит. по: Набоков, В. Стихи / В. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — С.313.
3. Адамович, Г. О литературе и эмиграции / Г. Адамович // Современные записки. — 1932. — Кн.50. — С.333. / Цит. по: Набоков, В. Стихи /
B. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — С.313.
4. Адамович, Г. Одиночество и свобода / Г. Адамович. — Нью-Йорк, 1955. —
C.223. / Цит. по: Сконечная, О. Примечания / О. Сконечная // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — Т.1У. — С.604.
5. Адамович, Г. Современные записки. Кн. 69. Часть литературная / Г. Адамович // Последние новости. — 1939. — 17 августа. / Цит. по: Набоков, В. Стихи / В. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — С.359.
6. Александров, В. Набоков и «серебряный век» русской культуры / В. Александров // Звезда. — СПб., 1996. — № 11. — С.215-230.
7. Альми, И.Л. Черты музыкальности в структуре пьесы «Вишневый сад» / И.Л. Альми // Статьи о поэзии и прозе. Кн. II. — Владимир: Изд-во Владимирского гос. пед. ун-та, 1999. — С.38-44.
8. Анастасьев, Н.А. Феномен Владимира Набокова / Н.А. Анастасьев // Иностранная литература. — 1987. — № 5. — С.210-223.
9. Антошина, Е.В. «Чужое слово» в прозе В.В. Набокова 20-40-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Антошина Елена Васильевна. — Томск, 2002. — 26 с.
10. Антошина, Е.В. Пространство и время смерти в поэтике абсурда (поэма А.И. Введенского «Кругом возможно бог» и роман В.В. Набокова «Приглашение на казнь» / Е.В. Антошина // Филологические науки. -2006. — № 3. — С.14-20.
11. Аркадьев, М. Трансцендентальная феноменология в музыке: А. Вебер и Э. Гуссерль. [электронный ресурс] / М. Аркадьев. — Режим доступа: www.gumer.info.
12. Асафьев, Б.В. Избранные труды. Т. 1-У / Б.В. Асафьев. — М.: Искусство, 1952-1957.
13. Асафьев, Б.В. Критические статьи, очерки, рецензии / Б.В. Асафьев. -М.: Искусство, 1967. — 380 с.
14. Астащенко, О.А. Принципы художественной организации текста И.А. Бунина (Поэзия и проза эмигрантского периода): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Астащенко Оксана Александровна. — М., 2003. — 26 с.
15. Барабтарло, Г. Очерки художественной техники и метафизики Набокова / Г. Барабтарло. — Нью-Йорк-Берн: Петер Ланг, 1993. — 342 с.
16. Барабтарло, Г. Призрак из первого акта / Г. Барабтарло // Звезда. — 1996. — № 11. — С.140-145.
17. Барабтарло, Г. Сверкающий обруч. О движущей силе у Набокова / Г. Барабтарло. — СПб.: Гиперион, 2003. — 324 с.
18. Барабтарло, Г. Сочинение Набокова / Г. Барабтарло. — Берн: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 378 с.
19. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. — М.: Иностранная литература, 1989. — С.88.
20. Бахтин, М.М. Автор и герой в эстетической деятельности / М.М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. — С.26, 48.
21. Бахтин, М.М. Слово в романе / М.М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. — М.: Искусство, 1975. — С.86, 110-111.
22. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии / Н.Я. Берковский. — Л.: Искусство, 1973. — С.55.
23. Берлиоз, Г. Избранные статьи / Г. Берлиоз. — М.: Иностранная литература, 1956. — С.59, 60, 64, 82-84.
24. Бицилли, П.М. В. Сирин / П.М. Бицилли // Русская речь. — 1994. — № 2. -С.41-44.
25. Бицилли, П.М. В. Сирин «Приглашение на казнь» / П.М. Бицилли // Набоков В.В. Pro et contra. — СПб.: РХГИ, 1997. — С.251-254.
26. Блок, А. О назначении поэта. [электронный ресурс] / А. Блок. — Режим доступа: http: //www.stihi.ru/2008/09/14/2308.
27. Бойд, Б. Владимир Набоков. Русские годы / Б. Бойд. — СПб.: Симпозиум, 2010. — 696 с.
28. Бойд, Б. Метафизика Набокова: Ретроспективы и перспективы / Б. Бойд // Набоковский вестник. — СПб.: Симпозиум, 2001. Вып.1У. — С.146-155.
29. Бугаева, Л.Д. «Творимая легенда» В. Набокова / Л.Д. Бугаева // Набоковский вестник. — СПб. — Симпозиум, 2001. Вып.6. — С.32-42.
30. Варшавский, В. Незамеченное поколение / В. Варшавский. — Нью-Йорк, 1956. — С.216-218. / Цит. по: Сконечная, О. Примечания / О. Сконечная // Набоков В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — T.IV. — С.605.
31. Васильев, В. Вечер В.В. Сирина / В. Васильев // Новое русское слово. -1940. — 15 октября. / Цит. по: Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — T.I. — С.11.
32. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. — М.: Наука, 1989. — С.272, 278.
33. Возрождение. — 11 июля. — 1935. / Цит. по: Сконечная, О. Примечания / О. Сконечная // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — T.IV. — С.603.
34. Воронин, С.В. Фоносемантика / С.В. Воронин // Основы фоносемантики. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. — 264 с.
35. Воронина, О.Ю. «Акмеистическая ясность» романа В. Набокова «Защита Лужина» / О.Ю. Воронина. — СПб.: Симпозиум, 2001. — С.156-166.
36. Вострикова, А.В. Взаимодействие искусств в творческом осмыслении В.В. Набокова: Русскоязычная проза крупных жанров: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Вострикова Анна Владимировна. — М., 2007. -214 с.
37. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного / Г.Г. Гадамер. Пер. с нем. А.Я. Яриной. — М.: Искусство, 1991. — 367 с.
38. Галинская, И.Л. Поэзия и проза В.В. Набокова / И.Л. Галинская // Культурология: Дайджест. — М., 2001. — № 2 (17). — С.56-59.
39. Гаспаров, Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX в. / Б.М. Гаспаров. — М.: Наука, 1994. — С.30-31.
40. Гаспаров, М.Л. Поэзия и проза — поэтика и риторика / М.Л. Гаспаров // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. — М.: Наука, 1994. — С.136-149.
41. Гегель об искусстве. [электронный ресурс]. — Режим доступа: rushist com/index.php/philosophical-articles/2642.
42. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике: в 2 т. / Г.В.Ф. Гегель. — СПб.: Златоуст, 1999. — Т.2. — С.303.
43. Гейнзе, В. Ардингелло и блаженные острова / В. Гейнзе. — М.-Л.: Academia, 1935. — 600 с.
44. Гиршман, М.М. Проза художественная / М.М. Гиршман // Введение в литературоведение. — М.: Высшая школа, 1999. — С.308, 310.
45. Глушак, Т.С., Мирский, А.А. Интертекст и интертекстуальность / Т.С. Глушак, А.А. Мирский // Дискурсивный континуум: текст -интертекст — гипертекст: Материалы Всероссийской научной конференции. — Самара, 2007. — С.38-45.
46. Гордеева, Т.Ю. Музыка в истории культуры / Т.Ю. Гордеева. -Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994. — 384 с.
47. Гордеева, Т.Ю. Музыкальный звук как феномен культуры: автореф. дис. … канд. философ. наук: 24.00.01 / Гордеева Татьяна Юрьевна. — Казань:
Изд-во Казанского гос. ун-та культуры и искусств, 2003. — 26 с.
200
48. Горшков, А.И. Теория и история русского литературного языка /
A.И. Горшков. — М.: Высшая школа, 1984. — 319 с.
49. Гулевич, Е.В. Музыкальность как фактор психологизма прозы И.С. Тургенева / Е.В. Гулевич // Уч. зап. Гродненского ун-та им. Я. Купалы. — 2001. — С.168-171.
50. Гурболикова, О.А. Тайны Владимира Набокова. Процесс осмысления. Библиографические очерки / О.А. Гурболикова. — М.: ИНФРА, 1995. -386 с.
51. Давыдов, С. «Гносеологическая гнусность» Владимира Набокова: Метафизика и поэтика в романе «Приглашение на казнь» / С. Давыдов // Набоков В.В. Pro et contra. — СПб.: РХГИ, 1997. — С.479-490.
52. Дарк, О. Загадки Сирина: Ранний Набоков в критике «первой волны» русской эмиграции / О. Дарк // Вопросы литературы. — 1990. — № 3. -С.243-257.
53. Джагинов, М.Д. Набоков. Сын за отца / М.Д. Джагинов // Окна. — 1999. -22 апреля.
54. Долинин, А. Истинная жизнь писателя Сирина / А. Долинин // Набоков,
B. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — T.IV. — С.9-43.
55. Долинин, А. Истинная жизнь писателя Сирина / А. Долинин // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — T.I. — С.9-25.
56. Долинин, А. Истинная жизнь писателя Сирина: от «Соглядатая» — к «Отчаянию» / А. Долинин // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2001. — Т.Ш. — С.9-41.
57. Долинин, А., Сконечная, О. Отчаяние. Примечания / А. Долинин, О. Сконечная // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2001. — T.IV. — С.755-778.
58. Душина, Л.Н. Русская поэзия и проза Х1Х-ХХ вв.: Ритмическая
организация текста / Л.Н. Душина. — Саратов, 2002. — 27 с.
201
59. Ерофеева, В.В. Русская проза Набокова / В.В. Ерофеева. — М.: Правда, 1990. — 340 с.
60. Женнетт, Ж. Поэтический язык, поэтика языка / Ж. Женнет // Фигуры: В 2-х т. — М.: Гардарики, 1998. — Т.1. — С.338-362.
61. Жирмунский, В.М. О ритмической прозе / В.М. Жирмунский // Русская литература. — 1966. — № 4. — С.102-115.
62. Жирмунский, В.М. Теория стиха / В.М. Жирмунский. — Л.: Наука, 1975.
— 380 с.
63. Журавлев, А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. — М.: Просвещение, 1991.
— 160 с.
64. Журавлев, А.П. Спектральные параметры букв и звуков. [электронный ресурс] / А.П. Журавлев. — Режим доступа: www.gnosis.Info//?q=node/7693.
65. Зайцева, Ю.Ю. Мотив зеркала в художественной системе В. Набокова: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Зайцева Юлия Юрьевна. -Пермь, 2004. — 28 с.
66. Зверев, А. Набоков / А. Зверев. — М.: Молодая гвардия, 2004. — 464 с.
67. Злочевская, А.В. «Мистический реализм». [электронный ресурс] / А.В. Злочевская. — Режим доступа: tnu.podelise.ru/index-306416.html.
68. Злочевская, А.В. Россия — Набоков — Запад. [электронный ресурс] / А.В. Злочевская. — Режим доступа: digilib рЫ1 muni.cz.
69. Зотова, Е.И. Взаимодействие поэзии и прозы в творчестве Б.Л. Пастернака: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Зотова Екатерина Игоревна. — М., 1998. — 26 с.
70. Кант, И. Сочинения в 6-ти т. / И. Кант. — М.: Иностранная литература, 1966. — Т.У1. — С.389.
71. Карпович, И.Е. Сборник рассказов В.В. Набокова «Весна в Фиальте»: Поэтика целого и интертекстуальные связи: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Карпович Ирина Евгеньевна. — Барнаул, 2000. — 217 с.
72. Кедров, В. Защита Набокова / В. Кедров // Московский вестник. — 1990.
— № 2. — С.272-288.
73. Клименко, А.В. К вопросу о творческом методе Владимира Набокова /
A.В. Клименко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. -2008. — № 2. — С.55-57.
74. Кожинов, В.В. Художественная речь как форма искусства слова /
B.В. Кожинов // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие.
— М.: Наука, 1965. — С.298.
75. Конолли, Дж. Загадки рассказчика в «Приглашении на казнь» В. Набокова / Дж. Конолли // Русская литература ХХ века: Исследования американских ученых. — СПб.: Наука, 1993. — С.446-457.
76. Кристева, Ю. Бахтин: Слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Диалог. Карнавал. Хронотоп. — 1993. — № 3. — С.5-6.
77. Кузнецов, П. Утопия одиночества: Владимир Набоков и метафизика / П. Кузнецов // Новый мир. — 1992. — № 10. — С.43-250.
78. Кузнецова, И.С. Иммануил Кант и музыка [электронный ресурс] / И.С. Кузнецова. — Режим доступа: Kant-online, content.
79. Курт, Э. Основы линеарного контрапункта / Э. Курт. Пер. Э. Эвальд / Под ред. Б.В. Асафьева. — М., 1931. — С.39.
80. Кухаренко, В.А. Интерпретация текста / В.А. Кухаренко. — М.: Высшая школа, 1988. — С.106.
81. Кучина, Т.Г. Творчество В. Набокова в зарубежном литературоведении: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кучина Татьяна Геннадьевна. — М., 1996. — 27 с.
82. Лаврин, Я. Лев Толстой, сам свидетельствующий о себе / Я. Лаврин. Пер. с нем. — Челябинск: Урал 7ТД, 1999. — С.154.
83. Лайнер, И. Узор Каиссы в романе «Защита Лужина» / И. Лайнер // Набоковский вестник. — СПб.: Симпозиум, 2000. — Вып.У! — С.112-121.
84. Левинг, Ю. Примечания к рассказу В.В. Набокова «Музыка» / Ю. Левинг // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2001. — Т.Ш. — С.799-301.
85. Леденёв, А.В. Владимир Владимирович Набоков / А.В. Леденёв // История литературы русского зарубежья (1920-е-начало 1990-х гг.). -М.: Академический проект, 2011. — С.235-251.
86. Ливак, Л., Устинов, А. Литературный авангард русского Парижа. История. Хронология. Антология. Документы / Л. Ливак, А. Устинов. -М., 2014. — С.119.
87. Линецкий, В. За что же все-таки казнили Цинцинната Ц? / В. Линецкий // Октябрь. — 1993. — № 12. — С.175-179.
88. Линецкий, В. Набоков, или портрет автора в зеркале / В. Линецкий // Даугава. — 1993. — № 4. — С.141-147.
89. Липовецкий, М. «Беззвучный взрыв любви». Заметки о Набокове / М. Липовецкий // Урал. — 1992. — № 4. — С.155-176.
90. Ломоносов, М.В. Полн. собр. соч. в 7-ми т. / М.В. Ломоносов. — М.-Л.: изд-во АН СССР, 1952. — Т.7. — С.36.
91. Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики. [электронный ресурс] /
A.Ф. Лосев. 1926. — Режим доступа: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/losev-aleksej-fedorovich/forma—stilj— virazhenie/4
92. Лотман, Ю.М. «А та звезда над Пулковом.» / Ю.М. Лотман // Набоков
B.В. Pro et contra: Материалы и исследования о жизни и творчестве В.В. Набокова: Антология. — СПб.: РХГИ, 2001. — T.II. — С.40.
93. Лотман, Ю.М. Анализ поэтического текста: Структура стиха / Ю.М. Лотман. — М.: Наука, 1972. — 271 с.
94. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман // Об искусстве. — СПб.: Академия, 1998. — С. 14-285.
95. Лурье, В.В. Сирин. Горний путь / В.В. Лурье // Новая русская книга. -1923. — № 1. — С.23. / Цит. по: Маликова, М.Э. Ничья меж смыслом и
204
смычком / М.Э. Маликова // Набоков, В. Стихи / В. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — С.303.
96. Люксембург, А.М. Амбивалентность как свойство набоковской игровой поэтики / А.М. Люксембург // Набоковский вестник. — СПб.: Симпозиум, 1998. Вып. I. — С.16-25.
97. Люксембург, А.М. Лабиринт как свойство набоковской игровой поэтики / А.М. Люксембург // Набоковский вестник. — СПб.: Симпозиум, 1999. Вып. IV. — С.19-31.
98. Маликова, М.Э. «Ничья меж смыслом и смычком» / М.Э. Маликова // Владимир Набоков. Стихотворения. — СПб.: Азбука, 2015. — С.296-331.
99. Маликова, М.Э. Комментарии к стихотворениям В.В. Набокова / М.Э. Маликова // Набоков, В.В. Стихи / В.В. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — С.332-376.
100. Маликова, М.Э. Примечания / М.Э. Маликова // Набоков, В.В. Стихотворения / В.В. Набоков. — СПб.: Академический проспект, 2002. -С.304-324.
101. Марушкина, Т.Ю. Художественный образ музыки в произведениях современных англоязычных писателей (опыт интерпретации) [электронный ресурс] / Т.Ю. Марушкина. — Режим доступа: http://afliteonf.bsu.ru/?p=124.
102. Маркус, С. История музыкальной эстетики / С. Маркус. — М.: Музыка, 1968. — Т.П. — 688 с.
103. Махов, А. «Музыка» слова: из истории одной фикции / А. Махов // Вопросы литературы. — 2005. — № 5. — С.101-123.
104. Маяцкий, М. Гуссерль, феноменология и абстрактное искусство. [электронный ресурс] / М. Маяцкий. — Режим доступа: http://www.academia. Edu.11949030.
105. Медарич, М. Владимир Набоков и роман ХХ столетия / М. Медарич // Набоков В.В. Pro et contra. — СПб.: РХГИ, 1997. — С.452-461.
106. Мельников, Н.Г. Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова / Н.Г. Мельников / под общ. ред. Н.Г. Мельникова. — М.: Гардарики, 2000. — С.60.
107. Михайлов, А.В. Роман и стиль / А.В. Михайлов // Михайлов, А.В. Языки культуры / А.В. Михайлов. — М.: Академия, 1997. — С.434-443.
108. Михайлова, Ю.Л. Творчество В. Набокова «русского» периода в англоязычном литературоведении конца 1990-х — 2000-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Михайлова Юлия Люсиевна. -Воронеж, 2009. — 21 с.
109. Моисеева, М.В. Динамика взаимодействия поэзии и прозы в творческой эволюции М.Ю. Лермонтова: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Моисеева Марина Васильевна. — Ульяновск, 1999. — 25 с.
110. Николина, Н.А. Филологический анализ текста / Н.А. Николина. — М.: Академия, 2003. — 256 с.
111. Ницше Ф. [электронный ресурс] / Ф. Ницше. — Режим доступа: www.nietzsche.ru.
112. Ницше, Ф. Антихрист. Казус Вагнера. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / Ф. Ницше. Пер. с нем. — М.: АСТ: Астрель, 2011. — 318 с.
113. Ницше, Ф. Крылатые выражения. [электронный ресурс] / Ф. Ницше. -Режим доступа: http://www.otresa1.ru/great-ideas/section/1361,htm1.
114. Носик, Б. Мир и дар Владимира Набокова / Б. Носик. — М.: Пенаты, 1995. — 321 с.
115. Носина, В.Б. Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. — М.: Классика XXI, 2004. — С.156.
116. Орлицкий, Ю.Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности / Ю.Б. Орлицкий. — М.: Академия, 2008. — С.11.
117. Орлицкий, Ю.Б. Стих и проза в русской литературе: Очерки истории и теории / Ю.Б. Орлицкий. — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1991. — С.3.
118. От структурализма к постструктурализму: Французская семиотика / Пер. с фр., составление и вступит. ст. Г.К. Косикова. — М.: Иностранная литература, 2000. — С.37.
119. Письмо В. Набокова Р. Гринбергу от 6 ноября 1953 года. / Цит. по: Набоков, В. Стихи / В. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — С.324.
120. Письмо В.В. Набокова С.Ю. Прегель от 2 апреля 1943 г. Из архива С.Ю. Прегель / Публ. Ю. Гаухман // Евреи в культуре русского зарубежья. — Иерусалим. — 1995. — Т.1У. — С.281. / Цит. по: Набоков, В. Стихи / В. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — С.325.
121. Погребная, Я.В. Эволюция религиозных идей и образов в творчестве Владимира Набокова / Я.В. Погребная // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2015. — № 9 (51): в 2-х ч. — Ч. II. — С. 167-171.
122. Поплавская, И.А. Типы взаимодействия поэзии и прозы в русской литературе первой трети XIX века / И.А. Поплавская. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 2010. — 378 с.
123. Попова, Е.В. Ценностный подход в исследовании литературного творчества: дис. … докт. филол. наук: 10.01.08 / Попова Елена Васильевна. — М., 2004. — 326 с.
124. Русские записки. — 1939. — № 13. — С.199. / Цит. по: Сконечная, О. Приглашение на казнь. Примечания // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — Т.1У. — С.603.
125. Руссо, Ж.-Ж. Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании / Ж.-Ж. Руссо // Руссо, Ж.-Ж. Избранные сочинения / Ж.-Ж. Руссо. — М.: Иностранная литература, 1961. — С.256.
126. Силантьев, И.В. Поэтика мотива / И.В. Силантьев. — М.: ИНФРА, 2004. -С.17, 79.
127. Сирин, В. «Беатриче» В.Л. Пиотровского / В. Сирин // Россия и славянство. — 1930. — 11 октября. / Цит. по: Набоков, В. Собр. соч.
русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2001. -Т. III. — С.684.
128. Сирин, В. Владислав Ходасевич. Собрание стихов / В. Сирин // Руль. -1927. — 14 декабря. / Цит. по: Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — Т.П. — С.650.
129. Сирин, В. Дмитрий Кобяков. «Горечь». «Керамика». Евгений Шах. «Семя на камне» / В. Сирин // Руль. — 1927. — 11 мая. / Цит. по: Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — T.II. — С.639.
130. Сирин, В. Иван Бунин. Избранные стихи / В. Сирин // Руль. — 1929. — 22 мая // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / Набоков В. -СПб.: Симпозиум, 2004. — Т.П. — С.674.
131. Сирин, В. Литературный смотр. Свободный сборник. — Париж, 1939 / В. Сирин // Современные записки. — 1940. — Кн.80 // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. -T.V. — С.593.
132. Сконечная, О. Защита Лужина. Примечания / О. Сконечная // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — T.IV. — С.705-717.
133. Сконечная, О. Приглашение на казнь. Примечания / О. Сконечная // Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. — T.IV. — С.603-634.
134. Сконечная, О. Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков / О. Сконечная. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 256 с.
135. Смирнов, И.П. Смысл как таковой / И.П. Смирнов. — СПб.: Наука, 2001. — С.266.
136. Смирнов, Н.В. Философия и музыка: Бетховен и Гегель. [электронный ресурс] / Н.В. Смирнов. — Режим доступа: http://www.
Gov.ua./portal/socgum/intelekt/2007-5 pdf.
208
137. Смирнова, Т. Роман В. Набокова «Приглашение на казнь» / Т. Смирнова.
— М.: Инфра, 1996. — 358 с.
138. Струве, Г.П. Русская литература в изгнании: опыт исторического обзора зарубежной литературы / Г.П. Струве. — Нью-Йорк: Изд-во им. А.П. Чехова, 1956. — С.120, 130.
139. Струве, Г. Журналы русского зарубежья: «Новая русская книга» / Г. Струве // Русская литература. — 1990. — № 1. — С.108-131.
140. Струве, Г. Русская литература в изгнании / Г. Струве. — М.: Академия, 1996. — 365 с.
141. Сухих, С.И. Методология литературоведения: комплексный и системный методы анализа литературы / С.И. Сухих // Вестник Национального Нижегородского государственного ун-та им. Н.И. Лобачевского. — 2012. — № 6. — С.298-303.
142. Тамарченко, Н.Д. Теоретическая поэтика / Н.Д. Тамарченко. — М.: Высшая школа, 2006. — С.185.
143. Тамарченко, Н.Д. Теория литературных жанров / Н.Д. Тамарченко. — М.: Академия, 2011. — 286 с.
144. Тема любви в рассказе В. Набокова «Музыка». [электронный ресурс]. -Режим доступа: http.www.litra.ru.
145. Теория литературы: в 2-т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. — М.: Высшая школа, 2004. — Т.1. — 513 с.
146. Томашевский, Б.В. Поэтика: краткий курс / Б.В. Томашевский. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 334 с.
147. Томашевский, Б.В. Стих и язык / Б.В. Томашевский. — М.-Л.: Наука, 1959. — С.10.
148. Тошан, И. Зримая музыка в литературе / И. Тошан. — М.: АПК и ППРО, 2010. — 88 с.
149. Тынянов, Ю.Н. Литературный факт / Ю.Н. Тынянов // Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю.Н. Тынянов. — М.: Наука, 1977.
— С.261.
150. Тынянов, Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов // Тынянов, Ю.Н. Литературный факт / Ю.Н. Тынянов. — М.: Наука, 1993. -С.74.
151. Тюпа, В.И. Аналитика художественного (Введение в литературоведческий анализ) / В.И. Тюпа. — М.: Лабиринт, РГГУ, 2001. -192 с.
152. Успенский, Б.А. Поэтика композиции / Б.А. Успенский // Успенский, Б.А. Семиотика искусства. — М.: Академия, 1995. — С.9-218.
153. Ухова, Е.Ю. Проблема художественной реальности в теоретико-литературном наследии В. Набокова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.08 / Ухова Елена Юрьевна. — М., 2004. — 160 с.
154. Филимонов, А.О. Ангелы в поэзии В. Набокова / А.О. Филимонов // Набоковский вестник. — СПб: Симпозиум, 2001. — Вып. VI. — С.204-208.
155. Хализев, В.Е. Теория литературы / В.Е. Хализев. — М.: Высшая школа, 1999. — С.267.
156. Ходасевич, В. Жалость и «жалость» / В. Ходасевич // Возрождение. -1935. — 11 апреля. / Цит. по: Маликова, М.Э. «Ничья меж смыслом и смычком» // Владимир Набоков. Стихотворения. — СПб.: Азбука, 2015. -С.302.
157. Чайковский, П.И. [электронный ресурс] / П.И. Чайковский. — Режим доступа: http://www.tschaikov.ru/ 1878-097.html.
158. Чернец, Л.В. Введение в литературоведение: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др. / Под ред. Л.В. Чернец. 5-е изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 720 с.
159. Шапир, М.И. «Versus vs «prosa»: пространство-время поэтического текста / М.И. Шапир // Philologia. — 1995 — № 3-4. — С.19.
160. Шаховская, З.А. В поисках Набокова. Отражения / З.А. Шаховская. — М.: Книга, 1991. — 319 с.
161. Швагрукова, Е.В. Эффект «обманутого ожидания» в «детских рассказах» В.В. Набокова / Е.В. Швагрукова // Молодой ученый. — Т. I. -2010. — № 12 (23). — С. 207-210.
162. Шиньев, Е.П. Интермедиальность как механизм межкультурной диффузии в литературе (на примере романов В.В. Набокова «Король, дама, валет» и «Камера обскура») / Е.П. Шиньев // Вопросы культурологии. — 2010. — № 5. — С.82-86.
163. Шиньев, Е.П. Межкультурная диффузия как фактор творчества (на материале произведений В.В. Набокова) / Е.П. Шиньев // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. — 2010. — № 4. -С.121-126.
164. Шиньев, Е.П. Проблема литературной игры в романах «Защита Лужина» и «Король, дама, валет» В. Набокова / Е.П. Шиньев // Мир культуры и феномены: межвузовский сборник научных статей. — Пенза: Изд-во Пензенского ун-та, 2007. — Вып.У! — С.67-73.
165. Шиньев, Е.П. Феномен межкультурной диффузии в романе
B.В. Набокова «Приглашение на казнь» / Е.П. Шиньев // Известия Пензенского гос. пед. ун-та им. В.Г. Белинского. — 2005. — Вып.13. —
C.75-77.
166. Шмид, В. Проза как поэзия / В. Шмид. — СПб.: Наука, 1998. — 362 с.
167. Шмид, В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина» / В. Шмид. — СПб.: Наука, 1996. — 290 с.
168. Шопенгауэр, А. Полн. собр. соч. / А. Шопенгауэр. — М.: Терра, 1999. -Т.1. — С.136-137, 113, 152, 200-273; 2001. — Т.Ш. — С.77.
169. Шуман, Р. Избранные статьи о музыке / Ф. Шуман. — М.: Музыка, 1956. — С.226, 267, 272, 274.
170. Эйхенбаум, Б.М. Мелодика русского лирического стиха / Б.М. Эйхенбаум // Эйхенбаум, Б.М. О поэзии / Б.М. Эйхенбаум. — М.: Наука, 1969. — 480 с.
171. Эйхенбаум, Б.М. Поэзия и проза / Б.М. Эйхенбаум // Труды по знаковым системам. — Тарту, 1971. — Вып.У. — С.477-478.
172. Эйхендорф, И. [электронный ресурс] / И. Эйхендорф. — Режим доступа: http://lib.ru/INPROZ/EJHENDORF/taugenichts_rus.txt.
173. Якобсон, Р.О. Заметки о прозе поэта Пастернака / Р.О. Якобсон // Якобсон, Р.О. Работы по поэтике / Р.О. Якобсон. — М.: Наука, 1987. -443 с.
174. Barabtarlo, G. «Aeriel View»: Essays ou Nabokovs Art and Metaphysics /
G. Barabtarlo. — N.Y., 1983. — P.192-193. / Цит. по: Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2004. -T.IV. — С.623.
175. Hegel, G. Ästhetik / G. Hegel. — Berlin, 1955. — S.840, 895-896.
176. Herder, J.G. Kalligone / J.G. Herder. — Weimar, 1955. — Teil.2. — S.150, 158.
Лексикографические источники
177. Белокурова, С.П. Словарь литературоведческих терминов / С.П. Белокурова. — СПб.: Паритет, 2007. — 320 с.
178. Ильин, И.П. Постмодернизм: словарь терминов / И.П. Ильин. — М.: Гардарики, 2001. — 360 с.
179. Магомедова, Д.М. Литературоведческие термины / Д.М. Магомедова. -Коломна: КПИ, 1999. — С.48-50.
180. Молчанов, В. Феноменология / В. Молчанов // Современная западная философия: Словарь. — М., 1991. — 260 с.
181. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. — М.: Мир и Образование, 2013. — 736 с.
182. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий / Под ред.
H.Д. Тамарченко. — М.: Изд-во Кулагиной, 2008. — 358 с.
183. Словарь иностранных слов. — М.: Русский язык, 1988. — 608 с.
Источники материала
184. Анненский, И. Стихотворения и трагедии / И. Анненский. — Л.:
Советский писатель, 1990. — С.61.
212
185. Апухтин, А. [электронный ресурс] / А. Апухтин. — Режим доступа: http://rupoem.ru/apuxtin/k-otezdu-muzykantadruga.aspx.
186. Бальмонт, К. Поэзия как волшебство / К. Бальмонт // Бальмонт, К. Стозвучные песни: Сочинения (избранные стихи и проза) / К. Бальмонт. — Ярославль: Верхневолжское изд-во, 1990. — С. 1-12.
187. Блок, А. В углу дивана. [электронный ресурс] / А. Блок. — Режим доступа: http://rupoem.ru/blok/no-v-kamine.aspx.
188. Блок, А. Друзьям. [электронный ресурс] / А. Блок. — Режим доступа: http: //rupoem.ru/blok/all .aspx.
189. Блок, А. Собр. соч. в 8-ми т. / А. Блок. — М.-Л.: ГИХЛ, 1962. — Т.6. — С.5-20.
190. Брюсов, В. [электронный ресурс] / В. Брюсов. — Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/833/muzykalnost-poezii-i-prozy.
191. Винокуров, Е. «Музыка». [электронный ресурс] / Е. Винокуров. — Режим доступа: http://www.stihi.ru/2011/05/22/3546.
192. Вознесенский, А.А. Стихотворения / А.А. Вознесенский. — М.: Эксмо, 2007. — 480 с. (Всемирная библиотека поэзии).
193. Горький, М. Детство / М. Горький. — М.: Эксмо, 2009. — 135 с.
194. Есенин, С. Русь советская. [электронный ресурс] / С. Есенин. — Режим доступа: http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/text_0240.shtml.
195. Куприн, А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн // А.И. Куприн. Повести и рассказы. — М.: Дрофа, 2003. — Т.1. — 416 с.
196. Лермонтов, М. Герой нашего времени / М. Лермонтов. — М.: Азбука-Аттикус, Азбука, 2011. — 224 с.
197. Лермонтов, М.Ю. [электронный ресурс] / М.Ю. Лермонтов. — Режим доступа: http: //rupoem.ru/lermontov/lyublyu-otchiznu-ya.aspx.
198. Лермонтов, М.Ю. Парус / М.Ю. Лермонтов // М.Ю. Лермонтов. Сочинения. Т.1. / М.Ю. Лермонтов. — М.: Правда, 1988. — 720 с.
199. Лермонтов, М.Ю. Сказка для детей / М.Ю. Лермонтов // М.Ю. Лермонтов. Сочинения. Т.1. / М.Ю. Лермонтов. — М.: Правда, 1988. — 720 с.
200. Мандельштам, О. Сочинения в 2-х т. / О. Мандельштам. — М.: Художественная литература, 1990. — Т.1. — С.48.
201. Набоков, В. Защита Лужина / В. Набоков. — СПб.: Азбука-Классика, 2007. — 286 с.
202. Набоков, В. Лекции по зарубежной литературе / В. Набоков. — СПб.: Азбука — Классика, 2010. — 510 с.
203. Набоков, В. Собр. соч. русского периода в 5-ти т. / В. Набоков. — СПб.: Симпозиум. — Т.1. — 2004. — 832 с.; Т.П. — 2004. — 784 с.; Т.Ш. — 2001. -848 с.; Т.1У. — 2004. — 782 с.; Т.У. — 2004. — 820 с.
204. Набоков, В. Стихи и комментарии. Заметки «для авторского вечера 7 мая 1949 года» / В. Набоков // Наше наследие. — 2000. — № 55. — С. 86. / Цит. по: Набоков, В.В. Стихи / В.В. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — С. 325.
205. Набоков, В.В. Стихи / В.В. Набоков. — СПб.: Азбука, 2015. — 384 с.
206. Некрасов, Н. Замолкни, Муза мести и печали!.. [электронный ресурс] / Н. Некрасов. — Режим доступа: http://rupoem.ru/nekrasov/zamo1kni-muza-mesti.aspx.
207. Новалис. Фрагменты / Новалис. — СПб.: Владимир Даль, 2014. — 319 с.
208. Пастернак, Б. Импровизация. [электронный ресурс] / Б. Пастернак. -Режим доступа: http://pasternak.ouc.ru/improvizaciya.html.
209. Рембо, А. Гласные. [электронный ресурс] / А. Рембо. — Режим доступа: http://www.stihi-XIX-XX-vekov.ru/rembo 10Ыш1.
210. Санд, Ж. Консуэло / Ж. Санд. — М.: Иностранная литература, 1957. — Т.1. — С.395-396.
211. Сельвинский, И. Избранные произведения / И. Сельвинский. — Л.: Советский писатель, 1972. — 364 с.
212. Стефан Мелларме. [электронный ресурс] / Мелларме, Стефан. — Режим доступа: istlit ru/txt/litzap 20/06.htm.
213. Толстой, Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. — М.: Художественная литература, 1982. — 510 с.
214. Толстой, Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой // Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 22-х т. / Л.Н. Толстой. — М.: Художественная литература, 1983. — Т.14. -С.7-15.
215. Трефолев, Л.Н. Собрание стихотворений (1864-1893) / Л.Н. Трефолев. -М.-Л.: ОГИЗ-ГИХЛ, 1931. — С.34.
216. Тургенев, И. Ася / И. Тургенев // И. Тургенев. Первая любовь. Повести / И. Тургенев. — М.: Эксмо, 2005. — С.200.
217. Фет, А. Лирика / А. Фет. — М.: Эксмо, 2009. — 384 с.
218. Хлебников, В. [электронный ресурс] / В. Хлебников. — Режим доступа: http://rupoem.ru/xlebnikov/o-rassmejtes-smexachi.aspx;
http: //rupoem.ru/xlebnikov/kogda-umirayut-koni .aspx.
219. Ходасевич, В.Ф. Собр. соч. в 4-х т. / В.Ф. Ходасевич. — М.: Академия, 1996. — 592 с.
220. Чернышевский, Н. Что делать / Н. Чернышевский. — М.: Художественная литература, 1985. — 400 с.
221. Чехов, А.П. Рассказы. В 2-х т. / А.П. Чехов. Т.П. — М.: Экран, 1994. — 608 с.
222. Чуковский, К. Сказки / К. Чуковский. — М.: Детская литература, 1984. -168 с.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.