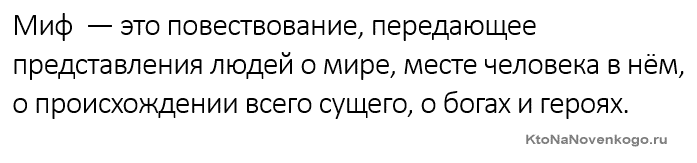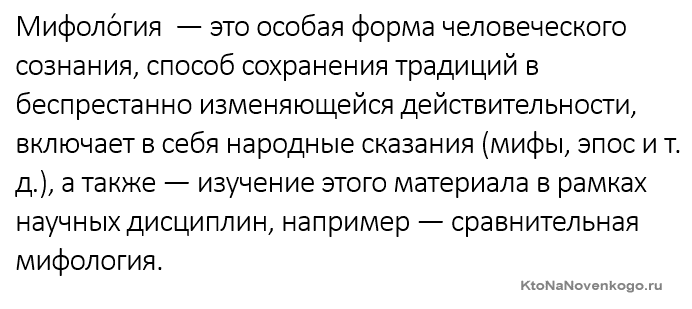Миф
– научная форма познания в мифо-поэтической
форме. Мифология – это не явление
прошлого, она проявляется в современной
культуре. Постоянное взаимодействие
Л. и м. протекает непосредственно, в
форме «переливания» мифа в литературу,
и опосредованно: через изобразительные
искусства, ритуалы, народные празднества,
религиозные мистерии, а в последние
века — через научные концепции мифологии,
эстетические и философские учения и
фольклористику. Научные концепции
фольклора оказывают большое влияние
на процессы взаимодействия Л. и М.
Мифы
характерны для античной, частично
древнерусской литературы.
Мифологические
тексты в
архаическом мире
сильно отличались от текстов, создаваемых
в сфере повседневного быта. Они отличались
высокой степенью ритуализации и
повествовали о коренном порядке мира,
законах его возникновения и существования.
Миф
– попытка древних людей ответить на
вопрос, как и почему произошло то или
иное явление природы или общественной
жизни. Созданные древними греками и
римлянами мифы о богах, а так же о героях
вошли как образцы худ творчества в
мировую литературу. Влияние
мифологического мировосприятия
сохраняется в период расцвета греческой
трагедии (Эсхил — «Прикованный Прометей»,
«Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»,
составляющие трилогию «Орестея», и
др.;
Софокл — «Антигона», «Эдип-царь»,
«Электра», «Эдип в Колоне» и др.; Еврипид
— «Ифигения в Авлиде», «Медея», «Ипполит»
и др.). Оно сказывается не только в
обращении к мифологическим сюжетам:
когда Эсхил создаёт трагедию на
исторический сюжет («Персы»), он
мифологизирует саму историю. Здесь
миф – форма познания мира.
Возрождение
создавало культуру под знаком секуляризации
и дехристианизации. Это привело к резкому
усилению нехристианских компонентов
мифологии. Эпоха Возрождения породила
две противоположные модели мира:
оптимистическую, которая строилась на
основе рационально упорядоченной
античной мифологии , и трагическую,
которая активизировала «низшую мистику»
народной демонологии. В эпоху ренессанса
бралась только внешняя форма античной
мифологии. То
есть традиционная мифология использовалась
в поэтических целях.
Литература
Просвещения реже пользуется мифологическими
мотивами и главным образом в связи с
актуальной политической или философской
проблематикой. Мифологические
сюжеты используются для построения
фабулы
(«Меропа», «Магомет», «Эдип» Вольтера,
«Мессиада» Ф. Клопштока) или формулирования
универсальных обобщений («Прометей»,
«Ганимед» и др. произведения И. В. Гёте,
«Торжество победителей», «Жалоба Цереры»
и др. баллады Ф. Шиллера).
Романтизм
(а
до него — предромантиэм) выдвинул лозунги
обращения от разума к мифологии. В
сентиментализме и романтизме отношение
к античности было скептическим. Романтики
обращались и к традиционным мифологиям,
но чрезвычайно свободно манипулировали
их сюжетами и образами, используя
их как материал для самостоятельного
художественного мифологизирования.
Нередко изменялось содержание понятий.
Так, Ф. Гёльдерлин, первым в поэзии нового
времени органично освоивший древний
миф и явившийся зачинателем нового
мифотворчества, включал, например, в
число олимпийских богов Землю, Гелиоса,
Аполлона, Диониса, а верховным богом у
него оказывается Эфир; в поэме
«Единственный» Христос — сын Зевса, брат
Геракла и Диониса; в «Смерти Эмпедокла»
Христос сближается с Дионисом, смерть
философа Эмпедокла трактована и как
циклическое обновление (смерть —
омоложение) умирающего и воскресающего
бога и одновременно как мучительная
крестная смерть побитого камнями
пророка.
Реалистическое
искусство
19 в. в целом ориентировалось на
демифологизацию культуры. Реалистическая
литература стремилась к отображению
действительности в адекватных ей
жизненных формах, на создание художественной
истории своего времени. Однако
мифологизировани все равно используется
как литературный прием, причем часто
на самом прозаическом материале. [линия,
идущая от Гофмана к фантастике Гоголя
(«Нос»), к натуралистической символике
Э. Золя («Нана»)]. В этой литературе нет
традиционных мифологических имён, но
уподобленные архаическим ходы фантазии
активно выявляют в заново созданной
образной структуре простейшие элементы
человеческого существования, придавая
целому глубину и перспективу. Такие
названия, как «Воскресение» Л. Н. Толстого
или «Земля» и «Жерминаль» Э. Золя, ведут
к мифологическим символам.
В
конце 19-начале 20 века элементы
мифологических структур мышления
проникают в философию (Ницше, Вл. Соловьёв,
позже — экзистенциалисты), психологию
(3. Фрейд, К. Юнг), в работы об искусстве
(ср. в особенности импрессионистскую и
символистскую критику — «искусство об
искусстве»). С другой стороны, искусство,
ориентированное на миф (символисты, в
нач. 20 в.- экспрессионисты), тяготеет к
философским и научным обобщениям,
зачастую открыто черпая их в научных
концепциях эпохи (ср. влияние учения
Юнга на Дж. Джойса и других представителей
«неомифологического» искусства с
20-30-х гг. 20 в.). Миф для Вяч. Иванова, Ф.
Сологуба и многих других русских
символистов нач. 20 в.- это та красота,
которая одна способна «мир спасти» (Ф.
М. Достоевский).
Модернистский
мифологизм во
многом порождён осознанием кризиса
буржуазной культуры как кризиса
цивилизации в целом. Резко усиливается
идущее от романтизма использование
мифологических образов и сюжетов.
Создаются многочисленные стилизации
и вариации на темы, задаваемые мифом,
обрядом или архаическим искусством.
Такие драмы русских символистов, как
«Прометей» Вяч. Иванова, «Меланиппа-философ»
или «Фамира-Кифарэд» Инн. Анненского,
«Протесилай умерший» В. Я. Брюсова и т.
д. Во-вторых (тоже в духе романтической
традиции), появляется установка на
создание «авторских мифов». Символисты
нарочито мифологизируют художественное
видение, в отличие от реалистов, которые
стремились к тому, чтобы создаваемая
ими картина была подобна действительности.
Объектом мифологизирования у символистов
оказываются коллизии современной
действительности — урбанизированный
мир («Города-спруты» Э. Верхарна,
поэтический мир Ш. Бодлера, Брюсова) или
царство вечно недвижной провинциальной
стагнации (« Недотыкомка » Ф. Сологуба).
В
20-30-е годы, появляются «романы-мифы» и
подобные им «драмы-мифы», «поэмы-мифы».
Здесь миф не является единственной
линией повествования. Он сталкивается,
сложно соотносится либо с другими мифами
(дающими иную, чем он, оценку изображения),
либо с темами истории и современности.
Таковы «романы-мифы> Джойса, Т. Манна,
«Петербург» А. Белого, произведения Дж.
Апдайка и др.
Крупнейшие представители
мифологического романа 20 в.- ирландский
писатель Джойс и немецкий писатель Т.
Манн дали характерные для современного
искусства образцы литературного
«мифологизирования», противостоящие
во многом друг другу по основной идейной
направленности. В романе Джойса «Улисс»
эпико-мифологический сюжет «Одиссеи»
оказывается средством упорядочения
первичного хаотического художественного
материала. Герои романа сопоставляются
с мифологическими персонажами гомеровского
эпоса, многочисленные символические
мотивы в романе являются модификациями
традиционных символов мифологии —
первобытной (вода как символ плодородия
и женского начала) и христианской (мытье
как крещение).Джойс прибегает и к
нетрадиционным символам и образам,
представляющим примеры оригинальной
мифологизации житейской прозы (кусок
мыла как талисман, иронически представляющий
современную «гигиеническую» цивилизацию,
трамвай, «преображённый» в дракона, и
т. д.).
В
русском символизме
мифотворчество было объявлено самой
целью поэтического творчества (Вяч.
Иванов, Ф. Сологуб и др.). К мифологическим
моделям и образам обращались подчас
очень широко и поэты других направлений
русской поэзии начала века. В 1904 году
вышел первый сборник Андрея Белого
«Золото в лазури», сюжетом которого
стало плавание аргонавтов на поиски
золотого руна. Это был сквозной мотив.
Кроме того, существовал кружок аргонавтов,
выстраивающий особый мир, руководимый
мифологией. Для символистов древняя
мифология стала способом ухода в
фантастический мир, а также характерным
художественным методом.
Своеобразной
формой поэтического мышления стала
мифология для В. Хлебникова. Он не только
пересоздаёт мифологические сюжеты
многих народов мира («Девий бог», «Гибель
Атлантиды», «Ка», «Дети Выдры», «Вила и
леший»), но и создаёт новые мифы, пользуясь
моделью мифа, воспроизводя его структуру
(«Журавль», «Внучка Малуши», «Маркиза
Дэзес»), О. Мандельштам с редкой чуткостью
к историко-культурной феноменологии
оперирует с первоэлементами античного
мифологического сознания («Возьми на
радость из моих ладоней…», «Сестры —
тяжесть и нежность…», «На каменных
отрогах Пиерии…»).
В
современной
(после 2-й мировой войны) литературе
мифологизирование выступает чаще всего
не столько как средство создания
глобальной «модели», сколько в качестве
приёма, позволяющего акцентировать
определённые ситуации и коллизии прямыми
или контрастными параллелями из мифологии
(чаще всего — античной или библейской).
В числе мифологических мотивов и
архетипов, используемых современными
авторами, — сюжет «Одиссеи» (в произведениях
А. Моравиа «Презрение», Г. К. Кирше
«Сообщение для Телемака», X. Э. Носсака
«Некия», Г. Хартлауба «Не каждый Одиссей»),
«Илиады» (у К. Бойхлера — «Пребывание на
Борнхольме», Г. Брауна — «Звёзды следуют
своим курсом»), «Энеиды» (в «Смерти
Вергилия» Г. Броха, «Изменении» М. Вютора,
«Видении битвы» А. Боргеса), история
аргонавтов (в «Путешествии аргонавтов
из Бранденбурга» Э. Лангезер.
Таким
образом, мифология используется в
следующих целях:
-
Традиционные
мифы в поэтических целях (Пушкин) -
Прямое
заимствование: Агата Кристи — «Подвиги
Геркулеса». 12 рассказов. Современный
Геракл совершает аналогичные подвиги
— сама суть не изменяется. Эркюль
(модификация имени Геракла-Геркулеса)
Пуаро очищает Авгиевы конюшни в
переносном смысле. -
Создание
современной мифологии на основе
традиционной (Брюсов, Белый). В миф
можно вкладывать иное содержание.
Мифологический образ получает иное
направление. -
Современная
мифология для манипулирования сознанием
(СССР). Это социальная мифология. История
переосмысливала современность в нужном
ракурсе.
-
Иногда
мифология возникает сама собой (НЛО). -
Мифология
архетипов. Архетип – минимальная
единица коллективного бессознательного
в психологии человека согласно работам
Юнга; определенный застывший сюжет,
образ. Обращение к коллективному
бессознательному значительно усиливает
тот или иной эффект, оказываемый на
общество. Архетипы воспринимаются на
инстинктивном уровне. Человек тем самым
приспосабливается к культуре и
цивилизации.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Справочник /
Лекторий Справочник /
Лекционные и методические материалы по культурологии /
Культурная идентичность и ее формирование
docx
Конспект лекции по дисциплине «Культурная идентичность и ее формирование»,
docx
Файл загружается
Благодарим за ожидание, осталось немного.
docx
Конспект лекции по дисциплине «Культурная идентичность и ее формирование».
docx
txt
Конспект лекции по дисциплине «Культурная идентичность и ее формирование», текстовый формат
Лекция 2. Культурная идентичность и ее формирование
1. Понятие культуры
2. Этнические и национальные культуры
3. Культурная картина мира
4. Национальный характер
5. Этническая идентичность
6. Социализация и инкультурация
Понятие культуры
Центральное место среди понятий и категорий, которыми мы оперируем в ходе изучения дисциплины МКВ, занимает понятие «культура». В обыденном понимании этот термин ассоциируется с развитыми творческими способностями, со свободным владением иностранными языками, с хорошим художественным вкусом, образованностью и воспитанностью. В русском языке термин «культура» также служит оценочным понятием и выражает определенную совокупность черт личности человека.
В современных гуманитарных науках понятие «культура» относится к разряду фундаментальных. Культура изучается целым рядом гуманитарных наук: философией, антропологией, культурологией, социологией, этнологией, лингвистикой и т.д. Каждая из этих наук в соответствии со своей спецификой выделяет в культуре в качестве предмета своих исследований одну из ее частей, тот или иной ее аспект и в соответствии со своими методологическими основаниями и методами дает собственное определение. В результате в настоящее время не существует единого, общепринятого определения культуры — в научной литературе встречается по различным данным от 150 до 500 определений культуры. Среди огромного количества научных категорий и терминов вряд ли найдется другое понятие, которое имело бы такое множество смысловых оттенков и использовалось бы в столь разных контекстах. Такая ситуация не является теоретическим недостатком, поскольку каждое из этих определений свидетельствует о структурной сложности и функциональном многообразии феномена культуры.
Культура в современной культурной антропологии и культурологии рассматривается как система ценностных ориентаций, убеждений, смыслов, которые находят свое выражение в различных формах практической жизнедеятельности людей, а также в результатах их жизнедеятельности — материальных и духовных продуктах. То есть культура — это способ жизни человека, продукт его творчества и среда обитания.
При этом очевидно, что культура – это коллективный «продукт» (произведение без зрителя не искусство) совместной жизнедеятельности людей, система согласованных способов их коллективного сосуществования, удовлетворения не столько индивидуальных, сколько групповых потребностей. Такое понимание основывается на том, что совместное долгое проживание групп людей на определенной территории, их коллективная хозяйственная деятельность, оборона от внешних нападений формируют у них общее миросозерцание, единый образ жизни, манеру общения, стиль одежды, специфику кулинарии и т.д. В результате действия перечисленных факторов формируется самостоятельная культурная система, которую принято называть этнической культурой данного народа. Но каждая этническая культура не является механической суммой всех актов жизнедеятельности людей соответствующего этноса. Ее ядро составляет набор «правил игры», сложившихся в процессе их коллективного сосуществования.
Вопрос, в чем состоит этническое своеобразие культур, не кажется на первый взгляд трудным, ведь ответ на него вроде бы очевиден: это совокупность специфических признаков, отличающих культуру каждого этноса от всех прочих.
Первое важное понятие, которое мы должны рассмотреть, это понятие этноса. Социологи определяют этнос, как группу людей, говорящих на одном языке, имеющих общее происхождение и традиции.
Язык является чрезвычайно важным фактором в жизни этноса. Как говорил немецкий философ Мартин Хайдеггер, язык – это дом бытия. Именно язык объединяет местность, на которой проживает этнос, и «маркирует» сам этнос. Например, русскими могут считаться все думающие и говорящие по-русски, в каком бы государстве они ни проживали. НО! не всегда они таковыми являются. Поэтому в большинстве случаев в истоках происхождения этноса лежит вера в общего предка. Поскольку наличие общего предка очень сложно доказать или, наоборот, опровергнуть, то в этнос исторически мог вступить любой человек, который верил в миф о своем общем происхождение с членами этноса (обращение «брат») и был готов разделять и следовать этническим традициям и нормам. Российский этнолог Ю. Б. Бромлей подчеркивал, что членам таких общностей свойственно сознание своего социокультурного единства и отличия от иных этносов, выражающееся в самоназвании каждой этнической группы («чукчи», «русские», «шотландцы» и т. д.). По сути, единственной сущностной характеристикой этноса объявляется самоидентификация людей как членов данной этнической группы.
А это, в свою очередь, означает, что члены этнической общности способны осознавать своеобразие и уникальность собственной культуры, отличать ее признаки от признаков иных культур. В связи с этим неизбежно возникает вопрос: какие именно признаки ассоциируются в восприятии членов этнической группы со своей культурой? Специфическими этнокультурными признаками могут выступать:
• мифы и эпические повествования об отчем крае,
• эстетические образчики этнической красоты,
• этнокулинария и этномедицина,
• представления о приемлемом и неприемлемом,
• многое другое, охватывающее весь континуум исторической памяти и феноменов культуры повседневности.
Ни один из элементов этого бесконечного перечня не должен считаться несущественной деталью, поскольку важен не «калибр» признака, а его восприятие носителем культуры. То, что кажется «мелочью» постороннему, может восприниматься носителем культуры как важный символ ее этнического своеобразия.
Осознание принадлежности к этносу не является врожденной. Членом этнической группы индивид становится в процессе социализации и инкультурации. Хотя стереотипы этнического поведения формируются у ребенка в первые годы жизни, влияние на этот процесс оказывает не только семейное воспитание, но и окружающая культурная среда. Человек, переселившись в другую страну, способен в совершенстве освоить чужой язык и культуру новой родины, но пережитый опыт социализации будет навсегда связывать его с той этнической группой, в которой прошло взросление.
Народ также является базовым этносоциологическим понятием. В ходе исторического процесса этносы вступают во взаимодействие между собой, утрачивают статическое состояние, и постепенно вместе формируют народы. Возможен и другой вариант, когда уже сформировавшийся активный народ, поглощает, в том числе и военным путем, проживающие поблизости этносы.
Народ можно определить, как объединение этносов, которое вступает в историю, становится игроком на политической арене. Образовав единый народ, этнические группы могут создать государство, религию и цивилизацию.
• Например: Евреи существовали как этнос, вступили в историю в состоянии рассеяния, которое длилось более двух тысяч лет, и при этом они сохранились, став народом, а затем, создали своё национальное государство-нацию Израиль.
• Также понятие народ присуще русским, которые сложились из множества этносов с общей историей.
Нация – общественная единица, которая выражает политическое единство этносов, проживающих в одном государстве. Нация – «плавильный котел», который уничтожает традиционные формы идентичности (этническую, культурную, даже религиозную) и создает искусственную культурную систему в рамках государства. При создании нации часто исчезает языковое различие между этническими группами, а язык одного, наиболее многочисленного, этноса становится в государстве единственно возможным для официального использования.
Национальные культуры в отличие от этнических не являются изначальной неотъемлемой формой исторического бытия человеческих общностей, так как возникновение наций – феномен сравнительно поздний. Большинство исследователей связывают процесс возникновения наций с формированием государства.
Не существует этнически однородных наций. В большинстве случаев национальное объединение происходит на основе этнически родственных групп. Однако многие нации образовались не только из этнически разнородных групп, но и из разных рас. Например, бразильская нация сложилась из нескольких этнических и расовых групп: индейцы, неоднородные по племенной принадлежности, португальцы, африканцы и т. д.
Нация не определяется также религией. Так, российская нация включает в себя христиан, мусульман, буддистов, иудеев (религиозных евреев), последователей архаических этнических верований (например, анимистических и шаманских культов), а также весьма и весьма значительное количество людей, не исповедующих никакой религии.
Национальная культура складывается исторически – в процессе длительного совместного существования этнических общностей, связанных единой территорией, экономикой, языком и закрепляется в государстве. В этом процессе возникает общность духовной жизни и появляются особенности национальной психологии, формируются такие признаки нации, как национальная ментальность и национальное самосознание.
Своеобразие культуры какого-либо народа получает свое завершение в культурной картине мира, которая одновременно формируется в процессе возникновения и развития самой культуры. Культурная картина мира является результатом различного мировосприятия, поскольку в различных культурах люди воспринимают, чувствуют и переживают мир по-своему и тем самым создают свой неповторимый образ мира, совокупное представление о нем, получившее в науке название «картина мира». Культурная картина мира — совокупность рациональных знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной культуры и культур других народов. Данные знания и представления придают культуре каждого народа самобытность, благодаря чему становится возможным отличить культуру одного народа от культуры другого.
Культурная картина мира специфична и различается у разных народов, поскольку ее формирование обусловлено совокупностью целого ряда факторов: географическим положением, климатическими условиями, особенностями исторического пути, спецификой социального устройства, религиозными представлениями, образом жизни, традициями, обычаями и т.д. Сочетание этих культурообразующих факторов находит свое выражение в различном отношении людей к одним и тем же явлениям культуры. Например, на Мадагаскаре похороны отражают оценку достигнутого при жизни человеком статуса и степень уважения к нему, поэтому для прощания с одними стекаются тысячи людей, а к другим приходят единицы. У некоторых народов прощание с покойником растягивается на недели, а в современной России или США похороны умершего занимают всего несколько часов. Различное отношение к одному и тому же событию у разных народов можно объяснить только различиями их культурных картин мира, в которых это событие имеет разные ценность и значение.
Национальный характер — самый неуловимый феномен этничности. Условия жизни и деятельности любого народа, его культура, история и тому подобное формируют систему психологических особенностей, свойственных именно данному народу (этносу) и осознаваемых как один из его признаков. Эти психологические черты касаются обычно строго определенного круга явлений. Так, различна степень сознательной регуляции эмоций и чувств: одни народы ведут себя более сдержанно, другие — более «взрывчаты» и непосредственны в выражении своих чувств и настроений. Различна роль тех или иных видов деятельности в жизни человека. Например, европейским детям привычны игры, а у детей некоторых народов Азии, Океании, Южной Америки, где их очень рано приучают к участию в делах взрослых, игра не имеет такого значения.
Многие исследователи связывают особенности национального характера с языковым своеобразием. Именно в формах языка, в его семантике, лексике, морфологии, синтаксисе отражается в определенной мере психология того или иного этноса.
• Например: В письме от 28 июля 1901 г., адресованном А.Н. Бенуа и написанном по-немецки, австрийский поэт Pайнер M. Рильке, ощутив необходимость выразить смысл, содержащийся в русском слове тоска, перешел на русский язык, хотя владел им не в совершенстве, и писал: «Я это не могу сказать по-немецки. Как трудно для меня, что я должен писать на том языке, в котором нет имени того чувства, который самое главное чувство моей жизни: тоска. Что это Sehnsucht? Нам надо глядеть в словарь, как переводить: «тоска». Там разные слова можем найти, как, например, «боязнь», «сердечная боль», все вплоть до «скуки». Но Вы будете соглашаться, если скажу, что, по-моему, ни одно слово не дает смысл именно «тоски». И ведь, это потому, что немец вовсе не тоскует, и его Sehnsucht вовсе не то, а совсем другое сентиментальное состояние души, из которого никогда не выйдет ничего хорошего. Но из тоски народились величайшие художники, богатыри и чудотворцы русской земли».
Прокомментируйте высказывание Р.-М. Рильке. Согласны ли вы с данной точкой зрения?
• + Леви-Стросс
• Во французском языке высказывание ориентировано часто на первое лицо, в меньшей степени — на второе, тогда как в русском языке высказывание часто принимает форму безличного предложения. Исследователи связывают это с тем, что во Франции исторически больше развивался индивидуализм, обособленность людей друг от друга. Отсюда и тенденция начинать свою речь с «Я». Русский человек, напротив, старается не выделять себя, предпочитая употреблять безличные обороты или конструкции, что связывают с особенностями русской истории и социальной организации в России, духом коллективизма и др.
Параметры сопоставления психологической идентичности
Различия в самоидентификации и взаимовосприятии представителей контактирующих культур — это одна из наиболее трудноуловимых и самых глубинных причин непонимания в процессе межкультурной коммуникации. С целью сопоставительного анализа психологической идентичности разных народов используются различные параметрические модели (Хофстеде, Клокхона, Стродбека, Парсона и др.). Проведем сопоставление по некоторым параметрам.
Индивидуализм / коллективизм
Разделение культур на индивидуалистские или коллективистские является одним из важных показателей в межкультурной коммуникации, так как с его помощью объясняются различия в поведении представителей разных культур. Подавляющее большинство людей живет в обществах, в которых интересы группы превалируют над интересами индивида. Такие общества называются коллективистскими. В большинстве коллективистских обществ принята большая семья (все родственники), люди воспринимают себя как часть «мы-группы». «Мы-группа» служит защитой для индивида, от которого в ответ требуется лояльность в отношении группы.
Коллективистский тип культуры распространен в таких странах, как Гватемала, Панама, Венесуэла, Колумбия, Пакистан, Корея и других + Россия.
Меньшая часть людей на планете живет в обществах, в которых интересы индивида преобладают над интересами группы. Эти общества и культуры носят название индивидуалистских. В таких обществах семьи включают только родителей и их детей. Дети вырастают в малых семьях, они быстро учатся воспринимать свое «я» отдельно от других людей. Цель воспитания детей в таких обществах — научить их быть самостоятельными, независимыми от родителей. Дети, вырастая, покидают родительский дом, и их контакты с родными сводятся до минимума. Индивидуалистскими обществами считаются культуры США, Австралии, Великобритании, Канады, Франции, Новой Зеландии и других стран.
Рациональность / эмоциональность
Французы по мировосприятию и характеру рациональны, прагматичны и деятельны. Они считают главной чертой своего национального характера острый ум и рационализм, тяготение к ясной, точной, логичной, изящно сформулированной мысли. Во Франции любят повторять: «Тот, кто ясно мыслит, ясно излагает». Наряду с логичностью и рационализмом, характерным признаком французского характера считается скептический склад ума. У французов скепсис и недоверие вызывает все: от качества обеда до событий общественной и политической жизни. Принято считать, что французы очень эмоциональны, но при этом они жестко контролируют свои эмоции, для них важно не столько выражать их, сколько демонстрировать.
Что касается американцев, то во всем мире они имеют прочную репутацию прагматиков. Как заметил один из исследователей, американцы имеют тенденцию испытывать чувство неловкости по отношению ко всему нематериальному. «Мы не доверяем тому, что нельзя сосчитать».
Русские по своей природе достаточно эмоциональны. Эмоциональность проявляется в нюансировке лексических значений, обилии эмоциональной лексики, синтаксических возможностях языка. Так, русская эмоциональность реализуется через возможность выбора между местоимениями ты и вы, наличие большого количества уменьшительно-ласкательных суффиксов, олицетворение окружающего мира через категорию рода, частое употребление восклицательного знака.
Оптимизм /пессимизм
Американцы считаются оптимистами, верят в способность человека создавать свою судьбу, изо всех сил стремятся быть счастливыми и рассматривают счастье как императив. Американцы не склонны жаловаться на судьбу и обсуждать свои и чужие проблемы в свободное от работы время. Общеизвестно, что на вопрос «How are you?» они при любых обстоятельствах отвечают: «Fine» или «ОК». По мнению Т. Рогожниковой, дистанцирование от чужих проблем и откровений — своего рода самооборона и защита собственного пространства. Неприлично, если у тебя есть проблемы: решай их сам, никого не обременяй, а иначе ты просто неудачник.
Русские склонны к депрессии и тоске. По мнению Н.А. Бердяева, «огромные пространства легко давались русскому народу, но не легко давалась ему организация этих пространств в величайшее в мире государство. И это наложило безрадостную печать на жизнь русского человека. Русские почти не умеют радоваться. Русская душа подавлена необъятными русскими полями и необъятными русскими снегами» [Бердяев, 1990, с. 65]. Русские на вопрос «Как дела?», вероятнее всего, ответят: «Нормально» или «Потихоньку». Здесь проявляется суеверие, привычка преуменьшать свои успехи («чтобы не сглазить») и нелюбовь к самовосхвалению. Американский оптимизм кажется русским неискренним и подозрительным.
Большинство французов считают себя счастливыми людьми. Для них характерны оптимизм, насмешливость, юмор, ирония. У французов существует множество анекдотов и историй даже на тему смерти. Так, например, рассказывают, что великая французская актриса Сара Бернар каждый день ложилась в гроб, чтобы «привыкнуть».
Открытость /закрытость
В «закрытых» культурах люди должны вести себя в соответствии с групповыми нормами, нарушение которых строго карается. В «открытых» культурах наблюдается большая терпимость к отклонению поведения индивидов от общепринятых норм. Например, американское и русское общества считаются открытыми. Но эта открытость — явление разных порядков. Американскую открытость следует рассматривать как коммуникативную стратегию, и в этом смысле американцы отличаются большей прямотой и безапелляционностью, нежели русские. Эта черта американцев выражается прилагательным outspoken, не имеющим русского эквивалента. Для русских открытость означает готовность раскрыть свой личный мир собеседнику.
Что касается японцев, то их предписанная учтивость, которая сковывает живое общение, искренний обмен мыслями и чувствами, — все это обрекает их на замкнутость.
Психологическая идентичность (или национальный характер) различных народов сложна и многоаспектна. Очевидно, что национальный характер определяется не только и не столько языком (язык его фиксирует), поскольку наряду с языком одним из важнейших признаков этноса является общность культурных ценностей и традиций.
Ценности и нормы культуры
Осваивая окружающий мир, каждый человек решает для себя, что важно для него, а что не имеет значения, без чего он может обойтись, а без чего нет. В результате у него формируется ценностное отношение к миру, в соответствии с которым он рассматривает все предметы и явления по критерию важности и значимости для своей жизни. Каждый предмет, явление или идея получают свою оценку и представляют определенную ценность, на основании которой складывается соответствующее к нему отношение. Аналогичным образом у каждого народа складывается собственная система отношений к природе, к людям своей и чужой общности, к идеям, вещам и т.д. На основе этих отношений формируются система ценностей этого народа и его культура, которые определяют поведенческие модели и регулируют поведение представителей данного народа.
• Например: Сделай или умри (Запад) ср. Умри, но сделай (Россия)
Если рассматривать ценность как значимость чего-либо для человека и общества, то это понятие наполняется субъективным содержанием, поскольку в мире нет явлений в равной степени значимых для всех людей и народов без исключения. В процессе МКВ довольно часто обнаруживаются значительные различия в восприятии одних и тех же ценностей представителями разных культур. Индивид, как правило, специально не осознает большую часть особенностей своей культуры и воспринимает их как само собой разумеющиеся. Осознание этих ценностей наступает лишь при взаимодействии разных культур, когда обнаруживаются различия в ценностных ориентациях. Именно в этих случаях возникают непонимание, растерянность, бессилие и раздражение.
Среди огромного числа разнообразных восприятий можно выделить небольшую группу таких ценностей, которые совпадают как по характеру оценок, так и по содержанию. Такого рода ценности получили название универсальных, или общечеловеческих. Их универсальный характер обусловлен тем, что основные черты таких ценностей базируются на биологической природе человека и на всеобщих свойствах социального взаимодействия людей независимо от культурной специфики. Например, нет ни одной культуры в мире, которая оценивала бы положительно убийство, ложь и воровство, но при этом в каждой культуре существуют свои границы терпимости этих явлений. Уважение к смерти
Помимо ценностей в каждой культуре существует довольно большое количество социальных норм, относящихся ко всем сферам жизнедеятельности общества. Они исторически вырабатываются данной культурой, имеют устойчивый характер, их нарушение предполагает применение тех или иных мер воздействия на индивида. На практике нормы культуры представляют собой существующие правила, образцы поведения, критерии и т.д., которые ограничивают природную вседозволенность и требуют неукоснительного их выполнения во всех без исключения случаях. В каждой культуре формируется система того, что дОлжно и запрещено, которые предписывают, как человек должен поступать в той или иной ситуации, или указывают, чего он не должен делать ни при каких обстоятельствах.
На протяжении всей истории человечества в различных культурах было создано огромное количество самых разнообразных норм поведения и общения. В зависимости от способа, характера, цели и сферы применения, границ распространения, строгости исполнения все многообразие поведенческих норм разделилось на следующие виды:
• нравы — моральные оценки допустимости тех или иных форм как собственного поведения отдельного индивида, так и поведения других людей;
• обычаи — формы социальной регуляции поведения и отношений людей, воспроизводящие образцы действий и предписывающие определенные правила поведения в определенных ситуациях для представителей одной культуры;
• традиции — непосредственная трансляция специфических культурных форм от поколения к поколению и соблюдение строгого следования этим формам («так поступали наши предки», «так принято»); «коллективная память» обществ и социальных групп, обеспечивающая их самотождественность и преемственность в их развитии;
• обряды — символические стереотипные коллективные действия, строго определенные обычаем, сопровождающие какие–либо ключевые моменты в жизни людей;
• законы — система обязательных правил поведения, санкционированных государством. Прообразом права были запреты (табу) в поведении древних людей. По своей сути право есть совместный договор людей о правилах поведения, которые обязательны для всех и исполнение которых контролируется государством.
Таким образом, различные виды культурных норм пронизывают практически все сферы человеческой жизнедеятельности. Все эти нормативные регуляторы могут быть как разрешительиыми, так и запретительными, НО! независимо от их характера они помогают координировать действия отдельных индивидов и человеческих групп, вырабатывать оптимальные пути решения конфликтных ситуаций, находить цивилизованные способы реализации и удовлетворения разнообразных потребностей. В то же время содержательная сторона норм и ценностей различна в разных культурах, что и составляет главное препятствие при межкультурном общении. Дело в том, что, усваивая ценности и нормы окружающего мира, человек опирается на традиции, нормы, обычаи, устоявшиеся в его культуре, а в процессе МКК довольно часто обнаруживаются значительные различия в системе ценностных ориентаций у представителей разных культур, что и порождает непонимание, напряжение или конфликты между партнерами.
Освоение культуры: социализация и инкультурация
Человечество представляет собой великое множество культур, а история человечества может рассматриваться как процесс их взаимодействия, который может принимать различные формы и осуществляться на разных уровнях. Для процесса МКК, таким образом, важно, каким путем формируется и понимается культура людьми.
В отличие от биологических свойств человека эти «правила игры» не наследуются генетически, а усваиваются только посредством обучения. Человек с самого раннего детства усваивает принятые манеры поведения и образцы мышления и через это входит в окружающий мир, что осуществляется в форме усвоения необходимого количества знаний, норм, ценностей, навыков поведения, позволяющих стать полноправным членом общества. Феральные люди.
Процесс освоения индивидом норм общественной жизни и культуры принято обозначать терминами «социализация» и «инкультурация». Оба понятия отражают процесс усвоения культурных ценностей какого-либо общества, а потому во многом совпадают по содержанию и нередко используются как синонимы. Однако большинство ученых, считающих культуру исключительно человеческим способом существования, отличающим человека от всех других живых существ нашей планеты, считают целесообразным проводить различие между этими терминами, отмечая качественные особенности каждого из них. Сторонники данной точки зрения рассматривают социализацию как двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, в систему социальных связей, а с другой — активное воспроизводство этой системы индивидом в его деятельности. Данное определение исходит из того обстоятельства, что, получая в повседневной практике информацию о самых разных сторонах общественной жизни, человек формируется как личность, социально и культурно адекватная обществу. Социализация предполагает гармоничное вхождение индивида в социальную среду, усвоение им системы социокультурных норм, ценностей общества, позволяющих успешно существовать в качестве полноценного гражданина. В результате социализации индивид превращается в представителя определенного социума.
Самые простые кросскультурные исследования показывают, что в различных обществах и культурах ценятся разные качества личности. Формирование и развитие принятых в данном обществе качеств личности происходит, как правило, путем их целенаправленного воспитания, т.е. передачи норм, правил и типов достойного поведения от старшего поколения к младшему. В культуре каждого народа сложились свои способы передачи социального опыта молодому поколению.
Например: выделяют два противоположных по своему характеру стиля воспитания — японский и английский.
В Японии воспитатель чаще стремится использовать методы поощрения, нежели наказания. Воспитывать там означает не ругать за совершенные плохие поступки, а, предвидя плохое, обучать правильному поведению. Даже при очевидном нарушении правил приличия воспитатель избегает прямого осуждения, чтобы не поставить ребенка в унизительное положение. Вместо порицания японских детей обучают конкретным навыкам поведения, всячески внушая им уверенность, что они способны научиться управлять собой, если приложат соответствующие усилия для этого. Японские традиции воспитания исходят из того, что чрезмерное давление на психику ребенка может привести к обратному результату. Если оценивать процесс воспитания детей в Японии с европейской точки зрения, то можно заключить, что японских детей неимоверно балуют. В первые годы жизни им ничего не запрещают, не давая тем самым повода для плача и слез. Взрослые совершенно не реагируют на плохое поведение детей, словно не замечая его. Первые ограничения начитаются только в школьные годы, но и тогда они вводятся постепенно. Только с шести-семи лет японский ребенок начинает подавлять в себе стихийные порывы, учится вести себя подобающим образом, уважать старших, чтить долг и быть преданным семье. По мере взросления регламентация поведения значительно усиливается.
В Англии процесс социализации детей основывается на совершенно иных принципах. Англичане считают, что неумеренное проявление родительской любви и нежности пагубно влияет на детский характер. Согласно английским педагогическим принципам, баловать детей — значит портить их. Традиции английского воспитания требуют относиться к детям сдержанно, даже холодно. За совершение проступков ребенка ждет суровое наказание. С детства молодые англичане приучаются к самостоятельности и ответственности за свои поступки. Они рано становятся взрослыми, и их не надо специально подготавливать для взрослой жизни. Сознательно отстраняясь от детей, родители тем самым готовят их к трудностям взрослой жизни. Уже в 16—17 лет, получив аттестат об окончании школы, дети покидают родительский дом и живут отдельно.
В отличие от социализации, предполагающей интеграцию человека в общество, инкультурация подразумевает освоение индивидом миропонимания и поведения, присущих его культуре, в результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство представителей данной культуры и отличие от представителей других культур. Результатом процесса инкультурации является культурная идентичность, которая означает эмоциональное и поведенческое сходство индивида с другими представителями данной культуры и его отличие от представителей других культур.
Процесс инкультурации начинается с момента рождения, т.е. приобретения ребенком первых навыков поведения и освоения речи, и продолжается всю жизнь, включая в себя формирование основополагающих человеческих навыков, например, типов общения с другими людьми, форм контроля за собственным поведением и эмоциями, способов удовлетворения потребностей, оценочного отношения к различным явлениям окружающего мира. Конечным результатом процесса инкультурации является культурная компетентность человека в языке, ценностях, традициях, обычаях своего культурного окружения.
Основоположник исследования процесса инкультурации, американский культурный антрополог Мелвилл Херсковиц, особенно подчеркивал в своих трудах, что процессы социализации и инкультурации проходят одновременно, и без вхождения в культуру человек не может существовать и как член общества. Обычно выделяют две основные стадии инкультурации:
1) начальную (первичную), охватывающую периоды детства и юности;
2) взрослую (вторичную), охватывающую зрелость и старость.
Первичная стадия начинается с рождения ребенка. В этот период дети усваивают важнейшие элементы культуры, приобретают навыки, необходимые для нормальной социокультурной жизни. Процесс их инкультурации реализуется посредством целенаправленного воспитания и частично на собственном опыте. Для данного периода в каждой культуре существуют специальные способы формирования у детей адекватных знаний и навыков для повседневной жизни. Чаще всего это происходит с помощью различных типов игр, которые представляют собой универсальное средство инкультурации личности, поскольку выполняют сразу несколько функций: обучающую, коммуникативную, развлекательную, релаксационную, развивающую, воспитательную.
Вторичная стадия инкультурации касается взрослых людей, так как вхождение человека в культуру не заканчивается с достижением им совершеннолетия. В этот период инкультурации носит фрагментарный характер и проявляется в виде освоения только отдельных элементов культуры, возникающих в последнее время. Обычно такими элементами выступают какие-либо изобретения и открытия, существенно меняющие жизнь человека, или новые идеи, заимствованные из других культур. Кроме того, иногда людям приходится покидать родную страну, и они сталкиваются с проблемой выбора: включиться в чужую культуру либо продолжать жить своей.
Каждому человеку приходится осваивать множество социальных ролей, поскольку процессы социализации и инкультурации продолжаются всю жизнь. До глубокой старости человек меняет свои взгляды на жизнь, привычки, вкусы, правила поведения, роли и т.д. Все эти изменения происходят под непосредственным влиянием его социокультурного окружения, вне которого инкультурация невозможна.
Культурная идентичность. В процессе социализации и инкультурации происходит принятие человеком соответствующих культурных норм, образцов поведения, ценностей, смыслов, языка и т.д. какого-либо общества, реального или вымышленного, он начинает отождествлять себя с культурными кодами этого общества и чувствовать свою принадлежность к нему, осознает свою идентичность.
Исследования проблемы идентичности наиболее быстрыми темпами развивались в психологии, а сегодня широко используется также в этнологии, культурной и социальной антропологии, культурологии и др. науках. В самом общем понимании оно означает осознание человеком своей принадлежности к какой-либо социокультурной группе, позволяющее ему определить свое место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире. Необходимость в идентичности вызвана тем, что каждый человек нуждается в известной упорядоченности собственной жизнедеятельности, чего можно достичь только в сообществе других людей. Для этого он должен добровольно принять господствующие в данном сообществе элементы сознания, вкусы, привычки, нормы, ценности и иные средства взаимосвязи, принятые окружающими его людьми. Усвоение этих элементов социальной жизни группы придает жизни человека упорядоченный и предсказуемый характер, а также делает его причастным к соответствующей культуре.
Поскольку каждый индивид является одновременно членом нескольких социальных и культурных общностей, то в зависимости от типа групповой принадлежности принято выделять различные виды идентичности: профессиональную, гражданскую, этническую, политическую, религиозную и культурную. Из всех перечисленных видов для нас представляет интерес прежде всего культурная идентичность — самоотождествление индивида с какой-либо определенной культурой или культурной группой, с принятыми в них формами и нормами поведения, с культурной картиной мира, формирующими ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом.
Значение культурной идентичности в МКВ состоит в том, что она предполагает формирование у индивида определенных устойчивых качеств в соответствии с культурными установками.
• Например:
Невозмутимость/холодность англичан
Стойкость русских
Практичность американцев
В культурной антропологии стало аксиомой утверждение, согласно которому каждый человек выступает носителем той культуры, в которой он вырос и сформировался как личность, хотя в повседневной жизни он сам обычно этого не замечает и специфические особенности своей культуры воспринимает как данность. Однако при встречах с представителями других культур, когда эти особенности становятся особенно очевидными, люди начинают сознавать, что существуют другие формы переживаний, виды поведения, способы мышления, которые весьма значительно отличаются от уже привычных и известных. Путем сопоставления и противопоставления позиций, точек зрения и т.д. различных групп и общностей в процессе взаимодействия с ними происходит становление личной идентичности человека, которая является совокупностью его знаний и представлений о своих месте и роли как члена соответствующей социокультурной группы.
В определенной степени МКК можно рассматривать как взаимоотношение противостоящих идентичностей, при котором происходит взаимодействие идентичностей партнеров по коммуникации. В результате этого взаимодействия неизвестное и незнакомое в идентичности партнера становится знакомым и понятным, что позволяет ожидать от него соответствующего поведения. Взаимодействие идентичностей облегчает согласование отношений в коммуникации, определяет ее вид и механизм.
Разнообразие этнических идентичностей, являющееся одним из главных факторов МКК, может быть одновременно и препятствием для нее. Наблюдения и эксперименты этнологов показывают, что во время официальных обедов, приемов и других подобных мероприятий межличностные отношения участников складываются по этническому признаку. Сознательные усилия по смешению представителей разных этнических групп не давали эффекта, поскольку через непродолжительное время вновь стихийно возникали этнически однородные группы общения.
Таким образом, в МКК культурная идентичность обладает двойственной функцией. С одной стороны, объединяет людей, позволяет коммуникантам составить представление друг о друге, взаимно предугадывать поведение и взгляды собеседников, т.е. облегчает коммуникацию. Но с другой — разделяет людей, каждый раз создавая особый барьер в коммуникации в виде культурных различий, вследствие чего в процессе коммуникации возникают конфронтации и конфликты.
Итак, каждый народ обладает уникальным характером и картиной мира. По этой причине невозможна единая универсальная культура, объединяющая всех людей на Земле. Наличие таких культур является закономерной формой существования всей человеческой культуры в целом. … Благодаря их взаимодействию возникает система общения, поддерживаются различные стили и типы поведения, ценностные ориентации, сохраняется их этническая самобытность.
Культурология
Межкультурная коммуникация
ОЧУ ВО
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ»
________________________________________________________________
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КО…
Данилова М.Э.
Авторы
Политология
Политическая философия
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский государственный униве…
Русакова О. Ф.
Авторы
Смотреть все
Поделись лекцией и получи скидку!
Заполни поля, отправь лекцию и мы вышлем тебе скидку-промокод на Автор24
Предмет
Название лекции
Авторы
Описание
Другие Гуманитарные предметы
-
Педагогика
-
Психология
-
Право и юриспруденция
-
Философия
-
Физическая культура
-
История
-
Социология
-
Русский язык
-
Литература
-
Языкознание и филология
-
Реклама и PR
-
Политология
-
Культурология
-
Английский язык
-
Документоведение и архивоведение
-
Социальная работа
-
Библиотечно-информационная деятельность
-
Искусство
-
Логика
-
Международные отношения
Что такое миф и мифология
Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Понятие «миф» встречается во многих науках: философии, культурологии, литературоведении.
В школе о нём говорят на уроках мировой художественной культуры, обществознания, истории и литературы.
У термина есть широкое и узкое значение, каждое из которых заслуживает отдельного разговора.
Определение мифа — что это
В переводе с греческого слово «миф» (mythos) означает «сказание». Оно появилось в глубокой древности.
В широком смысле миф как составляющая часть мифологии — это особый способ отношения к миру, обобщающий задачи первобытной религии, искусства и науки.
Нашим далёким предкам было свойственно так называемое мифологическое мышление, когда история человечества рассматривалась как смена поколений богов, героев и людей, а одушевлённые природные стихии вмешивались в судьбы смертных.
Миф как тип мировоззрения имеет ряд отличительных особенностей:
- – произвольный сюжет;
- – обращение к причинам возникновения бытия;
- – зооморфизм (люди и животные уподобляются друг другу, встречаются персонажи полулюди-полузвери);
- – нерасчленённость;
- – попытка объяснить природные и социальные явления;
- – повторяемость образов и сюжетов у разных народов.
На основании этих свойств, мифологи сделали вывод о том, что все древнейшие цивилизации прошли в своём развитии мифологический этап, оставивший нам свидетельства об общем человеческом прошлом.
Мифология — что это такое
Когда люди начали думать и размышлять, то самой первой формой их мировоззрения стало мифологическое.
Мифология — это фантастическое объяснение реальности.
Ее сущность в том, что человек, не умея объяснить окружающую действительность каким-то другим образом, придумывает это объяснение и верит ему как истине. Миф стал заменителем знания о мире.
Когда человек чего-то не знает и не понимает, то он от этого испытывает дискомфорт. Ему нужно объяснить себе суть вещей. Когда он это объяснение придумывает, то психологически ему от этого становится легче.
При этом человек не видит разницы между реальностью и выдумкой. Для него все есть реальность. При этом мифологическое мировоззрение образно. Понятийное мышление (мыслить понятиями, абстракциями) в ту пору еще не было принято и человек мыслил образами.
Но именно из мифологии (такого понимания мира) выросло все остальное — религия, наука, философия. Не сразу, конечно же, но постепенно люди от догм и эмоционального восприятия мира стали переходить к критическому мышлению и более глубокому осмыслению окружающей их действительности.
Мифология по своей сути очень близка к такому понятию, как фольклор. Но опять же с той разностью, что носители мифологического мышления верят в выдумку, а фольклор — это логическое продолжение мифологии, но уже только в качестве художественного отображения мира. Это — не мировоззрение, а лишь творчество.
У истоков мифологии
Жизнь первых людей состояла из ритуалов. Многие учёные проводят параллель между развитием отдельного человека и историей взросления всего человечества.
Появляясь на свет, ребёнок ничего не знает об окружающем мире. Он наблюдает за сменой дня и ночи, учится видеть различия между предметами и их свойствами. Всё кажется ему таинственным и опасным.
Чтобы младенцу жилось спокойней, родители окружают его ежедневно повторяющимися однотипными действиями. Когда человек взрослеет, простые действия усложняются и приобретают символическое значение.
Так же, как в жизни годовалого малыша, в бытии первопредка ритуал занимал главное место. Упорядоченность всех действий гарантировала мир, покой, благополучие. По мнению первых мифотворцев, этот порядок обеспечивался добрыми духами, богами, существами, которых можно задобрить, совершив полезные действия.
Если же человек отступал от ритуала, добрые духи становились злыми, вместо благодатного дождя на землю посылалась засуха – гармония (что это?) превращалась в хаос.
Мифологическое мышление было синкретичным. Это значит, что верования, действия и рисунки, отражающие картину мира, были неразделимы. Человек был целостным: он верил, действовал согласно своей вере и воспроизводил это в собственном творчестве.
Найденные учёными изображения эпохи палеолита говорят о том, что миф зародился ещё в дописьменном и довербальном периоде (т.е. раньше, чем появились буквы и слова).
К первым нарисованным сюжетам можно отнести борьбу тигра и лани (барса и оленя), символизирующую противостояние сильного и слабого, смену одной эпохи другой. В сценах охоты отражены попытки человека приручить и покорить мир дикой природы.
Позже появляются сюжеты, связанные с мироустройством: дерево, объединяющее землю и небо, расколовшееся яйцо, из которого появились море и суша, три кита, три черепахи.
Когда человечество освоило речь, система верований стала оформляться в отдельные тексты. Сначала они бытовали только в устном виде, передаваясь от старших к младшим с помощью музыкального сопровождения. Древнейшие мифологические сюжеты распались на такие жанры, как песнь, легенда, предание, сказание.
Миф считается прямым предком эпоса и всех его видов, а мифология – это система мифов, связанных едиными образами и представлениями.
Миф в литературе
С выделением литературы в отдельный вид искусства о мифе стали говорить как о жанре устного народного творчества. Это второй, узкий смысл термина.
Миф в литературе – это художественное произведение, представляющее собой развёрнутое повествование, пересказ или переложение устного образно-поэтического предания, появившегося в том или ином социуме на определённом этапе исторического развития.
Искать следы индийских, австралийских, африканских мифов нужно в народных сказках или эпических поэмах. С мифологией скандинавов нас знакомят такие произведения, как «Старшая» и «Младшая Эдда». Мифология индусов оживает в таких произведениях, как «Рамаяна», «Эпос о Гильгамеше».
Историки древности в документальных свидетельствах сохранили для мира верования шумеров и египтян. Благодаря авторской редакции исследователя античности А. Куна, нам широко известны мифы Древней Греции.
Славянская мифология частично отразилась в русских летописях, памятниках древнерусской литературы, русских, белорусских, украинских, болгарских и других народных сказках, былинах, песнях.
Для современных писателей мифология – это глубочайший источник вдохновения. В основе любого литературного сюжета лежит миф.
Например, сюжет поэмы Гомера «Одиссея», вобравшей себя целый цикл мифологических мотивов античности (о поединке с циклопом, искушении героя, женихах и верной жене и других), в Средние века переродился в жанр плутовского романа и романа-путешествия.
Хитроумный Одиссей, мечтающий вернуться на Итаку, превращается в безымянного бродягу, который к концу повествования оказывается принцем. В ХХ веке американский писатель Джойс создал роман «Улисс» о приключениях нашего современника, весьма далёкого по характеру и обстоятельствам жизни от прославленного героя Древней Греции.
Мифология — это источник многих крылатых фраз
Нередко в разговорной речи можно услышать: «Да это миф, сказка!».
Слово «миф» воспринимается как синоним неправды, выдумки, лжи. Вопрос об исторической достоверности мифа остаётся открытым.
Надо понимать, что время возникновения того или иного сюжета отстоит от нас на несколько тысячелетий, поэтому вымысел неизбежен. А вот алгоритмы действий (фабула), мотивы, сюжеты, коды, организующие жизнь во Вселенной миф, сохраняет не хуже египетских мумификаторов!
Именно поэтому по всему миру разлетелись крылатые слова и выражения, пришедшие в нашу речь из мифологий разных народов.
Ниже приведены примеры фразеологизмов, пришедших к нам через тысячелетия:
- вавилонская башня; Содом и Гоморра; валаамова ослица; Иерихонская труба – все это из библейской мифологии;
- Сизифов труд; между Сциллой и Харибдой; Прокрустово ложе; Троянский конь; ящик Пандоры; кануть в Лету; Ахиллесова пята – это из древнегреческих мифов;
- как гуси Рим спасли; двуликий Янус – это из мифологии древнего Рима.
Чтобы узнать точное значение этих выражений, почитайте мифы народов мира. Древние и мудрые, как сама планета, они говорят лишь о том, что было, есть и будет всегда. В нашей изменчивой жизни напоминание об этом точно не будет лишним.
Размышляя о роли киберпространства в современной культуре, Э. Дэвис отмечает, что современная интернет-среда формирует новый двухъярусный образ мира, в котором душа и тело действуют каждое в своем уровне: «подобно романам, кинематографу и комиксам, киберпространство позволяет нам отключить привычные научные правила, обусловливающие физическую реальность, в которой живут наши тела. Но, в отличие от этих видов медиа, киберпространство – это разделяемая интерактивная среда, электронное «пространство души», которое влечет к себе постмодернистскую душу, призывая найти и изменить себя»23.
Киберпространство, расширяя границы «внутреннего горизонта бытия», в то же время превращает идентичность человека в сложноопределяемый вопрос, ответ на который требует обращения к теме мифологизации современной высокотехнологичной культуры.
Многомерность и дискретность современного пространства коммуникации (как реального, определяемого глобальными интеграционными процессами, так и уже рассмотренного нами киберпространства), порождает невозможность интеграции различных жизненных опытов в единый план общественного бытия, приводит к усилению атомизации общества, утрате национальной и культурной идентичности: «Cоциум становится все более неопределенным, оставляя без норм и правил все более обширные сферы поведения, постоянно меняется, лишая людей возможности определить свою самобытность, а виртуальное пространство сетей порождает ощущение бездомности и безродности»24.
Разрушение цельности социальной среды усиливает понимание зыбкости человеческого существования и приводит к «расширению функционального поля иррациональных способов освоения действительности»25. Иррационализация общественного сознания получает выражение в активном распространении новых религиозных течений, возрастающем интересе к мистицизму и магии, распространении тематики предопределения и судьбы, милленаризма и эсхатологизма, социальном мифотворчестве, которые становятся средствами конструирования новых идентичностей и систем ценностей, способом сохранения и воспроизводства социального порядка.
Подобные тенденции позволяют охарактеризовать современность, как эпоху актуализации мифологических компонентов сознания. А понятия «миф», «мифологическое сознание», «мифологизация», «ремифологизация» и «неомиф» становятся актуальным необходимым контекстом осмысления проблем идентичности и культурной динамики.
Классическое представление о природе мифа основывается на исследованиях XIX–XX вв., в которых акцентировалось внимание на разных сторонах данного феномена. Язык, структура и функции, происхождение и типология мифов рассматриваются в работах представителей лингво-натуралистической школы (М. Мюллер, Я. Гримм, А. Кун, В. Манхардт, В. Пропп); ритуальная сторона мифа исследовалась в теориях Дж. Фрезера, Э. Тайлора, Б. Малиновского и др., логика развертывания мысли, бессознательная диалектика мифологического мышления осмыслялись с позиций структурной антропологии, философии символических форм и психоанализа (Л. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс, Э. Кассирер, В. Вундт, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Дж. Кэмпбелл, Я. Голосовкер, А. Ф. Лосев), взаимосвязь мифа, ритуала и социальной реальности рассматривались в работах Э. Дюркгейма, М. Элиаде, Р. Барта, М. М. Бахтина, Ф. Броделя и А. Я. Гуревича, Ж. Ле Гоффа и Б. Успенского и Е. М. Мелетинского, М. К. Петрова и др.
Обобщая многообразие имеющихся представлений о специфике мифа, крупнейший российский специалист по структурному изучению мифологии и фольклора, Е. М. Мелетинский писал: «Миф – это один из центральных феноменов в истории культуры и древнейший способ концепирования окружающей действительности и человеческой сущности…синкретическая колыбель различных видов культуры – литературы, искусства, религии и, в известной мере, философии и даже науки»26. Миф конструирует модель мира, которая существует в форме рассказа о происхождении. Его главная цель состоит в поддержании гармонии личного, общественного и природного, соотнесении социального и космического порядков.
Как особая форма сознания, миф связан с архаическим типом мышления, для которого характерен синкретизм человека и природы, диффузность мышления, взаимосвязанность логического и эмоционального восприятия. Мифологическое сознание основывается на принципах всеобщей персонификации, «партиципации» (Л. Леви-Брюль) и символизации (Э. Кассирер).
Мифологическое сознание существует в форме деятельности по генерации предельных значений, в которых происходит отождествление знака, означаемого предмета и смысла. В нем отсутствует различение предмета и знака, символа и модели, вещи и слова. На уровне коллективных представлений, архетипов в мифе осуществляется сближение качественных и количественных, пространственных и временных характеристик реальности, устанавливается взаимосвязь начала и сущности, единичного и множественного. Как смысло- и формопорождающее начало, мифологическое сознание характеризуется интеграцией нормативного и экспрессивного содержания опыта, отсутствием рефлексивно-критической позиции по отношению к данным «овеществляемым» элементам опыта, а также высокой степенью интерпретативности.
Исследования современных политических и идеологических систем, массового сознания и художественно-поэтической сферы свидетельствуют о сохранении многих характеристик мифологического сознания в культуре. Однако особенности функционирования современного мифологического сознания отличаются от традиционного архаического мифа, основу научных исследований которого заложили Л. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс, Э. Дюркгейм, М. Мосс, Б. Малиновский.
Классические мифы составляли мировоззренческую основу общественного бытия людей, структурировали и координировали общественные отношения. Формировали целостное осознание природной и социальной реальности, задавали вектор развития человеческого мышления от образно символического объяснения, представленного самими мифами к понятийному мышлению философии и науки.
Мифические конструкты современности, сохраняя главные признаки мифологического сознания, задают иную траекторию осмысления действительности. Ценностно-смысловое содержание современных мифов осуществляет процесс объяснения ситуации «от общего через отдельное к частному. Направляют сознание от рационалистических направлений философской мысли к иррационалистическим. Достижения науки смещаются в сторону околонаучного поля, которое в свою очередь ищет поддержки со стороны компонентов религиозной формы сознания – веры, олицетворяющей фантазии, авторитете «учителя», «гуру», «наставника», «просветленного»».
Миф начинает осуществлять компенсацию недостатка позитивной, адекватной информации, становится опорой мировоззрения, «картины мира», средством социального ориентирования.
Таким образом, в XX в. само понятие «миф» претерпевает существенные изменения. Мифологическое мышление перестаёт осмысляться как одна из ранних стадий развития человеческого сознания и приобретает черты универсальной характеристики современности.
При этом сам «миф» приобретает полемичный, дискуссионный характер. Через это понятие осуществляется противопоставление порядка и хаоса, утверждения и символа, конкретного и абстрактного, обычного и оригинального, научного и фантастического.
Как справедливо указывает Вильям Дуглас в работе «Значения понятия «Миф» в современной критике», «…миф в XX в. чаще всего употребляется в таких смыслах, как: иллюзия, ложь, лживая пропаганда, поверье, вера, условность или представление ценности в фантастической форме, сакрализованное и догматическое выражение социальных обычаев и ценностей»27. Именно в таком контексте рассматривается взаимосвязь мифологического сознания с политической идеологией и массовой культурой.
Современности как привилегированному полю для мифологизации посвящены работы Р. Барта, в которых обозначается негативная функция мифа, как деформации смысла. Миф «…насильственно узурпирует персональное смысловое пространство и несет в себе импульс насилия». Его основная цель – произвести непосредственное впечатление… его действие сильнее тех рациональных объяснений, которые далее могут его опровергнуть». В таком утилитарном смысле структура мифа используется в интересах буржуазной идеологии28.
К вопросам соотношения идеологии, политики и мифологии обращались Р. Нибур и Х. Хэтфилд. Современный французский социолог А. Сови в книге «Мифологии нашего времени» определяет миф как «…всякое суждение, возникающее независимо от опыта и не совпадающее с результатами научной проверки»29. В круг исследуемых им мифов попадают как традиционные универсальные мотивы, так и предрассудки общественного сознания, социальная демагогия партий и государств, отдельных групп, идеологические построения и политические «мифы» фашизма, либерализма, марксизма, социализма, феминизма, экологизма и ряд других
Таким образом, понятие мифологизации чаще всего рассматривается в негативном аспекте как методология конструирования иллюзорных представлений и политического манипулирования, связанная с социальной напряженностью и политической нестабильностью эпохи становления индустриального общества.
Другой стороной актуализации мифологического в современной социокультурной среде является возрастающий интерес к иррациональному, оккультному, мистическому, что получает выражение в распространении эсхатологических и милленаристских мотивов в культуре, массового интереса к астрологии и космическому символизму.
Подобные тенденции могут быть осмыслены на основе преложенного В. Н. Топоровым определения мифологизации как процесса «создания наиболее семантически богатых, энергетичных и имеющих силу примера образов действительности … в их едином стремлении к поддержанию максимальной возможности связи человека со сферой бытийственного»30.
Именно этой цели – созданию единого интеллектуального и бытийного пространства – служат распространенные в современной культуре неоязыческие объединения (Староверы Инглинги, Общество сознания Кришны и пр.), сообщества глубинной психологии и саморазвития, клубы чайных церемоний и оздоровительных медитативных практик, виртуальные группы геймеров и поклонников различных направлений киноиндустрии.
Мифология современной городской культуры существует в форме неомифов, задача которых в том, чтобы не столько актуализировать имеющиеся историко-культурные сюжеты, сколько конструировать новые образы, сюжеты, ценности, цели и модели поведения, способные объединять на различных основаниях индивидуализированных субъектов глобального мирового пространства, стать основой того, что может быть названо транснациональной идентичностью.
В контексте обращения к тематике современной мифологии актуальным становится понятие ремифологизации, которая понимается как процесс актуализации в дискурсивном пространстве и коммуникативной среде повседневности структур мифологического сознания – конкретно-чувственного и персонального выражения абстракций, символизма, идеализации «раннего» времени как «золотого века» и настойчивых поисков глобального смысла и целесообразной направленности общественных изменений. Мифологизация общественного сознания осуществляется как в виде стихийного формирования новых образов мира, так и в форме создания квазимифологий как манипулятивно-идеологических конструктов.
Примеров подобных современных мифологических конструкций достаточно много. Так, Э. Дэвис обращает внимание на то, что современные субкультуры (рокеры, хиппи, панки, скинхеды, футбольные команды, рэперы, рейверы и т. п.) с точки зрения антропологических характеристик представляют собой новые племенные союзы, средствами идентификации которых становятся уникальные ритуалы, комбинирующие сленг, музыку, язык тела и тайные знаки (готический пирсинг, африканские украшения, татуировки и др.), что позволяет данным сообществам противостоять тенденциям диффузности жизни современной культуры.
Современный трайбализм существует так же на уровне «медиа-племен» виртуальной среды, представленных хакерами, диджейскими коллективами и радиопиратами.
Эпические продукты киноиндустрии (цикл фильмов о Гарри Поттере, «Хроники Нарнии», «Властелин Колец» и др.) функционируют в качестве современной мифологии, порождая сообщества поклонников и постмодернистские костюмированные карнавалы.
Вокруг различных направлений современной трансовой музыки складываются всевозможные экстатические культы, воспроизводящие схемы шаманских камланий и способствующие вовлечению своих адептов в единое пространство социальной коммуникации и конструирование новых моделей идентичности.
В контексте актуальной практики мифологизации также может быть рассмотрено значение современных уфологических теорий. Как отмечает один из исследователей данного феномена Дж. Салиба, существуют очевидные параллели между структурой мифа и содержанием историй об НЛО: наличие трансцендентного элемента и тайны (НЛО как символ неба выступает в качестве синонима божественного), вера в божественное начало (пришельцы выступают в качестве особых посланников вселенной), признак совершенства (представители инопланетных цивилизаций представляются в качестве более совершенных существ), миссия спасения (внеземные посланцы как правило предостерегают об угрозах планете и человечеству), мировоззренческое значение (теории внеземных цивилизациях выступают в качестве научной альтернативы традиционной космологии), мистико-религиозный опыт (контактеры переживают состояния сопоставимые с обрядами посвящения и перерождения)31.
Мифологизация осуществляется на уровне не только отдельных социальных групп, но и системы научного знания, в котором осуществляется трансформации соотношения рационально-теоретического, предметно-практического, иррационально-мистического, суеверно-магического.
Встраивание мифологических компонентов сознания в функциональное поле научного знания конструирует квазинаучную мифологию, которая, благодаря современным средствам массовой информации и коммуникации, приобретает статус глобального культурного явления.
Современная квазинаучная мифология как особый способ духовного освоения мира, основывается на синкретичном сочетании элементов науки и мифа. Характерными чертами этого явления становятся диффузия субъект-объектных принципов познавательной деятельности, стирание различия между границами знания человека о мире и реальными объективными характеристиками действительности, онтологизация творческого воображения субъекта32.
Количество квазинаучных мифологических сюжетов постоянно увеличивается («снежный человек», тайны Бермудского треугольника, левитация, полтергейст, «доказательства жизни после смерти», НЛО, «машина времени», использование компьютера в качестве портала в параллельные измерения и пр.).
Данные тенденции оказываются спровоцированы, с одной стороны, траекторией исторического развития самой системы научного знания, в которой многие явления биологической и социальной реальности получают объяснения лишь по мере совершенствования методов, средств и целей познания, в результате чего до сих пор остаются без научного обоснования ряд физических и оптических явлений в атмосфере, некоторые законы микро- и макроэволюции, общественного развития, возможности и пороги ощущений и восприятий и пр., предоставляя возможность научному сообществу для построения гипотез, экспериментов и парадоксальных, часто впоследствии опровергаемых заключений (сенсационные публикации о сверхсветовых скоростях, явлении «остановленного света», квантовой телепортации).
С другой стороны, при активном содействии средств массовой информации осуществляется процесс подмены научного объяснения происхождения войн, аварий, экономических кризисов и народных волнений воздействием сверхъестественных сил и паранормальных явлений – положением звезд и планет, предсказаниями ясновидящих. Передачи с участием народных целителей и обладателей экстрасенсорных способностей, а также целые каналы, посвященные паранормальным явлениям и внеземным цивилизациям получают самые высокие рейтинги.
Средства массовой информации транслируют циклы передач, в которых нередко участвуют представители научно-исследовательских институтов, имеющие научные степени и звания, приводятся физические обоснования сверхъестественного. Широкое распространение получает литература, претендующая на научное объяснение возможности чуда.
Данные тенденции указывают не только на снижение общего образовательного уровня массового сознания, но и на системный кризис современной культуры, следствием которого становится кризис идентичности, выражающийся в невозможности интеграции единичного индивидуализированного субъекта глобального мира в целостность биологической и социальной среды обитания.
Эпоха странных погодных явлений, клонированных овец, марсианских камней, квантовых компьютеров, трансплантатов, психотронных машин, астероидов, угрожающих планете, нанотехнологий и глобального электронного пространства настоятельно требует и формирует новый единый смысловой контекст культуры, основу которого составляет квазинаучное мировосприятие, опирающееся на основные компоненты мифологического мышления:
–– апелляция к абсолютному авторитету (сверхъестественное существо/разум/открытия современных ученых);
–– апелляция к чуду (сознание склонно связывать его с идеей высшей справедливости, с верой в ее спасительную роль, способность придать социальной жизни такую степень гармоничности и совершенства, сказочности);
–– апелляция к тайне (связь мира не только с коллективным бессознательным, с архетипическими основаниями психики и мифологическими структурами сознания, но и с метафизической реальностью)33.
С точки зрения одного из крупнейших исследователей роли мифа в культуре М. Элиаде, поиски начала всех вещей, космоса, жизни и духа, «…желание проникнуть в глубины времени и пространства, достичь пределов и начала видимой вселенной, и в частности, раскрыть тайное основание субстанции, состояние живой материи в зародыше», характерные для научных исследований XIX-XX вв., идентичны структуре древнейших космологических систем, задача которых состоит в объяснении происхождения мира и конструировании целостной системы миропонимания: «бесконечные поиски истоков жизни и духа, гипнотическое воздействие тайн природы, потребность проникнуть во внутренние структуры материи и расшифровать их – все эти желания и устремления обнаруживают ностальгию по первородному, по некоей исходной универсальной матрице»34.
В этой связи многочисленные дискуссии разворачиваются вокруг истоков и судеб человеческой цивилизации, организации и населенности Вселенной, взаимодействий человеческой цивилизации с «над(вне) человеческими разумами» во Вселенной могут быть осмыслены с позиции конструирования новой системы идентификации личности.
Одним из аспектов данной культурной тенденции становятся актуализация тематики национальной идентичности. При всей очевидной сложности и многоуровневой структуре феномена национальной идентичности, как самоопределения в пространстве конкретной национальной культуры, существенной основой данного феномена является мифологический компонент.
Как отмечает К. С. Гаджиев, «…национальная идентичность формируется на основе национально-исторической, социально-психологической, социокультурной, политико-культурной и других сфер. В её содержание входят установившиеся особенности национальной культуры, этнические характеристики, обычаи, верования, мифы, нравственные императивы и т. д. Она теснейшим образом связана с понятием «национальный характер», т. е. с представлениями людей о себе, о своем месте в мире. Национальная идентичность интегрирует в себя внутренние и внешние составляющие. Для неё особенно важно соответствие внешнего и внутреннего, формы и содержания, проявления и сущности. Внутреннее ощущение идентичности подразумевает сущностную тождественность, родственность, общую основу, единое начало». В её структуру входят историческая память, национальные традиции, нравственные императивы, стереотипы поведения и обычаи, верования, символы и мифы35.
Мифы составляют семиотическое поле национальной культуры. Через основные мифологические константы (сакральное происхождение общности, культурные герои, искупительная жертва, новое «начало», построенное на более совершенных основаниях) осуществляется приобщение индивида к особенностям языка, территории, представлениям о прошлом и будущем, основным национальным ценностным ориентирам.
Мифы, как писал Р. Мэй, это истории, объединяющие общество, они развивают и укрепляют чувство идентичности; порождают чувство общности; укрепляют моральные ценности; объясняют в строении мира то, что наука пока объяснить не в состоянии: «мифы – как балки перекрытий в конструкции дома, они невидимы снаружи, но образуют структуру которая держит дом, и благодаря им люди могут жить в этом доме». Мифы «…существенны для поддержания жизни нашей души, они привносят новый смысл в наш сложный и часто бессмысленный мир», и тем самым реализуют экзистенциальную потребность в интеграции единичного человеческого бытия как части в бытие человеческого сообщества как целого36.
Современное киберпространство глобальной информационной сети также оказывается в тесном соприкосновении с темой мифологизации и построения новых форм идентичности.
Выступая в качестве единого пространства свободной горизонтальной коммуникации, киберпространство открывает возможность для каждого пользователя найти его собственное место в Cети, а если не получается, то создать его, информационно идентифицировать собственное «Я». Таким образом, как отмечает М. Кастельс, Интернет, будучи неоднородной в технологическом и информационном смысле средой, создаёт новую стратегию конструирования идентичности: «самопубликация, самоорганизация и самостоятельное построение сетей образуют модель поведения, которая внедряется в Интернет, а затем распространяется из него по всему социальному пространству»37.
Многообразие смыслов, порождаемое киберпространством преодолевает границы научной парадигмы современной технической культуры и начинает функционировать на основе уже обозначенных принципов мифологического мышления.
Человек в пространстве цифровых коммуникаций постоянно становится кем-то большим, перерастает и перестраивает себя, манипулирует компьютерной сферой с помощью своего воображения (и подвергаясь манипуляциям с ее стороны) «подобно тому, как более традиционные шаманы силой воображения взаимодействовали с более традиционными мифологическими пространствами при помощи наркотиков или трансовых соcтояний»38.
В качестве одного из отдельных аспектов мифологизации киберпространства может быть упомянут и феномен техноанимизма – одухотворения, наделения активностью, жизнью и разумностью цифрового мира в представлениях пользователей Интернета. Так, на сегодняшний день электронное пространство «населено» множеством автономных программ, паразитического свойства: вирусы, трояны, пауки, черви, торговые агенты и боты. Проникая в компьютеры пользователей, эти программы размножаются, собирают информацию, осуществляют разрушительную деятельность и возвращаются к «хозяевам» с украденной информацией.
Таким образом, современная глобальная высокотехнологичная культура и общество интернет-коммуникаций актуализируют иррациональное мышление. И хотя, как отмечает в своём исследовании Э. Дэвис, «невозможно отрицать громадную разницу между нами, вовлеченными в скольжение по цифровым потокам, и нашими древними предками… Цифровой мир, лежащий перед нами, – это тоже “гибрид”, перекресток кодов и масок, алгоритмов и архетипов, науки и симулякров»39.
Другим важным аспектом киберпространства является его принципиальная установка на единообразие. Наличие унифицированных принципов функционирования виртуальной реальности (структура фреймов и всплывающих окон, гипертекстовых ссылок, глобальных онлайн компьютерных игр и пр.) позволяет каждому отдельному индивидуализированному субъекту интернет-коммуникации, вне зависимости от географического положения и национальной принадлежности влиться в единое киберпространство (ассоциировать себя с тем или иным интернет-сообществом, например), что позволяет говорить о формировании в современной культуре такого явления, как универсальная киберидентичность.
Киберпространство и интернет-коммуникация, с одной стороны, как уже отмечалось, размывают привычные способы ориентации человека в мире культуры, с другой стороны, становятся способом преодоления отчуждения современной высокодинамичной культуры посредством включения некоторой части «Я» в единую сетевую технологию.
Таким образом, размывание смысловой наполненности идентичности, происходящее на фоне мультикуртурализма, полиэтничности и расширения сферы интернет-коммуникации, приводит к реализации потребности в идентификации личности в рамках различных неомифологических структур, к которым можно отнести локальные мифологии группы, глобальные квазинаучные мифологические построения (поиски общечеловеческого прошлого), новое конструирование национальной идентичности (национальные мифы), а также к формированию киберидентичности.
Ремифологизация современной культуры, осмысленная в таком контексте, осуществляет задачу конструирования единого смыслового пространства, надстраивающегося над утилитарными интересами общества индивидуализированных субъектов, массового потребления товаров, услуг и стремительной экспансии информации и технологии.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF
Введение
Многим известно, что на мифологии основывались философия и религия. В мифах черпали вдохновение скульпторы, писатели и художники, а так же многие другие деятели. Но при этом современный человек склонен недооценивать мифологию, ошибочно приравнивая её к детским сказкам. А ведь она переполнена мудростью накопленною веками, и как не один другой жанр литературы способна обогащать человеческую душу своими богатыми символическими образами.
Поэтому, можно говорить с уверенностью об актуальности данной темы для современного общества. Возможно, она способна будет вызвать у читателя живой интерес к мифологии и побудит к изучению мифов начиная с истоков.
Область данной работы довольно обширна. Она охватывает такие предметы как культурология, философия, история и, конечно же, литературоведение.
Объектом данной работы является непосредственно сама мифология и любые её проявления в культуре человечества.
В данной научно-исследовательской работе, основной целью является определение роли такого недооценённого литературного жанра как мифология, в развитии культуры человечества в разные исторические периоды.
При написании работы были поставлены следующие задачи:
-
донести до читателя всю важность роли мифов в формировании культуры человека;
-
рассмотреть основные исторические этапы развития данного жанра;
-
пробудить в читателе интерес к мифологии как к достойному внимания и глубокого понимания жанру художественной литературы.
Использованы методы:
-
обзор литературы во теме исследования, исследование в виде анкетирования среди студентов и людей старшего возраста;
-
анализ мифов разных исторических эпох и их влияния на формирование культуры человечества.
Теоретическая часть
Рассмотрим роль мифологии более подробно. Для того, чтобы объективно судить о роли и влиянии мифологии на человека, следует прежде всего дать определение – чем же является мифология на самом деле и, что такое миф.
Очень точные определения даются в иинтернет-ресурсе Wikipedia: Мифология — (от греч. μῦθος — предание, и λόγος — учение) — объект исследования многих научных дисциплин таких как философия, история, филология и др., являющийся по своей сути фольклором (устным народным творчеством) древних народов.
Миф (др.-греч. μῦθος) — сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях.
Главная задача мифа заключается в том, чтобы задать образцы, модели для всякого важного действия, совершаемого человеком. Мифология различаеться у большинства этносов, но почти всегда позволяет проводить параллели в сюжетах и образах.
Поскольку мифология осваивает действительность в формах образного повествования, она близка по смыслу к художественной литературе; исторически она предвосхищала многие возможности литературы и оказала на её развитие огромное всестороннее влияние. Естественно, что литература не расстаётся с мифологическими основами и позднее, что относится не только к произведениям с мифологическими основами сюжета, но и к реалистическому и натуралистическому описанию повседневного быта человека девятнадцатого и двадцатого веков (к примеру «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса).
Роль мифов в древние времена
Во времена ранней античности мифология являлась основой всех языческих культов. С помощью мифов люди пытались объяснить то чего не могли понять и обожествляли природу.
Существовали мифы о происхождении Земли и человека (космогонические и антропогонические мифы), мифы объясняющие природу того или иного природного явления, мифы формирующие общественное мнение о нормах морали (поучительные и героические мифы), мифы формирующие социальное мышление и объясняющие природу власти и мифы объясняющие религиозные ритуалы (культовые мифы).
Антропогонические мифы – мифы о появлении людей
Ярким примером антропогонического мифа служит греческое предание о том, как однажды Зевс задумал создать себе слуг. Эту работу он поручил единственному не свергнутому титану – Прометею. Прометей взял глину у подножия Олимпа и начал лепить. Но всё что он ни делал, Зевсу результат не нравился, из таких неудачных попыток появились звери. Тогда Прометей решил вылепить фигурки похожие на богов. Когда он закончил лепить показал результат Зевсу, тот остался доволен. Зевс вложил в каждую фигурку человека по одной из четырёх стихий, и вдохнул жизнь. И получились люди с разными характерами и внешностью. (Этот миф является почти идентичным египетскому мифу о боге Хнуме.)
Подобного рода мифы были не менее важны, чем те, что объясняли происхождение Земли. Они объясняет не только происхождение человека и смысл его бытия, но и то почему все люди разные. Так же в антропогонических мифах зачастую описывается происхождение животных.
Мифы, объясняющие природу природных явлений
Если рассматривать мифы о природных явлениях, то первым делом в голову приходит древнегреческое представление о смене времён года. Считалось, что когда владыка загробного мира Аид влюбился в прекрасную богиню Персефону, он украл её у матери. Мать Персефоны – богиня живой природы Деметра начала тосковать по дочери и совсем забыла о своих обязанностях. Природа начала увядать и наступила долгая зима, от которой люди начали гибнуть. Тогда Зевс уговорил Аида отпускать свою жену к матери на полгода. Поэтому весной – когда Персефона возвращается к матери, всё расцветает от радости богини. А когда приходит время расставания, наступает осень, и всё увядает.
Анализ этого мифа позволяет судить, как важно для человека было объяснение любого природного явления. Но поскольку научные знания того времени были попросту не способны дать ответы не такие сложные вопросы, люди опять таки прибегали к воображению и сочиняли новые мифы. И как и в других мифах причиной всему были Боги.
Космогонические мифы – мифы о происхождении Земли
Как пример космогонического мифа можно рассмотреть месопотамский миф о зарождении земель. Согласно описанным в нём событиям, изначально существовал только водный хаос. В самой его середине стояли Апсу и его жена Тиамат. Вместе они породили младших богов, которым не нравилось жить в бескрайнем океане. Боги долго жаловались Апсу на бурные воды хаоса, и решил Апсу убить своих детей. Но порождённые им боги победили его. Сын Апсу — Энки пробил отцу грудь и вынул оттуда сушу, воздух и огонь. Так появилась Земля. (Этот миф можно сопоставить с другим похожим скандинавским мифом про великана Имира.)
Анализ данного мифа позволяет судить, насколько древнему человеку было важно ответить на такой фундаментальный вопрос, как «Как образовалась Земля?». Подобного рода мифы (космогонические мифы) придавали смысл окружающему человека пространству, объясняли, почему это выглядит так, а не иначе. Одним словом играли огромную роль для осмысления человеком окружающего мира.
Поучительные мифы
Поучительным мифом можно считать миф о Нарциссе. Юноша был настолько красив, что ни одна девушка не могла устоять перед ним. Но всем женщинам Нарцисс разбивал сердца, считая их недостойными своей красоты. За такую самовлюблённость богиня Афродита решила наказать смертного. Однажды когда Нарцисс подошёл к ручью он увидел своё отражение, и околдованный хитрой богиней, так и не смог больше отвести взгляд от собственного отражения. Так и просидел Нарцисс возле ручья, пока не превратился в жёлтый цветок. (Этот миф даёт понять, что самовлюблённость до добра не доводит.)
В таких мифах люди описывали разного рода пороки. А что бы дать понять, насколько они губительны, описывали так де и страшные наказания, неизбежные для того кто поддался этим порокам. Так общество пыталось регулировать уровень духовной культуры социума.
Мифы о природе власти
В Египте был распространён миф, что все фараоны, так или иначе, являются потомками солнечного бога Ра. Из чего следовало, что право власти над людьми даровано владыкам страны по праву происхождения от бога-правителя, а следовательно власть фараона незыблема. При помощи такого хитрого хода правители обеспечивали себе полное и безоговорочное подчинение своего народа. А тот, кто пытался выступить против, обрекал себя на вечную репутацию безбожника и становился изгоем общества. Такая практика имело место не только в Египте, такие мифы периодически встречаются и в Месопотамии и у островных государств античности. Но дальше всех в данном аспекте продвинулись римские императоры, заявляя, что они избраны богами, что бы стать богами.
Воздействие мифов на драматургию и поэзию древности.
Особенно хочется отметить влияние мифов на драматургов античности, таких как Гомер, Фриних, Аристофан и многих других. Все их произведения (кроме летописных) содержали художественное описание сюжета мифов, либо в них описывались герои, взятые из фольклора. Примерами таких произведений могут являться Троя и Илиада Гомера.
Помимо этого вся античная поэзия буквально изобилует мифологическими мотивами. Вергилий связывает мифы с философским осмыслением истории, Овидий же, отделяет мифологию от религиозного содержания в поисках мотиваций жизни, открывая смысл образов как символов.
Можно с уверенностью сказать, что именно мифы послужили основой созданию литературы. Ведь все первые литературные произведения, так или иначе, являлись мифами или основывались на их сюжетах. Именно на эти драматургические переработки мифологи впоследствии будут равняться писатели средних веков и эпохи Возрождения.
Культовые мифы.
Одним из культовых мифов является миф о жадности Харона. Харон – мрачный паромщик на реке Стикс, однажды возжелал награды за свои труды. Но Аид отказался вознаграждать своего нахального слугу. Тогда Харон заявил, что будет требовать благодарность с тех, кого он возит. Поэтому с тех самых пор паромщик брал с каждой души, которую переправлял в Аид по одной монете, а тот, кто не платил, были вынуждены вечно скитаться в преддверии Загробного царства в виде теней. Из-за этого мифа возникла традиция при погребении усопшего класть ему в рот монетку в оплату мрачному лодочнику Харону.
Такие мифы определяли проведение всех культовых мероприятий, определяли их порядок, время проведения. Но самое главное они давали понять, с какой конкретной целью необходимо выполнять ритуалы.
Как видно из сказанного выше, по сути, весь уклад жизни древнего человека регулировался мифологией. Буквально обо всём на свете существовали свои мифы, дающие человеку представление о том, как следует поступить в той или иной ситуации, и как на это должны отреагировать окружающие. Так что не будет ошибкой мнение, что именно в древние времена мифология имела наибольшую весомость, так как являла собой смысл всего сущего, являлась своеобразным регулятором жизни сравнимым с современным законодательством.
Роль мифов в античном изобразительном искусстве.
Образы мифических героев давали вдохновение скульпторам, художника, и зодчим древности. Все памятники архитектуры и культурные ценности того времени так или иначе связанны с сюжетами особо распространённых мифов, к примеру: статуя Зевса Олимпийского, Колосс Родосский, величественный храм Артемиды в Эфесе.
Самым известным примером того как на создание шедевров, человека вдохновляли мифы, является история гениального архитектора и скульптора Фидия. Этот человек был так вдохновлён мифом «О споре Посейдона и Афины», что он решил разработать план отделки Парфенона, так же сделать эскизы главнейшего достояния Афин – статуи богини Афины Парфенос.
Исходя из сказанного выше, можно судить о том, что мифология задавала вектор развития существующих на тот момент художественно-изобразительных искусств.
Легенды средних веков
В раннем средневековье мифология была довольно своеобразной, но так же являлась неотъемлемой частью жизни простого человека, хотя уже и не так сильно регулирующей повседневный быт.
Направленна она была на то, что бы дать надежду людям даже в самые безвыходные времена. Примером такого внушенья надежды можно считать миф об Артуре – справедливом короле и доблестном воителе, который сплотил Альбион. Но в том же предании существует и образ вселенского зла – Мордред (бастард Артура). И для того, чтобы вселить в простого человека надежду, в конце мифа, Мордред был сражён копьём Артура. Однако Артур смертельно раненый, попросил сэра Бедивера вернуть меч Экскалибур Владычице Озера. Затем его самого на лодке печальные леди, увезли на остров Авалон. По преданию (похожему на пророчество о Втором Пришествии), Артур дремлет на Авалоне в ожидании дня великой нужды, когда он воспрянет ото сна, чтобы спасти свой народ любой ценой.
Если доблестные рыцари были символами добра, закона, мира и порядка внушающими веру в светлое будущее, то образы драконов в преданиях служили для изображения хаоса и беззакония, неизбежного для нечестивого человека.
Так простому человеку было проще сопоставить такие понятия как добро и зло.
Легенды – рыцарские романы.
Так же в средние века кроме создания новых мифов имела место переработка уже известных легенд и сказаний в рыцарские романы, песни и баллады. В рамках жанра рыцарский роман были проработаны многие мифы. Примером тому служит придание, переработанное в роман «Тристан и Изольда». Это произведение повествующее о верной любви и о трагедиях выпавших на долю влюблённых, а самое главное о том как они воссоединились (терновым кустом) после своей смерти.
Тристан, королевич Лоонуа, рано стал сиротой и попал ко двору своего дяди, короля Марка, заботливо воспитавшего его и намеревавшегося сделать его своим преемником. Юный Тристан оказывает своей новой родине большую услугу, убив ирландского великана Морхульта выйдя с ним один на один, взимавшего с Корнуэльса живую дань. Сам тяжко раненый отравленным оружием Морхульта, Тристан садится в ладью и плывет в поисках исцеления, которое он получает в Ирландии от белокурой принцессы Изольды, искусной во врачевании. Позже, когда вассалы понуждают Марка жениться для получения законного наследника, Тристан добровольно ищет ему невесту и привозит Изольду. Но в пути он с нею выпивает по ошибке любовный напиток, который ей дала мать для обеспечения прочной любви между нею и мужем. На корабле между Тристаном и Изольдой возникает любовь. Перед свадьбой Тристан переживает и обращается за советом к своему воспитателю Горвеналу. Тот говорит, что в первую ночь следует погасить все свечи и подложить к королю Бранжьену, служанку Изольды. Так они и поступают. Тристан и Изольда связаны любовью столь же сильной, как жизнь и смерть. Между ними происходит ряд тайных свиданий, но наконец, они изобличены и осуждены. Они бегут и долго скитаются в лесу. Затем Марк прощает их и возвращает Изольду ко двору, но велит Тристану уйти. Тристан уезжает в Британию и совершает там череду подвигов. У короля Британии есть сыновья Каэрдин и Ривален, и дочь Изольда Белорукая. Однажды во сне Тристан произносит вслух признание любви своей Изольде. Каэрдин же уверен, что Тристан говорит о его сестре, Изольде Белорукой. Он рассказывает об этом своему отцу, и тот с огромной радостью отдает Тристану свою дочь, Тристан же не смеет отказаться. Был устроен свадебный пир — однако, верный своему чувству к первой Изольде, Тристан не сближается с женой. В один день Тристан ранен отравленным оружием и просит Каэрдина, сына Британского короля, отправиться к белокурой Изольде с мольбой приехать и побеседовать последний раз в своей жизни с любимой. Они условились, что если Каэрдину удастся привезти Изольду, на его корабле будет выставлен белый парус, в противном случае — чёрный (Сюжет встречающийся в античном мифе про царя Эгея). Ревнивая жена Тристана, проведав об этом, в последний момент говорит умирающему Тристану, что показался корабль с чёрным парусом. Тристан поворачивается к стенке и произносит: «Я больше не могу сдерживать свою жизнь», трижды выкрикивает «Изольда, дорогая!» и незамедлительно умирает. Изольда сходит на берег, ложится рядом с телом Тристана и умирает от горя по любимому. Их хоронят в двух соседних могилах по обе стороны апсиды храма в Тинтагеле, и терновник, зелёный и крепкий, благоухающий цветами, за ночь перекидывается через часовню и уходит в могилу Изольды. Трижды рубят терновник горожане и трижды он вырастает. Впоследствии, король Марк узнает об этом чуде и запрещает когда-либо срезать терновники. Король Марк хотел оставить при себе Горвенала с Бранжьеной, но они не пожелали остаться. Горвенал стал королем Лоонуа, наследником которого был Тристан, а Бранжьена — его женой и королевой.
Эта легенда связала воедино все понятия того времени о любви, взятые из нескольких мифов, но основой послужил одна конкретная легенда кельтских племён. На протяжении средних веков этот роман многократно видоизменялся, но основная концепция мифа оставалась неизменна. Роль данного произведения проста и важна одновременно. Роман стал своего рода образцом высоких отношений между мужчиной и женщиной, образцом верности и благочестия, к которому стремились. Он стал на долгое время своего рода законодателем любовных отношений.
Мифы как способ пропаганды праведной жизни.
В период позднего средневековья мифология как таковая была объявлена ересью. Однако некоторое количество мифологических сюжетов было переосмыслено в христианских приданиях. Если хорошенько приглядеться, то можно провести аналогии между преданиями христиан и языческими мифами. Ватикан попросту менял имена участвующих героев и несколько искажал смысл, таким образом, как это было угодно католической церкви. Это можно заметить, рассмотрев миф о Тартаре и библейское описание Ада.
Посредством таких переработанных под свою религию мифов, западная христианская церковь регулировала мышление людей того времени и объясняла необходимость ведения жизни с соблюдением церковной морали.
Средневековые поэты стали продолжателями вергилиевского отношения к мифу как к структуре образов с богатым символическим смыслом, а так же лирической проникновенностью. Именно с этого момента в литературе появляются такие понятия как аллегоризм и символизм.
Самым знаковым произведением написанном в таком мифологическом символизме и с использованием переработанной церковью мифологии, можно считать «Божественную комедию» Данте Алигьери. Она облекала человеческие пороки посредством символов в разного рода мифические проявления.
Согласно краткому повествованию изложенному на сайте Wikipedia — Данте повествует, как он, заблудился однажды в лесу и как поэт Вергилий (образ проводника по загробному миру сопоставимый с образом Анубиса из древнеегипетской мифологии) , избавив его от трёх ужасных зверей, загородивших ему путь, предложил Данте совершить странствие по загробному миру. Узнав, что Вергилий послан Беатриче, умершей возлюбленной Данте, он без трепета отдается руководству поэта.
Ад.
Ад имеет вид колоссальной воронки (схожее строение с древнегреческим Аидом). Пройдя преддверие ада, населённое душами нерешительных, ничтожных людей, они вступают в первый круг ада, так называемый лимб, где пребывают души добродетельных язычников, не познавших истинного Бога. Здесь Данте видит выдающихся представителей античной культуры — Аристотеля, Эврипида, Гомера и др. Следующий круг заполнен душами людей, некогда предававшихся необузданной страсти. Среди носимых диким вихрем Данте видит Франческу да Римини и её возлюбленного Паоло, павших жертвой запретной любви друг к другу. По мере того как Данте, сопутствуемый Вергилием, спускается всё ниже и ниже, он становится свидетелем мучений чревоугодников, принужденных страдать от дождя и града, расточителей и скупцов, без устали катящих огромные камни (миф о Сизифовых муках), гневливых, увязающих в болоте(миф о царе Тантале). За ними следуют объятые вечным пламенем (миф о пламени Тартара) еретики и ересиархи, тираны и убийцы, плавающие в потоках кипящей крови, самоубийцы, превращённые в растения, богохульники и насильники, сжигаемые падающим пламенем (миф о гневе Зевса), обманщики всех родов, муки которых весьма разнообразны. Наконец Данте проникает в последний, 9-й круг ада, предназначенный для самых ужасных преступников. Здесь обитель предателей и изменников, из них величайшие — Иуда Искариот, Брут и Кассий, — их грызёт своими тремя пастями Люцифер (миф о Цербере), восставший некогда на Бога ангел, царь зла, обречённый на заключение в центре земли. Описанием страшного вида Люцифера заканчивается последняя песнь первой части поэмы.
Чистилище.
Миновав узкий коридор, Данте и Вергилий выходят на поверхность земли. Там, на середине окружённого океаном острова, высится в виде усечённого конуса гора — чистилище, подобно аду состоящее из ряда кругов, которые сужаются по мере приближения к вершине горы. Охраняющий вход в чистилище ангел пропускает Данте в первый круг чистилища, начертав предварительно у него на лбу мечом семь P (Peccatum — грех), то есть символ семи смертных грехов. По мере того как Данте поднимается всё выше и выше, минуя один круг за другим, эти буквы исчезают, так что когда Данте, достигнув вершины горы, вступает в расположенный на вершине последней «земной рай»(миф о переходе в мир богов на горе Олимп). Вергилий доводит Данте до врат рая, куда ему, как не знавшему крещения с детства, нет доступа.
Рай.
В земном раю Вергилия сменяет Беатриче, восседающая на влекомой грифом колеснице (аллегория торжествующей церкви); она возносит просветлённого Данте на небо. Заключительная часть поэмы посвящена странствованиям Данте по небесному раю. Последний состоит из семи сфер, опоясывающих землю и соответствующих семи планетам: сферы Луны, Меркурия, Венеры и т. д., за ними следуют сферы неподвижных звёзд и хрустальная, — за хрустальной сферой расположен Эмпирей, — бесконечная область, населённая блаженными, созерцающими Бога, — последняя сфера, дающая жизнь всему сущему. Данте видит Христа и деву Марию, ангелов и, наконец, перед ним раскрывается «небесная Роза» — местопребывание блаженных. Здесь Данте приобщается высшей благодати (напоминает описание Елисейских полей у древних греков), достигая общения с Создателем.
Из всего выше упомянутого можно сделать вывод, что в период позднего средневековья мифология стала своего рода пропагандой праведного (по версии церкви) образа жизни. Для переработки в основном использовались греческие и кельтские мифы как эталон описания бренности грешников и божественных даров, ожидающих праведников. А помимо того мифы давали неугасающую надежду неимоверно измождённому в те времена простому люду.
Мифология и Эпоха Возрождения.
Во времена эпохи Возрождения мифология вновь расцветает и становится кладовой сюжетов для любых проявлений культуры. Она опять становится стержнем большинства культурных направлений таких как: архитектура, скульптура, живопись, философия и конечно же литература. Но теперь основной ролю мифа стало проявление образа идеалов человека как физических (что отчётливо видно в скульптуре и живописи), так и духовных (проявляется в философских трактатах с использованием образов античных героев и в художественной литературе.)
Мифология в изобразительном искусстве эпохи Возрождения.
Все герои мифов изображались как совершенные люди, их пытались изобразить с соблюдением всех эталонных пропорций того времени.
В живописи примерами такого использования мифов могут являться такие работы Сандро Боттичелли как: «Рождение Венеры», «Венера и Марс», «Паллада и Кентавр» и «Весна». На этих картинах изображены боги в виде эталонов физического тела.
В скульптуре эталонами считаются такие произведения Микеланджело как к примеру «Битва кентавров».
Из этого можно сделать вывод, что в эпоху Возрождения мифология стала одним из векторов развития художественной культуры.
Мифы и литература
Одним из примеров обработки мифов в эпоху возрождения моно считать величайшую поэму позднего возрождения, написанную Уильямом Шекспиром – «Венера и Адонис».
«Венера и Адонис» — эротическая поэма, переработка «Метаморфоз» Овидия (книги 10). Овидий описал историю того, как Венера нашла своего первого любовника среди смертных. Их отношения длились долгое время; богиня часто предупреждала своего возлюбленного об опасностях охоты. Но Адонис был слишком увлечен охотой и не слушал её советов, и однажды во время охоты Адониса убил дикий вепрь.
У Шекспира всё почти так же, лишь с малыми изменениями. Его поэма это образец литературного классицизма (Одно место, одно время, всего два главных героя): Адонис готовится к охоте; Венера всячески пытается соблазнить его. Между ними разгорается страсть, но Адонис полагает, что он слишком юн для любовных романов и ему интереснее охота. Вскоре Адонис погибает из-за несчастного случая во время охоты.
Эротическое произведение «Венеры и Адониса» — самое откровенное во всём шекспировском творчестве. Поэма имеет в наличии сложную структуру с использованием меняющегося тона, а так же перспективы с целью отражения различающихся взглядов на суть любви. Данное произведение стало образом идеалов чувственности отношений и любовных утех. Мифологическая основа произведения поспособствовала более яркой передаче смысла и образов, а так же позволила обыграть происходящее как нечто более возвышенное (отношения богини и смертного).
Помимо этого можно считать превосходным использованием мифов при написании пьесы, такое произведение как «Сон в летнюю ночь», где используются элементы кельтской и скандинавкой мифологий. Эта пьеса представляет собой три сюжетные линии, пересекающиеся между собой по ходу повествования и связанные между собой грядущей свадьбой Афинского герцога Тезея и царицы Ипполиты.
Согласно краткому изложению, взятому с сайта Wikipedia — двое молодых людей, Лизандр и Деметрий, добиваются руки одной из красивейших девушек Афин, Гермии. Гермия любит Лизандра, но отец запрещает ей выйти за него замуж, и тогда влюблённые решают бежать из Афин, чтобы обвенчаться там, где их не смогут найти. Подруга Гермии, Елена, из любви к Деметрию выдает ему беглецов. Взбешённый Деметрий бросается за ними в погоню, Елена устремляется за ним. В сумерках леса и лабиринте их любовных взаимоотношений с ними происходят чудесные метаморфозы. По вине лесного духа Пака, путающего людей, волшебное зелье заставляет их хаотически менять предметы любви. В один момент Лизандр влюбляется в Елену и бросает свою Гермию, заметив ошибку. Пак капает в глаза волшебным зельем Деметрию. И уже борьба происходит за Елену, а она же, думая, что это все какая-то глупая шутка, обижается на них, Гермия начинает ревновать своего возлюбленного к своей подруге. Тогда ошибка Пака угрожает жизни героев, но дух все исправляет, и молодым людям кажется сном все, что произошло. Эта сюжетная линия заканчивается свадьбой Елены и Деметрия, а также Гермии и Лизандра.
В то же время царь фей и эльфов Оберон и его супруга Титания, находящиеся в ссоре, прилетают в тот же лес вблизи Афин, чтобы присутствовать на брачной церемонии Тезея и Ипполиты. Причина их размолвки — мальчик-паж Титании, которого Оберон хочет взять к себе в помощники, но Титания не позволяет ему забрать мальчика. Оберон дает задание шкодливому лесному духу Паку найти волшебное любовное зелье и накапать его царице фей, чтобы она влюбилась в первого, кого увидит после такого, как проснется. Плутишка Робин выполняет его, и Титания влюбляется в Мотка, проводит с ним время, но потом Оберон дает ей противоядие. Титания не верит, что могла полюбить такого как Моток с ослиной головой, она мирится с супругом и отдает ему своего пажа.
И одновременно группа афинских ремесленников готовит к свадебному торжеству пьесу о несчастной любви Пирама и Фисбы, и отправляется в лес репетировать пьесу. Когда они комично играют трагическую пьесу, по вине Пака Моток, ткач в пьесе играющий Пирама, возвращается к другим актерам с ослиной головой, все пугаются его вида и убегают. А Титания, как только просыпается, видит Мотка и бездумно влюбляется в него. Перед Мотком открывается необыкновенный мир фей и эльфов, но когда все это заканчивается, он думает, что это был всего лишь обыкновенный сон.
В данном случае мифология просто позволила автору воплотить свой замысел. Используя мифических персонажей, Шекспиру удалось объяснить наличие сверхъестественных сил в пьесе. Так что роль мифа в данной ситуации не более чем вспомогательная.
Мифы в XVII –XIX века.
В это время мифы постепенно забываются и уже перестают вдохновлять живописцев и писателей. Уже не встретишь в современной литературе отсылок на мифологию. Но зато мифы становятся интересной темой для композиторов. Взять, к примеру, Рихарда Вагнера, настолько вдохновлённого сюжетами мифов, что это вдохновение побудило его к созданию таких шедевров мировой классики как: «Кольцо нибелунга», «Тристан и Изольда» и самая известная композиция – «Валькирия». При создании этих произведений была использована германо-скандинавская и кельтская мифология.
Но всё равно с этого времени, с уверенностью можно было говорить о потери актуальности мифов. С этого периода мифологию начинают воспринимать как нечто несерьёзное, нечто увеселительное и не более.
Новое осмысление мифологи в XX и до наших дней.
Новым осмыслением мифологии сейчас называют появление жанра фентези, родоначальником которого является Джон Рональд Руэл Толкин. Многие авторы писали произведения в жанре фэнтези и до Толкина, однако из-за огромной популярности и большого влияния на жанр многие считают именно Толкина «отцом» современной фэнтези-литературы.
По определению сайта Wikipedia — Фэнтези — это жанр фантастической литературы, основанный на использовании мифологических мотивов. В нём перемешались мифологии разных народов и разных временных промежутков.
Ярчайшим примером великолепного фентези является повесть Д. Толкина – «Хоббит, или Туда и обратно», а так же трилогия «Властелин колец». При написании данных произведений автор руководствовался Германо-скандинавской мифологией, а так мифами об Артуре.
Все имена персонажей и описания мифологических рас, всё это было взято из скандинавских и кельтских мифов. Кроме того, в повести описываются, обыгрываются и повторяются основные сюжеты мифов. К примеру, эпизод, в котором белый колдун Гэндальф запутывает троллей, чтобы рассвет обратил их в камень, почти точно повторяет сцену из Эдд, где так поступил Тор с Альвисом. Как и во «Властелине Колец», использован взятый из легенд об Артуре мотив возвращения законного наследника престола.
Автору удалось одновременно создать атмосферу средневекового мифа и пропустить её через призму сознания человека XX века, где немалое место занимает ирония и переосмысление традиций прошлого. Ярким примером служит экспрессивное повествование одного из главных героев, о том, как один из его воинственных предков снёс своей палицей голову предводителю гоблинов: «Она пролетела сто метров по воздуху и угодила прямо в кроличью нору; таким образом, была выиграна битва и изобретена игра в гольф», — подводит итог рассказчик.
Этот жанр притягивает внимание большинства людей уже второй век подряд. Но, к сожалению так и не считается достаточно серьёзным жанром. Он служит для развлечения читателя своею сюжетной линией и глубиной передачи чувств автора.
Но помимо высокого фентази в наше время существует и множество второсортных произведений лишь отдалённо напоминающих хорошую художественную литературу. И если произведения таких деятелей фентези как Толки, Пратчетт и др. способны обогатить внутренний мир читателя, то эти написанные на скорую рук, для собственного обогащения «бестселлеры», способны вызывать лишь чувство разочарования у читателя своею дикостью и плохим написанием. Не говоря уже о потраченном на прочтение такого литературного мусора времени.
Что же касательно мифологии в классическом её варианте, то, к сожалению, ныне она почти забыта и приравнена к уровню детских сказок. Современному человеку они уже не интересны.
Роль мифологии стала незначительна по сравнению с предыдущими эпохами. Можно сказать, что мифы, такие как они, были в древности или средневековье, уже почти забыты как литературный жанр и за частую изучаются только в рамках школьной программы. Но зато активно используются в таких областях современной культуры как кинематограф (фильмы «Гнев титанов», «Бтва богов»), гейм производство (видео игры «Viking — Battle for Asgard» и «God of War»), анимационное производство (в основном японская мультипликация, построенная на использовании местного фольклора).
Глава 2
Исследовательская часть
Анкетирование студентов на предмет знания мифологии
Анкетирование было проведено среди всех групп первого курса, им были выданы анкеты, состоящие из четырёх вопросов следующего содержания:
-
Знаете ли вы какие – либо мифы?
-
Если знаете то какие?
-
Какой смысл вы видите в их сюжете?
-
Как вы думаете какова роль мифов? (а- поучительная; б- развлекательная; в- описание какого – то реального события; г- объяснение чего – либо непонятного древнему человеку)
В анкетировании участвовали 180 человек
Результаты анкетирования показали следующие данные:
Знанием мифологии могут гордиться 90% опрошенных, остальные 10% не знают мифов.
Ответы на второй вопрос показали, что студенты знающие мифы, знают: мифы о происхождении Земли — 22%, мифы о сотворении человека — 3%, героические мифы – 79%, поучительные мифы – 5%, объясняющие окружающую природу – 1.5%
Студенты видят в них следующий смысл: высмеивание людских пороков – 5%; объяснение чего – то сверх естественного и не познанного – 34%; превозношение богов и героев – 40%; затрудняются ответить – 21%.
На четвёртый вопрос студенты ответили следующим образом: поучительная роль – 40%; развлекательная роль – 21%; описательная роль – 30%; объяснительная роль – 9%.
После анкетирования лишь 20% студентов призналась, что они увлекались мифами вне рамок обучения. Остальные заявили, что считают мифологию достаточно скучной, и скорее всего не стали бы изучать её без необходимости.
Анкетирование людей старшего возраста на предмет знания мифологии
В нём участвовала группа из 65 человек в возрасте от 35 до 65 лет. Этой группе были предложены те же вопросы, что и предыдущей.
Результаты анкетирования показали следующие данные:
Около 72% опрошенных людей, знают какие – либо мифы, остальные 28% либо не знают, либо уже давно забыли.
Ответы на второй вопрос показали, что участники анкетирования, знакомые с мифологией знают: мифы о происхождении Земли – 8%; геройские мифы – 85%; поучительные мифы – 14%.
Опрошенные видят в них следующий смысл: превозношение богов и героев – 91%, объяснение чего – то сверх естественного и не познанного – 9%.
На четвёртый вопрос люди ответили следующим образом: поучительная роль – 81%; развлекательная роль – 17%; описательная роль – 0%; объяснительная роль – 4%.
Анкетирование выбранной группы людей на предмет восприятия роли мифологии в развитии культуры человечества
Из опрошенных ранее людей, знающих мифологию, была составлена общая группа. Этой группе была предложена следующая анкета:
-
Как вы считаете, какую историческую эпоху можно считать расцветом мифологии?
-
Повлияла ли мифология на развитие культуры?
-
Как вы считаете, на какую сферу культуры мифологией было оказано большее влияние?
-
Актуальна ли мифология в нынешние времена?
Вот что показали результаты данного анкетирования:
1 вопрос
2 вопрос
3 вопрос
4 вопрос
Вывод исследования
Как показало последнее анкетирование, 90 процентов людей полагают, что расцвет мифологии пришёлся на античный период истории, и не один человек не считает, что нынешние время можно назвать расцветом мифов. Все участники анкетирования уверенны, что мифология повлияла на развитие культуры. Причём 70 процентов полагают, что повлияло именно на художественно изобразительную сферу, и 30 процентов считают, что влияние мифология оказывала именно на духовную сферу культуры человека. 90 процентов людей заявили, что мифология нынче не актуальна и только 10 процентов ещё считают мифы интересными для общества.
Заключение
Как видно из исследования, мифы — это далеко не просто сказки из древности, или как многие говорят детские сказки, они несут довольно обширный образный смысл, способный поучать, расширять кругозор, организовывать мышление масс, внушать надежду и стремление к идеалам. На протяжении многих веков мифология сохраняла свой значимый статус среди всех слоев людей, начиная от простого люда и заканчивая привилегированными особами.
Проведённый анализ показал невероятно важную роль мифологии в развитии культуры человечества. В разные исторические периоды мифология в разной мере оказывала влияние на различные сферы культурного мира. И пусть со временем мифы стали не так влиятельны, зато они переросли со временем во вполне самостоятельный жанр художественной литературы. А так же стали оказывать сильное влияние на некоторые проявления современной культуры.
Не следует забывать и о том, что если бы не мифические сюжеты, то мы бы никогда не увидели величайших шедевров мирового изобразительного искусства, не смогли бы восхищаться очень тонкими и точными сравнениями философов, в их глубокомысленных трактатах.
Но как видно из проведённого нами в рамках данной работы исследования, большинство сейчас считает, что мифология уже не способна научить чему либо, заинтриговать сюжетом, вызвать какие либо глубокие чувства, обогатить моральный облик читателя. Но это нисколько не так. Наоборот в ней находится бездна знаний и чувств, накапливаемых поколениями. И для того что бы прочувствовать всю мифологию, достаточно всего лишь вдумчиво прочесть и проникнуться фольклором древности и средних веков, а так же художественными переработками мастеров эпохи возрождения и современности. И тогда читателю сразу откроется чудесный мир великолепных образов, сравнений и облечённой в них морали, нравственности и идеалов всеобщих взаимоотношений.
И пусть сейчас мифология находится в забвении, но не стоит забывать, что когда-то она сыграла важнейшую роль для человека и формирования богатого культурного наследие. Именно поэтому мифология обязана занять свое законное место на литературном пантеоне.
Хотелось бы пожелать вам, не забывать мифологию, и черпать от туда всё самое хорошее! Ведь главная задумка данной работы была в том, чтобы позволить читателю в полной мере оценить и понять мифологию, заинтересовать, а возможно даже и заинтриговать.
Список источников:
1. В. Вагнер; «Норвежские, кельтские и тевтонские легенды»; Москва «Центрполиграф», 2009
2. В. Успенский; Л Успенская. «Мифы, легенды, сказания»; Москва «Дрофа плюс», 2004.
3. Лосев А.Ф. «Античная мифология в ее историческом развитии»; Москва «Учпедгиз», 1957
4. «Король Артур и рыцари круглого стола» серия детский мир; Санкт Петербург «Амфора» 2004
5. «Старшая Эдда» серия Азбука-классика; Азбука-классика
6. «Кельтская мифология» серия Тайны древних цивилизаций; Москва «Эксмо», 2005
7. Интернет-ресурс: http://ru.wikipedia.org/
8. Интернет-ресурс: http://godsbay.ru/
Постоянное взаимодействие Л. и м. протекает непосредственно, в форме «переливания» мифа в литературу, и опосредованно: через изобразительные искусства, ритуалы, народные празднества, религиозные мистерии, а в последние века — через научные концепции мифологии, эстетические и философские учения и фольклористику. Особенно активно это взаимодействие совершается в промежуточной сфере фольклора (см. Сказки и мифы). Народная поэзия по типу сознания тяготеет к миру мифологии, однако, как явление искусства, примыкает к литературе. Двойная природа фольклора делает его в данном отношении культурным посредником, а научные концепции фольклора, становясь фактом культуры, оказывают большое влияние на процессы взаимодействия Л. и м.
Соотношение мифа и художественной письменной литературы может рассматриваться в двух аспектах: эволюционном и типологическом. Эволюционный аспект предусматривает представление о мифе как определённой стадии сознания, исторически предшествующей возникновению письменной литературы. Литература с этой точки зрения имеет дело лишь с разрушенными, реликтовыми формами мифа и сама активно способствует этому разрушению. Миф и стадиально сменяющие его искусство и литература подлежат лишь противопоставлению, поскольку никогда во времени не сосуществуют. Типологический аспект подразумевает, что мифология и письменная литература сопоставляются как два принципиально различных способа видения и описания мира, существующих одновременно и во взаимодействии и лишь в разной степени проявившихся в те или иные эпохи. Для мифологического сознания и порождаемых им текстов характерна прежде всего недискретность, слитность, изо- и гомоморфичность передаваемых этими текстами сообщений.
То, что с точки зрения немифологического сознания различно, расчленено, подлежит сопоставлению, в мифе выступает как вариант (изоморф) единого события, персонажа или текста. Очень часто в мифе события не имеют линейного развёртывания, а только вечно повторяются в некотором заданном порядке; понятия «начала» и «конца» к ним принципиально не применимы (см. Цикличность}. Так, например, представление о том, что повествование «естественно» начинать с рождения персонажа (бога, героя) и кончать его смертью (и вообще выделение отрезка между рождением и смертью как некоторого значимого сегмента), по-видимому, принадлежит немифологической традиции. В повествовании мифологического типа цепь событий: смерть — тризна — погребение раскрывается с любой точки и в равной мере любой эпизод подразумевает актуализацию всей цепи. Принцип изоморфизма, доведённый до предела, сводил все возможные сюжеты к единому сюжету, который инвариантен всем мифоповествовательным возможностям и всем эпизодам каждого из них. Всё разнообразие социальных ролей в реальной жизни в мифах «свертывалось» в предельном случае в один персонаж. Свойства, которые в немифологическом тексте выступают как контрастные и взаимоисключающие, воплощаясь во враждебных персонажах, в пределах мифа могут отождествляться в едином амбивалентном образе.
В архаическом мире тексты, создаваемые в мифологической сфере и в сфере повседневного быта, были отличными как в структурном, так и в функциональном отношениях. Мифологические тексты отличались высокой степенью ритуализации и повествовали о коренном порядке мира, законах его возникновения и существования. События, участниками которых были боги или первые люди, родоначальники и т. п., единожды совершившись, могли повторяться в неизменном круговращении мировой жизни. Закреплялись эти рассказы в памяти коллектива с помощью ритуала, в котором, вероятно, значительная часть повествования реализовывалась не с помощью словесного рассказывания, а сверхъязыковыми средствами: путем жестовой демонстрации, обрядовых игровых представлений и тематических танцев, сопровождаемых ритуальным пением. В первоначальном виде миф не столько рассказывался, сколько разыгрывался в форме сложного ритуального действа. Тексты, обслуживающие каждодневные практические нужды коллектива, напротив, представляли собой чисто словесные сообщения. В отличие от текстов мифологического типа, они рассказывали об эксцессах (подвигах или преступлениях), об эпизодическом, о повседневном и единичном. Рассчитанные на мгновенное восприятие, они в случае необходимости закрепить в сознании поколений память о каком-либо важном эксцессе мифологизировались и ритуализировались. С другой стороны, мифологический материал мог быть прочитан с позиции бытового сознания. Тогда в него вносилась дискретность словесного мышления, понятия «начала» и «конца», линейность временной организации. Это приводило к тому, что ипостаси единого персонажа начинали восприниматься как различные образы. По мере эволюции мифа и становления литературы появились трагические или божественные герои и их комические или демонические двойники. Единый герой архаического мифа, представленный в нём своими ипостасями, превращается во множество героев, находящихся в сложных (в том числе кровосмесительных) отношениях, в «толпу» разноимённых и разносущностных богов, получающих профессии, биографии и упорядоченную систему родства. Как реликт этого процесса дробления единого мифологического образа в литературе сохранилась тенденция, идущая от Менандра, александрийской драмы, Плавта и через М. Сервантеса, У. Шекспира и романтиков, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, дошедшая до романов 20 в.,- снабдить героя спутником-двойником, а иногда и целым пучком спутников.
Постепенное возникновение области конвергенции мифологических и историко-бытовых нарративных текстов привело, с одной стороны, к потере в этой сфере промежуточных текстов сакрально-магической функции, свойственной мифу, и с другой,- к сглаживанию непосредственно практических задач, присущих сообщениям второго рода. Усиление за счёт развития дискретно-словесных средств выражения моделирующей функции и значения эстетических установок, прежде игравших лишь подчинённую роль по отношению к сакральным или практическим задачам (применительно к мифу нельзя говорить о собственно художественных приёмах, средствах выразительности, стиле и т. п.), появление ввиду дробления единого мифологического образа сюжетного языка привели к рождению художественного повествования, знаменующему собой начало истории искусства и литературы.
Если в дописьменную эпоху доминировало мифологическое (континуально-циклическое и изоморфическое) сознание, то в период письменных культур оно оказалось почти подавленным в ходе бурного развития дискретного логико-словесного мышления. Однако именно в области искусства и литературы воздействие мифо-поэтического сознания, неосознанное воспроизводство мифологических структур продолжает сохранять своё значение, несмотря на, казалось бы, полную победу принципа историко-бытовой нарративности. Некоторые виды и жанры художественной литературы — эпос (см. Эпос и мифы), рыцарский и плутовской роман, циклы «полицейских» и детективных новелл — особенно тяготеют к «мифологичности» художественного построения. Оно обнаруживается, в частности в переплетении повторов, подобий и параллелей. Целое в них отчётливо изоморфно эпизоду, а все эпизоды — некоему общему инварианту. Так, например, в «Тристане и Изольде» все боевые эпизоды (бой Тристана с Морольтом Ирландским, бой с ирландским драконом, бой с великаном) представляют варианты единого боя, а анализ боя Тристана с Изольдой раскрывает ещё более сложное подобие боевых и любовных сцен. В плутовских и приключенческих романах сюжет приобретает характер бесконечного наращивания однотипных эпизодов, построенных по инвариантной модели (ср. «Молль Флендерс» Д. Дефо, где длинная цепь замужеств и любовных приключений героики, нанизываемых одно за другим, есть не что иное, как циклическая повторяемость мифопоэтического сознания, непроизвольно диктующего автору свои законы в противоречии с протокольной, сухой ориентацией на бытовое, фактическое правдоподобие, характерное для поэтики этого романа в целом). Мифологическая сущность литературных текстов, распадающихся на изоморфные, свободно наращиваемые эпизоды (серии новелл о сыщиках, неуловимых преступниках, циклы анекдотов, посвящённых определённым историческим лицам, и т. п.), сказывается и в том, что их герой предстаёт демиургом некоего условного мира, который, однако, навязывается аудитории в качестве модели реального мира. С этим связан феномен высокой мифогенности кинематографа во всех его проявлениях — от массовых коммерческих лент до шедевров киноискусства. Главная причина здесь — в синкретизме художественного языка кино, в высокой значимости в этом языке недискретных элементов. Немаловажную роль, однако, играет и непроизвольная циклизация различных фильмов с участием одного и того же актёра, заставляющая воспринимать их как варианты некой единой роли, инвариантной модели характера. Когда же фильмы циклизуются не только актёром, но и общим героем, возникают подлинные киномифы и киноэпосы, подобные созданному Чаплином — в антитезе голливудскому мифу об успехе, в центре которого неизменно стоял «человек удачи»,- мифу о неудачнике, грандиозному эпосу о неумелом, но добивающемся своего, «невезучем» человеке.
Наряду со спонтанными, возникающими помимо субъективной ориентации авторов влияниями мифологического сознания на творческий процесс, каждая эпоха в истории искусства характеризуется определённым осознанием соотношения искусства и мифологии. Функциональная противопо-ставленность Л. и м. оформляется в эпоху письменности. Древнейший пласт культуры после возникновения письменности и создания античных государств характеризуется непосредственной связью искусства и мифологии. Однако функциональное различие, сказывающееся на этом этапе особенно остро, определяет то, что связь здесь неизменно оборачивается переосмыслением и борьбой. Мифологические тексты, с одной стороны, являются в этот период основным источником сюжетов в искусстве. Однако, с другой стороны, архаическая мифология мыслится как нечто докультурное и подлежащее упорядочению, приведению в систему, новому прочтению. Это прочтение осуществляется с позиций сознания, уже чуждого континуально-циклическому взгляду на мир. Мифы превращаются в множество волшебных рассказов, историю о богах, повествования о демиургах, культурных героях и родоначальниках, трансформируются в линейные эпосы, подчинённые движению исторического времени. Именно на этом этапе такие повествования иногда приобретают характер рассказов о нарушениях основных запретов, налагаемых культурой на поведение человека в социуме,- запретов на инцест и убийство родственников: умирающий — рождающийся герой может предстать как два лица — отец и сын, и самоотрицание первой ипостаси ради второй может стать отцеубийством. «Непрерывный» брак умирающего и возрождающегося героя обращается в некоторых сюжетах в кровосмесительный союз сына и матери. Если прежде разъятие тела и ритуальное мучение было почётным актом — ипостасью ритуального оплодотворения и залогом будущего возрождения, то теперь оно обращается в позорную пытку (переходный момент запечатлен в повествованиях о том, как ритуальная пытка — разрубание, варение — в одних случаях приводит к омоложению, а в других — к мучительной смерти; ср. миф о Медее, «Народные русские легенды» А. Н. Афанасьева, №№ 4- 5, концовку «Конька-Горбунка» П. П. Ершова и др.). Мифологическое повествование об утверждённом и правильном порядке жизни превратилось при линейном прочтении в рассказы о преступлениях и эксцессах, создавая картину неупорядоченности моральных норм и общественных отношений. Это позволяло мифологическим сюжетам наполняться разнообразным социально-философским содержанием.
Поэты греческой архаики подвергают мифы решительной переработке, приведя их в систему по законам рассудка (Гесиод — «Теогония»), облагородив по законам морали (Пиндар). Влияние мифологического мировосприятия сохраняется в период расцвета греческой трагедии (Эсхил — «Прикованный Прометей», «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды», составляющие трилогию «Орестея», и др.;
Софокл — «Антигона», «Эдип-царь», «Электра», «Эдип в Колоне» и др.; Еврипид — «Ифигения в Авлиде», «Медея», «Ипполит» и др.). Оно сказывается не только в обращении к мифологическим сюжетам: когда Эсхил создаёт трагедию на исторический сюжет («Персы»), он мифологизирует саму историю. Трагедия через вскрытие смысловых глубин мифологии (Эсхил) и её эстетическую гармонизацию (Софокл) приходит к рационалистической критике её основ (Еврипид). Своего рода совпадение противоположностей в подходе к мифологии, характерное для всей греческой классики, проявилось у Аристофана в сочетании глубинной приверженности к мифологическим мотивам и архетипам с предельно дерзкой насмешкой над мифами.
Новые типы отношения к мифам даёт римская поэзия. Вергилий («Энеида») связывает мифы с философским осмыслением истории, с религиозно-философской проблематикой, причём выработанная им структура образа во многом предвосхищает христианские мифологемы (перевес символической значимости образа над его образной конкретностью). Овидий («Метаморфозы»), напротив, отделяет мифологию от религиозного содержания. У него совершается до конца сознательная игра с «заданными» мотивами, превращёнными в унифицированную систему, по отношению к отдельному мифу допускается любая степень иронии или фривольности, но система мифологии как целое сохраняет «возвышенный» характер.
С христианством в кругозор средиземноморского и затем общеевропейского мира вошла мифология специфического типа (см. Христианская мифология). Литература средних веков возникает и развивается на почве языческой мифологии «варварских» народов (народно-героический эпос), с одной стороны, и на основе христианства — с другой. Влияние христианства становится преобладающим. Хотя античные мифы не забываются в средние века, для средневекового искусства характерно отношение к мифу как к порождению язычества. Именно в это время языческая мифология начинает отождествляться с нелепой выдумкой, а слова, производные от понятия «миф», окрашиваются в отрицательные тона. Вместе с тем исключение мифа из области «истинной» веры в известной мере облегчило проникновение его как словесно-орнаментального элемента в светскую поэзию. В церковной же литературе мифология, с одной стороны, проникала в христианскую демонологию, сливаясь с ней, а с другой — привлекалась как материал для разыскания в языческих текстах зашифрованных христианских пророчеств. Целенаправленная демифологизация христианских текстов (т. е. изгнание античного элемента) на самом деле создавала исключительно сложную мифологическую структуру, в которой новая христианская мифология (во всём богатстве её канонических и апокрифических текстов), сложная смесь мифологических представлений римско-эллинистического Средиземноморья, местные языческие культы новокрещённых народов Европы выступали как составные элементы диффузного мифологического континуума. Образы христианской мифологии претерпевали нередко самые неожиданные модификации (напр., Иисус Христос в древнесаксонской эпической поэме «Гелианд» предстаёт в виде могущественного и воинственного монарха).
Возрождение создавало культуру под знаком секуляризации и дехристианизации. Это привело к резкому усилению нехристианских компонентов мифологического континуума. Эпоха Возрождения породила две противоположные модели мира: оптимистическую, тяготеющую к рационалистическому, умопостигаемому объяснению космоса и социума, и трагическую, воссоздающую иррациональный и дезорганизованный облик мира (вторая модель непосредственно «втекала» в культуру барокко). Первая модель строилась на основе рационально упорядоченной античной мифологии, вторая активизировала «низшую мистику» народной демонологии в смеси с внеканонической ритуалистикой эллинизма и мистицизмом побочных еретических течений средневекового христианства. Первая оказывала определяющее влияние на официальную культуру Высокого ренессанса. Сплав в единое художественное целое мифов христианства и античности с мифологизированным материалом личной судьбы осуществил в «Божественной комедии» Данте. Литература Возрождения восприняла овидиевский стиль похода к мифам, но при этом он впитал напряжённое антиаскетическое
настроение («Фьезоланские нимфы» Дж. Боккаччо, «Сказание об Орфее» А. Полициано, «Триумф Вакха и Ариадны» Л. Медичи и др.). В ещё большей степени, чем в «книжной» литературе, миф просматривается в народной карнавальной культуре, которая служила промежуточным звеном между первобытной мифологией и художественной литературой. Живые связи с фольклорно-мифологическими истоками сохранялись в драме эпохи Возрождения (напр., «карнавальность»» драматургии У. Шекспира — шутовской план, увенчания — развенчания и т. д.). У Ф. Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль») нашли яркое проявление традиции народной карнавальной культуры и (шире) некоторые общие особенности мифологического сознания (отсюда — гиперболический, космический образ человеческого тела с оппозициями верха — низа, «путешествиями» внутри тела и т. д.). Вторая модель сказывалась в сочинениях Я. ван Рёйсбрука, Парацельса, видениях А. Дюрера, образах X. Босха, М. Нитхардта, П. Брейгеля Старшего, культуре алхимии и пр.
Библейские мотивы характерны для литературы барокко (поэзия А. Грифиуса, проза П. Ф. Кеведо-и-Вильегаса, драматургия П. Кальдерона), продолжающей наряду с этим обращаться и к античной мифологии («Адонис» Дж. Марино, «Полифем» Л. Гонгоры и др.). Английский поэт 17 в. Дж. Мильтон, пользуясь библейским материалом, создаёт героико-драматические произведения, в которых звучат тираноборческие мотивы («Потерянный рай», «Возвращённый рай» и др.).
Рационалистическая культура классицизма, создавая культ Разума, завершает, с одной стороны, процесс канонизации античной мифологии как универсальной системы художественных образов, а с другой — изнутри «демифологизирует» её, превращая в систему дискретных, логически расположенных образов-аллегорий. Обращение к мифологическому герою (наряду с героем историческим или, вернее,- псевдоисторическим), его судьбе и деяниям типично для «высоких» жанров литературы классицизма, прежде всего — трагедии (П. Корнель — «Медея», «Эдип», Ж. Расин — «Фиваида», «Андромаха», «Ифигения в Авлиде», «Федра», «библейские» драмы — «Эсфирь», «Гофолия»). Пародировавшая классицистские эпопеи бурлескная поэзия нередко тоже использовала мифологические сюжеты («Переодетый Вергилий» французского поэта П. Скаррона, «Энеида, на малороссийский язык переложенная» И. П. Котляревского и др.). Последовательный рационализм эстетики классицизма приводит к формализации приёмов использования мифа.
Литература Просвещения реже пользуется мифологическими мотивами и главным образом в связи с актуальной политической или философской проблематикой. Мифологические сюжеты используются для построения фабулы («Меропа», «Магомет», «Эдип» Вольтера, «Мессиада» Ф. Клопштока) или формулирования универсальных обобщений («Прометей», «Ганимед» и др. произведения И. В. Гёте, «Торжество победителей», «Жалоба Цереры» и др. баллады Ф. Шиллера).
Романтизм (а до него — предромантиэм) выдвинул лозунги обращения от разума к мифу и от рационализированной мифологии греко-римской античности к мифологии национально-языческой и христианской. «Открытие» в сер. 18 в. для европейского читателя скандинавской мифологии, мак-ферсоновский «Оссиан», фольклоризм И. Гердера, интерес к восточной мифологии, к славянской мифологии в России 2-й половины 18 — нач. 19 вв., приведшие к появлению первых опытов научного подхода к этой проблеме, подготовили вторжение в искусство романтизма образов национальной мифологии. При этом романтики обращались и к традиционным мифологиям, но чрезвычайно свободно манипулировали их сюжетами и образами, используя их как материал для самостоятельного художественного мифологизирования. Так, Ф. Гёльдерлин, первым в поэзии нового времени органично освоивший древний миф и явившийся зачинателем нового мифотворчества, включал, например, в число олимпийских богов Землю, Гелиоса, Аполлона, Диониса, а верховным богом у него оказывается Эфир; в поэме «Единственный» Христос — сын Зевса, брат Геракла и Диониса; в «Смерти Эмпедокла» Христос сближается с Дионисом, смерть философа Эмпедокла трактована и как циклическое обновление (смерть — омоложение) умирающего и воскресающего бога и одновременно как мучительная крестная смерть побитого камнями пророка.
Натурфилософские взгляды романтиков способствовали обращению к низшей мифологии, к различным категориям природных духов земли, воздуха, воды, леса, гор и т. д. Подчёркнуто свободная, порой ироническая игра с образами традиционной мифологии, объединение элементов различных мифологий и в особенности опыты собственной литературной мифоподобной фантастики (альраун из повести Л. Арнима «Изабелла Египетская», «Крошка Цахес» Э. Т. А. Гофмана), повторение и дублирование героев в пространстве (двойники) и особенно во времени (герои вечно живут, умирают и воскресают или воплощаются в новых существах), частичный перенос акцента с образа на ситуацию как некий архетип и т. д.- характерная черта мифотворчества романтиков. Это проявляется часто даже и там, где действуют герои традиционных мифов. Например, в трагедии Г. Клейста «Пентесилея» (сюжет — несчастная любовь царицы амазонок Пентесилеи к герою Ахиллу) дело не столько в мифологических персонажах, сколько в некой архетипической ситуаций отношений полов. В трагедии неявно присутствует «дионисийская», одновременно архаизирующая и модернизирующая трактовка античной мифологии, которая в известной мере предвосхищает ницшеанскую. От «Пентесилеи» тянется нить к многочисленным образцам романтической и постромантической драмы в Германии и Скандинавии, обращающимся к мифологической традиции (напр., молодой Г. Ибсен, Ф. Грильпарцер, немецкий писатель К. Ф. Хеббель — трагедия на библейский сюжет «Юдифь», трилогия «Нибелунги» и др.). Особенно нетрадиционным было мифотворчество Гофмана. У него (повести «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Принцесса Брамбилла», «Повелитель блох» и др.) фантастика выступает как сказочность, через которую проглядывает некая глобальная мифическая модель мира. Мифический элемент входит в некоторой мере и в «страшные» рассказы и романы Гофмана — как хаотическая, демоническая, ночная, разрушительная сила, как «злая судьба» («Элексир дьявола» и др.). Самое оригинальное у Гофмана — фантастика обыденной жизни, которая весьма далека от традиционных мифов, но строится в какой-то мере по их моделям. Благородная война возглавляемых Щелкунчиком игрушек против мышиного воинства («Щелкунчик»), говорящая кукла Олимпия, созданная при участии демонического алхимика Коппелиуса («Песочный человек»), покровительствуемый феей маленький уродец, чудесным образом присваивающий себе чужие таланты («Крошка Цахес»), и др.- различные варианты мифологизации язв современной цивилизации, в частности бездушного техницизма, фетишизма, социального отчуждения. В творчестве Гофмана наиболее отчётливо проявилась тенденция романтической литературы в отношении к мифу — попытка сознательного, неформального, нетрадиционного использования мифа, порой приобретающего характер самостоятельного поэтического мифотворчества.
В начале 19 в. наблюдается усиление роли христианской мифологии в общей структуре романтического искусства. «Мученики» А. Шатобриана знаменуют собой попытку заменить в литературе античный миф христианским (хотя само рассмотрение христианских текстов как мифологических свидетельствует о глубоко зашедшем процессе секуляризации сознания). Одновременно большое распространение в системе романтизма получили богоборческие настроения, выразившиеся в создании демонической мифологии романтизма (Дж. Байрон, П. В. Шелли, М. Ю. Лермонтов). Демонизм романтической культуры был не только внешним перенесением в литературу нач. 19 в. образов из мифа о герое-богоборце или легенды о падшем отверженном ангеле (Прометей, Демон), но и приобрёл черты подлинной мифологии, активно воздействовавшей на сознание целого поколения, создавшей высокоритуализованные каноны романтического поведения и породившей огромное количество взаимно изоморфных текстов.
Реалистическое искусство 19 в. ориентировалось на демифологизацию культуры и видело свою задачу в освобождении от иррационального наследия истории ради естественных наук и рационального преобразования человеческого общества. Реалистическая литература стремилась к отображению действительности в адекватных ей жизненных формах, на создание художественной истории своего времени. Тем не менее и она (используя открытую романтизмом возможность некнижного, жизненного отношения к мифологическим символам) не отказывается полностью от мифологизирования как литературного приёма, даже на самом прозаическом материале [линия, идущая от Гофмана к фантастике Гоголя («Нос»), к натуралистической символике Э. Золя («Нана»)]. В этой литературе нет традиционных мифологических имён, но уподобленные архаическим ходы фантазии активно выявляют в заново созданной образной структуре простейшие элементы человеческого существования, придавая целому глубину и перспективу. Такие названия, как «Воскресение» Л. Н. Толстого или «Земля» и «Жерминаль» Э. Золя, ведут к мифологическим символам; мифологема «козла отпущения» просматривается даже в романах Стендаля и О. Бальзака. Но в целом реализм 19 в. отмечен «демифологизацией ».
Возрождение общекультурного интереса к мифу приходится на конец 19 — нач. 20 вв., но оживление романтической традиции, сопровождавшееся новой волной мифологизирования, наметилось уже во второй половине 19 в. Кризис позитивизма, разочарование в метафизике и аналитических путях познания, идущая ещё от романтизма критика буржуазного мира как безгеройного и антиэстетического породили попытки вернуть «целостное», преобразующе волевое архаическое мироощущение, воплощённое в мифе. В культуре конца 19 в. возникают, особенно под влиянием Р. Вагнера и Ф. Ницше, «неомифологические» устремления. Весьма разнообразные по своим проявлениям, социальной и философской природе, они во многом сохраняют значение и для всей культуры 20 в.
Основоположник «неомифологизма» Вагнер считал, что народ именно через миф становится создателем искусства, что миф — поэзия глубоких жизненных воззрений, имеющих всеобщий характер. Обратившись к традициям германской мифологии, Вагнер создал оперную тетралогию «Кольцо нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов»). Если Хеббель, ориентировавшийся на историческую школу в фольклористике, положил в основу своих «Нибелунгов» австрийскую «Песнь о нибелунгах», уже лишённую языческого одеяния, то Вагнер, ориентировавшийся на солярно-мифологическую школу, почти целиком опирается на более архаичную, скандинавскую версию. Вагнер стремится посредством архетипических музыкально-мифологических лейтмотивов выразить «вечную» проблематику настолько ёмко, чтобы она включала и кардинальные социально-нравственные коллизии 19 в. Стержнем всей тетралогии он делает мотив «проклятого золота» (тема, популярная в романтической литературе и знаменующая романтическую критику буржуазной цивилизации). Виртуозная интуиция Вагнера сказалась, например, в реконструировании образа воды как символа хаотического состояния универсума (начало и конец «Кольца нибелунга»). Вагнеровский подход к мифологии создал целую традицию (которая подвергалась грубой вульгаризации у эпигонов позднего романтизма, усиливших свойственные творчеству Вагнера черты пессимизма, мистики и национализма).
Обращение к мифологии в кон. 19 — нач. 20 вв. существенно отличается от романтического (хотя первоначально могло истолковываться как «неоромантизм»). Возникая на фоне реалистической традиции и позитивистского миросозерцания, оно всегда так или иначе (часто полемически) соотносится с этой традицией. Первоначально философской основой «неомифологических» поисков в искусстве были иррационализм, интуитивизм, отчасти — релятивизм и (особенно в России) пантеизм. Впоследствии «неомифологические» структуры и образы могли становиться языком для любых, в том числе и содержательно противоположных интуитивизму, художественных текстов. Одновременно, однако, перестраивался и сам этот язык, создавая различные, идеологически и эстетически весьма далёкие друг от друга направления внутри ориентированного на миф искусства. Вместе с тем, несмотря на интуитивистские и примитивистские декларации, «неомифологическая» культура с самого начала оказывается высоко интеллектуализированной, направленной на авторефлексию и самоописания; философия, наука и искусство стремятся здесь к синтезу и влияют друг на друга значительно сильнее, чем на предыдущих этапах развития культуры. Так, идеи Вагнера о мифологическом искусстве как искусстве будущего и идеи Ницше о спасительной роли мифологизирующей «философии жизни» порождают стремление организовать все формы познания как мифопоэтические (в противоположность аналитическому миропостижению). Элементы мифологических структур мышления проникают в философию (Ницше, Вл. Соловьёв, позже — экзистенциалисты), психологию (3. Фрейд, К. Юнг), в работы об искусстве (ср. в особенности импрессионистскую и символистскую критику — «искусство об искусстве»). С другой стороны, искусство, ориентированное на миф (символисты, в нач. 20 в.- экспрессионисты), тяготеет к философским и научным обобщениям, зачастую открыто черпая их в научных концепциях эпохи (ср. влияние учения Юнга на Дж. Джойса и других представителей «неомифологического» искусства с 20-30-х гг. 20 в.).
Не менее тесную связь обнаруживает «неомифологизм» и с панэстетизмом: представлением об эстетической природе бытия и эстетизированном мифе как средстве наиболее глубокого проникновения в его тайны — и с пан-эстетическими утопиями. Миф для Вагнера — искусство революционного будущего, преодоление безгеройности буржуазного быта и духа; миф для Вяч. Иванова, Ф. Сологуба и многих других русских символистов нач. 20 в.- это та красота, которая одна способна «мир спасти» (Ф. М. Достоевский).
Модернистский мифологизм во многом порождён осознанием кризиса буржуазной культуры как кризиса цивилизации в целом. Он питался и романтическим бунтом против буржуазной «прозы», и страхом перед историческим будущим, отчасти и перед революционной ломкой устоявшегося, хотя и испытывающего кризисное состояние мира. Стремление выйти за социально-исторические и пространственно-временные рамки ради выявления «общечеловеческого» содержания («вечные» разрушительные или созидательные силы, вытекающие из природы человека, из общечеловеческих психологических и метафизических начал) было одним из моментов перехода от реализма 19 в. к искусству 20 в., а мифология в силу своей исконной символичности оказалась удобным языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса.
Общим свойством многих явлений «неомифологического» искусства было стремление к художественному синтезу разнообразных и разнонаправ-ленных традиций. Уже Вагнер сочетал в структуре своих новаторских опер мифологические, лирические, драматургические и музыкальные принципы построения целостного текста. При этом естественным оказывалось взаимовлияние мифа и различных искусств, например отождествление повторяемости обряда с повторами в поэзии и создание на их скрещении лейтмотивной техники в музыке (опера Вагнера), а затем — в романе, драме и т. д. Возникали «синкретические» жанры: «роман-миф» 20 в., «Симфонии» А. Белого на мифологические или подражающие мифу сюжеты, где используются принципы симфонической композиции, и т. д. (ср. более позднее утверждение К. Леви-Строса о музыкально-симфонической природе мифа). Наконец, все эти устремления к «синтезу искусств» своеобразно воплотились в нач. 20 в. в кинематографе.
Возродившийся интерес к мифу во всей литературе 20 в. проявился в трёх основных формах. Резко усиливается идущее от романтизма использование мифологических образов и сюжетов. Создаются многочисленные стилизации и вариации на темы, задаваемые мифом, обрядом или архаическим искусством. Ср. роль мифологической темы в творчестве Д. Г. Россетти, Э. Бёрн-Джонса и других художников-прерафаэлитов, такие драмы русских символистов, как «Прометей» Вяч. Иванова, «Меланиппа-философ» или «Фамира-Кифарэд» Инн. Анненского, «Протесилай умерший» В. Я. Брюсова и т. д. При этом в связи с выходом на арену мировой культуры искусства неевропейских народов значительно расширяется круг мифов и мифологий, на которые ориентируются европейские художники. Искусство народов Африки, Азии, Южной Америки начинает восприниматься не только как эстетически полноценное, но и в известном смысле как высшая норма. Отсюда — резкое повышение интереса к мифологии этих народов, в которой видят средство декодирования соответствующих национальных культур (ср. мысль Назыма Хикмета о глубокой демократичности «нового искусства» 20 в., избавляющегося от европоцентризма). Параллельно начинается пересмотр воззрений на свой национальный фольклор и архаическое искусство; ср. «открытие» И. Грабарём эстетического мира русской иконы, введение в круг художественных ценностей народного театра, изобразительного и прикладного искусства (вывески, художественная утварь), интерес к сохранившейся обрядности, к легендам, поверьям, заговорам и заклинаниям и т. д. Бесспорно определяющее влияние этого фольклоризма на писателей типа А. М. Ремизова или Д. Г. Лоренса. Во-вторых (тоже в духе романтической традиции), появляется установка на создание «авторских мифов». Если писатели-реалисты 19 в. стремятся к тому, чтобы создаваемая ими картина мира была подобна действительности, то уже ранние представители «неомифологического» искусства — символисты, например, находят специфику художественного видения в его нарочитой мифологизированное™, в отходе от бытовой эмпирии, от чёткой временной или географической приуроченности. При этом, однако, глубинным объектом мифологизирования даже у символистов оказываются не только «вечные» темы (любовь, смерть, одиночество «я» в мире), как это было, например, в большинстве драм М. Метерлинка, но именно коллизии современной действительности — урбанизированный мир отчуждённой личности и её предметного и машинного окружения («Города-спруты» Э. Верхарна, поэтический мир Ш. Бодлера, Брюсова) или царство вечно недвижной провинциальной стагнации (« Недотыкомка » Ф. Сологуба). Экспрессионизм (ср. «R. U. R.» К. Чапека) и особенно «неомифологическое» искусство 2-й и 3-й четверти 20 в. лишь окончательно закрепили эту связь мифологизирующей поэтики с темами современности, с вопросом о путях человеческой истории (ср., например, роль «авторских мифов» в современных утопических или антиутопических произведениях т. н. научной фантастики).
Наиболее ярко, однако, специфика современного обращения к мифологии проявилась в создании (в кон. 19 — нач. 20 вв., но особенно — с 1920- 1930-х гг.) таких произведений, как «романы-мифы» и подобные им «драмы-мифы», «поэмы-мифы». В этих собственно «неомифологических» произведениях миф принципиально не является ни единственной линией повествования, ни единственной точкой зрения текста. Он сталкивается, сложно соотносится либо с другими мифами (дающими иную, чем он, оценку изображения), либо с темами истории и современности. Таковы «романы-мифы> Джойса, Т. Манна, «Петербург» А. Белого, произведения Дж. Апдайка и др.
Крупнейшие представители мифологического романа 20 в.- ирландский писатель Джойс и немецкий писатель Т. Манн дали характерные для современного искусства образцы литературного «мифологизирования», противостоящие во многом друг другу по основной идейной направленности. В романе Джойса «Улисс» эпико-мифологический сюжет «Одиссеи» оказывается средством упорядочения первичного хаотического художественного материала. Герои романа сопоставляются с мифологическими персонажами гомеровского эпоса, многочисленные символические мотивы в романе являются модификациями традиционных символов мифологии — первобытной (вода как символ плодородия и женского начала) и христианской (мытье как крещение). Джойс прибегает и к нетрадиционным символам и образам, представляющим примеры оригинальной мифологизации житейской прозы (кусок мыла как талисман, иронически представляющий современную «гигиеническую» цивилизацию, трамвай, «преображённый» в дракона, и т. д.). Если в «Улиссе» мифологизм даёт лишь дополнительную опору для символической интерпретации «натуралистически» поданного материала жизненных наблюдений (непосредственным сюжетом романа является один день городской жизни Дублина, как бы пропущенный сквозь сознание главных персонажей), то в романе «Поминки по Финнегану» происходит полное (или почти полное) отождествление персонажей с их мифологическими двойниками (здесь используются мотивы кельтской мифологии). Для мифологического моделирования истории Джойс чаще всего пользуется мифологемой умирающего и воскресающего богочеловека — в качестве «метафоры» циклической концепции истории. В романе «Волшебная гора» Манна преобладают ритуально-мифологические модели. Процесс воспитания главного героя (главная тема романа) ассоциируется с обрядом инициации, некоторые эпизоды сопоставимы с распространёнными мифологемами священной свадьбы, имеют ритуально-мифологические параллели (ритуальное умерщвление царя-жреца и др., сама «волшебная гора» в известном смысле может быть сопоставлена с царством мёртвых и т. д.). В «Иосифе и его братьях» Манна, как и в «Поминках по Финнегану» Джойса, сам сюжет носит мифологический характер. У Манна сюжет взят из Библии и подаётся как «историзированный» миф или мифологизированное историческое предание. Представлению Джойса о бессмысленности истории противостоит здесь художественно реализованная с помощью образов библейской мифологии концепция глубокого смысла истории, раскрывающегося по мере развития культуры. Мифологизация исторического прошлого влечёт за собой поэтику повторяемости. Она подается Манном, в отличие от Джойса, не как дурная бесконечность исторических процессов, а как воспроизведение образцов, представленных предшествующим опытом, циклические представления сочетаются с линейными, что соответствует специфике данного мифологического материала. Судьба Иосифа метафоризируется посредством ритуальных мифологем, причём инициацяонные мотивы отступают здесь на задний план перед культом умирающего и воскресающего бога. Поэтика мифологизироваиия у Манна (как и у Джойса) является не стихийным, интуитивным возвращением к мифологическому мышлению, а одним из аспектов интеллектуального, даже «философского» романа и опирается на глубокое знание древней культуры, религии и современных научных теорий.
Специфично мифотворчество австрийского писателя Ф. Кафки (романы «Процесс», «Замок», новеллы). Сюжет и герои имеют у него универсальное значение, герой моделирует человечество в целом, а в терминах сюжетных событий описывается и объясняется мир. В творчестве Кафки отчётливо выступает противоположность первобытного мифа и модернистского мифотворчества: смысл первого — в приобщении героя к социальной общности и к природному круговороту, содержание второго — «мифология» социального отчуждения. Мифологическая традиция как бы превращается у Кафки в свою противоположность, это как бы миф наизнанку, антимиф. Так, в его новелле «Превращение», в принципе сопоставимой с тотемическими мифами, метаморфоза героя (его превращение в безобразное насекомое) — не знак принадлежности к своей родовой группе (как в древних тотемических мифах), а, наоборот, знак отъединения, отчуждения, конфликта с семьей и обществом; герои его романов, в которых большую роль играет противопоставление «посвящённых» и «непосвящённых» (как в древних обрядах инициации), так и не могут пройти «посвятительных» испытаний; «небожители» даются им в заведомо сниженном, прозаизированном, уродливом виде.
Английский писатель Д. Г. Лоренс («мексиканский» роман «Пернатый змей» и др.) черпает представления о мифе и ритуале у Дж. Фрейзера. Обращение к древней мифологии для него — это бегство в область интуиции, средство спасения от современной «дряхлой» цивилизации (воспевание доколумбовых кровавых экстатических культов ацтекских богов и др.).
Мифологизм 20 в. имеет многих представителей в поэзии (англо-американский поэт Т. С. Элиот — поэма «Бесплодная земля», где реминисценции из евангельских и буддийских легенд, «Парцифаля» и др. организуют сюжетную ткань; на рубеже 19 и 20 вв.- ирландский поэт и драматург У. Б. Иитс и другие представители «ирландского возрождения» с их доминирующим интересом к национальной мифологии и др.).
В русском символизме с его культом Вагнера и Ницше, поисками синтеза между христианством и язычеством мифотворчество было объявлено самой целью поэтического творчества (Вяч. Иванов, Ф. Сологуб и др.). К мифологическим моделям и образам обращались подчас очень широко и поэты других направлений русской поэзии начала века. Своеобразной формой поэтического мышления стала мифология для В. Хлебникова. Он не только пересоздаёт мифологические сюжеты многих народов мира («Девий бог», «Гибель Атлантиды», «Ка», «Дети Выдры», «Вила и леший»), но и создаёт новые мифы, пользуясь моделью мифа, воспроизводя его структуру («Журавль», «Внучка Малуши», «Маркиза Дэзес»), О. Мандельштам с редкой чуткостью к историко-культурной феноменологии оперирует с первоэлементами античного мифологического сознания («Возьми на радость из моих ладоней…», «Сестры — тяжесть и нежность…», «На каменных отрогах Пиерии…»). Творчество М. И. Цветаевой нередко интуитивно проникает в самую суть архаического мифологического мышления (напр., воссоздание культово-магического образа удавленной богини женственности — дерева — луны во 2-й части дилогии «Тесей», блестяще подтверждённое научным исследованием греческой религии). Большое место мифологические мотивы и образы занимают в поэзии М. А. Волошина (стихотворные циклы «Киммерийская весна», «Путями Каина»).
Мифологизм широко представлен и в драме 20 в.: французский драматург Ж. Ануй [трагедии на библейские («Иезавель») и античные («Медея», «Антигона») сюжеты], П. Л. ТТТ Кло-дель, Ж. Кокто (трагедия «Антигона» и др.), Ж. Жироду (пьесы «Зигфрид», «Амфитрион 38», «Троянской войны не будет», «Электра»), Г. Гауптман (тетралогия «Атриды») и др.
Соотношение мифологического и исторического в произведениях «неомифологического» искусства может быть самым различным — и количественно (от разбросанных в тексте отдельных образов-символов и параллелей, намекающих на возможность мифологической интерпретации изображаемого, до введения двух и более равноправных сюжетных линий: ср. «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова), и семантически. Однако ярко «неомифологических» произведений составляют такие, где миф выступает в функции языка — интерпретатора истории и современности, а эти последние играют роль того пёстрого и хаотического материала, который является объектом упорядочивающей интерпретации. Так, чтобы стал ясен смысл художественного замысла романа «Пётр и Алексей» Д. С. Мережковского, необходимо разглядеть в коллизиях кровавой борьбы Петра I с сыном новозаветную коллизию Отца-демиурга и Сына — жертвенного агнца. Познавательная ценность мифа и исторических событий в такого рода текстах совершенно различна, хотя истолкования мифа как глубинного смысла истории у разных авторов могут мотивироваться по-разному (миф — носитель «естественного», не искажённого цивилизацией сознания первобытного человека; миф — отображение мира первогероев и первособытий, лишь варьирующихся в бесчисленных коллизиях истории; мифология — воплощение « коллективно-бессознательного», по Юнгу, и своеобразная энциклопедия «архетипов» и т. д.). Впрочем, и эти мотивировки в «неомифологических» произведениях не проводятся до конца последовательно:
позиции мифа и истории могут соотноситься не однозначно, а «мерцать» друг в друге, создавая сложную игру точек зрения. Поэтому очень частым признаком «неомифологических» произведений оказывается ирония — линия, идущая в России от А. Белого, в Западной Европе — от Джойса. Однако типичная для «неомифологических » текстов множественность точек зрения только у начала этого искусства воплощает идеи релятивизма и непознаваемости мира; становясь художественным языком, она получает возможность отображать и другие представления о действительности, например идею «многоголосного» мира, значения которого возникают от сложного суммирования отдельных «голосов» и их соотношений.
«Неомифологизм» в искусстве 20 в. выработал и свою, во многом новаторскую поэтику — результат воздействий как самой структуры обряда и мифа, так и современных этнологических и фольклористских теорий. В основе её лежит циклическая концепция мира, «вечное возвращение» (Ницше). В мире вечных возвратов в любом явлении настоящего просвечивают его прошедшие и будущие инкарнации. «Мир полон соответствий» (А. Блок), надо только уметь увидеть в бесчисленном мелькании «личин» (история, современность) сквозящий в них лик мирового всеединства (воплощаемый в мифе). Но поэтому же и каждое единичное явление сигнализирует о бесчисленном множестве других, суть их подобие, символ.
Специфично для многих произведений «неомифологического» искусства и то, что функцию мифов в них выполняют художественные тексты (преимущественно нарративного типа), а роль мифологем — цитаты и перефразировки из этих текстов. Зачастую изображаемое декодируется сложной системой отсылок и к мифам, и к произведениям искусства. Например, в «Мелком бесе» Ф. Сологуба значение линии Людмилы Рутиловой и Саши Пыльникова раскрывается через параллели с греческой мифологией (Людмила — Афродита, но и фурия; Саша — Аполлон, но и Дионис; сцена маскарада, когда завистливая толпа чуть не разрывает Сашу, переодетого в маскарадный женский костюм, но Саша «чудесно» спасается,- иронический, но и имеющий серьёзный смысл, намёк на миф о Дионисе, включающий такие его существенные мотивы, как разрывание на части, смена облика, спасение — воскрешение), с мифологией ветхо- и новозаветной (Саша — змий-искуситель), с античной литературой (идиллии, «Дафнис и Хлоя»). Мифы и литературные тексты, дешифрующие эту линию, составляют для Ф. Сологуба некое противоречивое единство: все они подчёркивают родство героев с первозданно прекрасным архаическим миром. Так «неомифологическое» произведение создаёт типичный для искусства 20 в. панмифологизм, уравнивая миф, художественный текст, а зачастую и отождествлённые с мифом исторические ситуации (ср., например, истолкование в «Петербурге» А. Белого истории Азефа как «мифа о мировой провокации»). Но, с другой стороны, такое уравнивание мифа и произведений искусства заметно расширяет общую картину мира в «неомифологических» текстах. Ценность архаического мифа, мифа и фольклора оказывается не противопоставленной искусству позднейших эпох, а сложно сопоставленной с высшими достижениями мировой культуры.
В современной (после 2-й мировой войны) литературе мифологизиро-вание выступает чаще всего не столько как средство создания глобальной «модели», сколько в качестве приёма, позволяющего акцентировать определённые ситуации и коллизии прямыми или контрастными параллелями из мифологии (чаще всего — античной или библейской). В числе мифологических мотивов и архетипов, используемых современными авторами, — сюжет «Одиссеи» (в произведениях А. Моравиа «Презрение», Г. К. Кирше «Сообщение для Телемака», X. Э. Носсака «Некия», Г. Хартлауба «Не каждый Одиссей»), «Илиады» (у К. Бойхлера — «Пребывание на Борнхольме», Г. Брауна — «Звёзды следуют своим курсом»), «Энеиды» (в «Смерти Вергилия» Г. Броха, «Изменении» М. Вютора, «Видении битвы» А. Боргеса), история аргонавтов (в «Путешествии аргонавтов из Бранденбурга» Э. Лангезер), мотив кентавра — у Дж. Апдайка («Кентавр»), Ореста — У А. Дёблина («Берлин, Александер-платц», в сочетании с историей Авраама и Исаака), Гильгамеша («Гильгамеш» Г. Бахмана и «Река без берегов» X. X. Янна) и т. д. С 50-60-х гг. поэтика мифологизирования развивается в литературах «третьего мира» — латиноамериканских и некоторых афро-азиатских. Современный интеллектуализм европейского типа сочетается здесь с архаическими фольклорно-мифологическими традициями. Своеобразная культурно-историческая ситуация делает возможным сосуществование и взаимопроникновение, доходящее порой до органического синтеза, элементов историзма и мифологизма, социального реализма и подлинной фольклорности. Для произведения бразильского писателя Ж. Амаду («Габриэла, гвоздика и корица», «Пастыри ночи» и др.), кубинского писателя А. Карпентьера (повесть «Царство земное»), гватемальского — М. А. Астуриаса («Зелёный папа» и др.), перуанского — X. М. Аргедаса («Глубокие реки») характерна двуплановость социально-критических и фольклорно-мифологических мотивов, как бы внутренне противостоящих обличаемой социальной действительности. Колумбийский писатель Г. Гарсия Маркес (романы «Сто лет одиночества», «Осень патриарха») широко опирается на латиноамериканский фольклор, дополняя его античными и библейскими мотивами и эпизодами из исторических преданий. Одним из оригинальных проявлений мифотворчества Маркеса является сложная динамика соотношения жизни и смерти, памяти и забвения, пространства и времени. Таким образом, литература на всём протяжении своей истории соотносится с мифологическим наследием первобытности и древности, причём отношение это сильно колебалось, но в целом эволюция шла в направлении «демифологизации». «Ремифологизация» 20 в. хотя и связана прежде всего с искусством модернизма, но в силу разнообразных идейных и эстетических устремлений художников, обращавшихся к мифу, далеко к нему не сводима. Мифологизирование в 20 в. стало орудием художественной организации материала не только для типично модернистских писателей, но и для некоторых писателей-реалистов (Манн), а также для писателей «третьего мира», обращающихся к национальному фольклору и мифу часто во имя сохранения и возрождения национальных форм культуры. Использование мифологических образов и символов встречается и в некоторых произведениях советской литературы (напр., христианско-иудейские мотивы и образы в «Мастере и Маргарите» Булгакова).
Проблема «искусство и миф» стала предметом специального научного рассмотрения преимущественно в литературоведении 20 в., особенно в связи с наметившейся «ремифологизацией» в западной литературе и культуре. Но проблема эта ставилась и раньше. Романтическая философия нач. 19 в. (Шеллинг и др.), придававшая мифу особое значение как прототипу художественного творчества, видела в мифологии необходимое условие и первичный материал для всякой поэзии. В 19 в. сложилась мифологическая школа, которая выводила из мифа различные жанры фольклора и заложила основы сравнительного изучения мифологии, фольклора и литературы. Значительное влияние на общий процесс «ремифологизации» в западной культурологии оказало творчество Ницше, который предвосхитил некоторые характерные тенденции трактовки проблемы «литература и миф», проследив в «Рождении трагедии из духа музыки» (1872) значение ритуалов для происхождения художественных видов и жанров. Русский учёный А. Н. Веселовский разработал в нач. 20 в. теорию первобытного синкретизма видов искусства и родов поэзии, считая колыбелью этого синкретизма первобытный обряд. Исходным пунктом сложившегося в 30-е гг. 20 в. в западной науке ритуально-мифологического подхода к литературе был ритуализм Дж. Фрейэера и его последователей — т. н. кембриджской группы исследователей древних культур (Д. Харрисон, А. Б. Кук и др.). По их мнению, в основе героического эпоса, сказки, средневекового рыцарского романа, драмы возрождения, произведений, пользующихся языком библейско-христианской мифологии, и даже реалистических и натуралистических романов 19 в. лежали обряды инициации и календарные обряды. Особое внимание этого направления привлекла мифологизирующая литература 20 в. Установление Юнгом известных аналогий между различными видами человеческой фантазии (включая миф, поэзию, бессознательное фантазирование во сне), его теория архетипов расширили возможности поисков ритуально-мифологических моделей в новейшей литературе. Для Н. Фрая, во многом ориентирующегося на Юнга, миф, сливающийся с ритуалом и архетипом, является вечной подпочвой и истоком искусства; мифологизирующие романы 20 в. представляются ему естественным и стихийным возрождением мифа, завершающим очередной цикл исторического круговорота в развитии поэзии. Фрай утверждает постоянство литературных жанров, символов и метафор на основе их ритуально-мифологической природы. Ритуально-мифологической школой достигнуты позитивные результаты в изучении литературных жанров, связанных генетически с ритуальными, мифологическими и фольклорными традициями, в анализе переосмысления древних поэтических форм и символов, в исследовании роли традиции сюжета и жанра, коллективного культурного наследия в индивидуальном творчестве. Но характерная для ритуально-мифологической школы трактовка литературы исключительно в терминах мифа и ритуала, растворение искусства в мифе являются крайне односторонними.
В ином плане и с иных позиций — с соблюдением принципа историзма, учётом содержательных, идеологических проблем — рассматривалась роль мифа в развитии литературы рядом советских учёных. Советские авторы обращаются к ритуалу и мифу не как к вечным моделям искусства, а как к первой лаборатории поэтической образности. О. М. Фрейденберг описала процесс трансформации мифа в различные поэтические сюжеты и жанры античной литературы. Важное теоретическое значение имеет работа М. М. Бахтина о Рабле, показавшая, что ключом для понимания многих произведений литературы позднего средневековья и Возрождения является народная карнавальная культура, народное «смеховое» творчество, связанное генетически с древними аграрными ритуалами и праздниками. Роль мифа в развитии искусства (преимущественно на античном материале) проанализировал А. Ф. Лосев. Целый ряд работ, в которых были освещены различные аспекты проблемы «мифологизма» литературы, появился в 60-70-х гг. (Е. М. Мелетинский, В. В. Иванов, В. Н. Топоров, С. С. Аверинцев, Ю. М. Лотман, И. П. Смирнов, А. М. Панченко, Н. С. Лейтес).
Лит.: Аверинцев С. С., «Аналитическая психология» К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии, в кн.: О современной буржуазной эстетике, в.З, М., 1972; Бахтин М. М., Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М., 1965; Богатырев П. Г., Вопросы теории народного искусства, М., 1971; Вейман Р., История литературы и мифология, пер. с нем., М., 1975; Веселовский А. Н„ Историческая поэтика. Л.. 1940; Гуре
вич А. Я., Категории средневековой культуры, [М„ 1972]; Выготский Л. С., Психология искусства, 2 изд., М., 1968; Жирмунский В. М., Народный героический эпос, М.-Л., 1962;
Иванов Вяч. И., Дионис и прадионисийство, Баку, 1923; Иванов В. В., Топоров В. Н.. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах, в сб.: Типологические исследования по фольклору, М., 1975; Иванов В. В., Об одной параллели к гоголевскому «Вию», там же, [т.] 5, Тарту, 1971; Топоров В. Н., О космогонических источниках раннеисторических описаний, там же, [т.] 6, Тарту, 1973; его же, О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления, в кн.: Structure of texts and semiotics of culture. The Hague-P., 1973; Лихачев Д. С., Панченко А. М., «Смеховой» мир Древней Руси, Л., 1976; Лихачев Д. С., Поэтика древнерусской литературы, 2 изд.. Л., 1971; Лосев А. Ф., Аристофан и его мифологическая лексика, в кн.: Статьи и исследования по языкознанию и классической филологии, М., 1965; Лотман Ю. М., Успенский Б. А., Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века), в кн.: Труды по русской и славянской филологии, т. 28. Тарту, 1977; Мелетинский Е. М., Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники, М„ 1963; его же, Поэтика мифа, М., 1976 (лит.); Максимов Д. Е., О мифопоэтическом начале в лирике Блока, в кн.: Блоковский сборник, [т.] 3, Тарту, 1979; Минц 3. Г., О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов, там же; Миф — фольклор — литература. Л., 1978; Панченко А. М., Смирнов И. П., Метафорические архетипы в русской средневековой словесности и в поэзии начала XX в., в кн.: Труды Отдела древнерусской литературы, [т.] 26, Л., 1971; Рязановский Ф. А., Демонология в древнерусской литературе, М., 1915; Смирнов И. П., От сказки к роману, в кн.: Труды Отдела древнерусской литературы, т. 27, Л., 1972; «Тристан и Исольда». От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Афревразии, Л., 1932;
Толстой И. И- Статьи о фольклоре, М.-Л„ 1966; Успенский Б. А., К исследованию языка древней живописи, в кн.: Жегин Л. Ф., Язык живописного произведения, [М., 1970];
Успенский Б. А., О семиотике иконы, в кн.: Труды по знаковым системам, [т.] 5, Тарту, 1971;
Франк-Каменецкий И., Первобытное мышление в свете яфетической теории и философии, в сб.: Язык и литература, т. 3, М., 1929;
Флоренский П. А., Обратная перспектива, в кн.: Труды по знаковым системам, [т.] З. Тарту, 1967; Фрейденберг О. М., Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936; её же. Миф и литература древности, М., 1978; Фуко М., Слова и вещи, пер. с франц., М., 1977; Якобсон Р., Леви-Стросс К., «Кошки» Шарля Бодлера, [пер. с франц.], в кн.: Структурализм: «за» и «против», М., 1975; Barthes R., Mythologies, P., 1970; Bodkin М., Archetypal patterns in poetry, N. Y., 1963; Dorfles Gillo, Mythes et rites d’aujourd’hul, P., 1975; Caseirer Е.. The myth of the state, New Haven, 1946; D ickinaon Н., Myth on the modern stage, Urbana, 1969; Frye N.. The anatomy of critlcizm, Princeton, 1957; его же. The secular sripture, Camb. (Mass.), 1976; Hamburger K.. Von Sophokles zu Sartre, Stuttg., 1962; Jakobson R., Puskin and his sculptural myth, The Hague-P., 1975; Norton D. S„ Rushton P., Classical myths in English literature, N. Y., 1952;
Myth and literature. Contemporary theory and practice, ed. by J. Vickery, Lincoln, 1966; Myths and motifs in literature, ed. by D. J. Burrows, F. R. Lapides, J. T. Shawcross, N. Y., [1973];
Myth and symbol, Lincoln, 1963; Rank 0., Der Mythus von der Geburt des Helden, Lpz.-W., 1909; Relchhart Н., Der griechische Mythos im Modernen deutschen und österreichischen Drama, W., 1951 (Dias.); Weinberg K., Kafkas Dichtungen Die Travestien der Mythos, В. — Munch., 1963; Weston Y., From ritual to romance, Camb., 1920; White J. J., Mythology in the modern novel. A study of prefigurative techniques, Princeton, 1971.
Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, Е. М. Медетинский.
(Источник: «Мифы народов мира».)
.