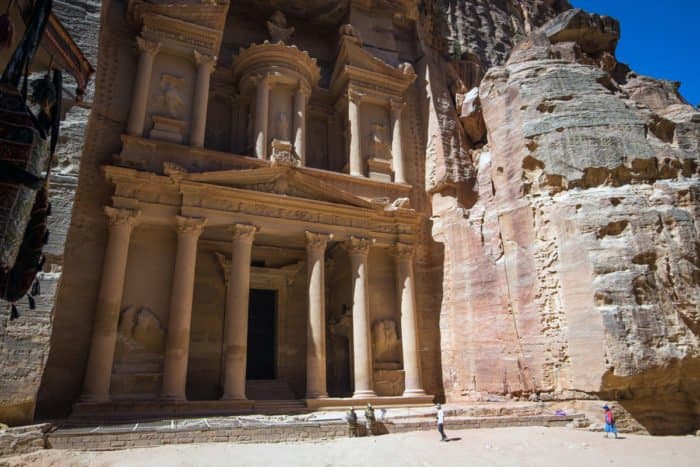В жизни мне необыкновенно везло на хороших людей, но нигде не довелось их встретить в таком количестве, как в Церкви. Начало моего воцерковления происходило под наблюдением девяностолетней старицы — монахини. Звали ее Илария. К тому времени, когда я с ней познакомился, она была «лежачей» и покидать келью могла только на коляске. Мы быстро сблизились к обоюдной пользе. Я получил правильное направление своего развития, а она молодого мужчину, способного помочь ей в быту, особенно в перевозке ее в церковь. С первых встреч я понял, что это человек великих дарований. Говорить заинтересованно она могла только о Боге и Церкви. Как только разговор уклонялся к вещам пустым или малозначащим, она сразу предлагала помолиться. Молитвенное правило ее имело то последование, какое было и у ее последнего духовника — о. Серафима (Тяпочкина): утреня, часы, междочасия, вечерня, повечерие, полунощница, три акафиста, три канона, молитвословия, приличествующие сегодняшнему дню и бесчисленное количество кратких молитв с четками, которые она не выпускала из рук. Тогда мне казалось, что это нормальная жизнь для любого христианина. И то, что она прозорлива, меня ничуть не удивляло. Такое смирение с самоуничижением и иногда публичным покаянием не могло остаться бесплодным. Явную прозорливость она обнаружила для моего обличения.
Однажды я оказался на приходе с архиереем, где прислуживал ему. После службы был обед. Подали великолепный коньяк. Я, в недавнем прошлом артист, был знатоком хорошего коньяка и, не удержавшись, с превеликим удовольствием воспользовался случаем. Нет, я не напился, но вступил в явное противоречие с теми принципами, которые уже стали для меня нормой. На следующий день я пришел как обычно к матушке, помолился, поздоровался. Тишина. Я подумал, она спит. Я поздоровался громче. Она отвернула голову к стене, показывая, что слышит меня, но не желает разговаривать. Я стал подозревать в чем дело. Наконец она повернула голову и, пронзительно взглянув на меня спросила: «Вы что ж, так вино любите?! Ну как же так можно?!!» Я рухнул на колени, прося о прощении. Разумеется, никаких общих знакомых, могущих ее предупредить не было, как и телефонных звонков. И событие это было значимо только для меня, да и то в свете его оценки м. Иларией.
Другой случай. Я со священником и келейницей матушки повезли ее в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Приехав в Загорск, мы выкатили коляску на платформу и двинулись в толпе пассажиров. Вдруг матушка запротестовала: «Стойте!» Мы остановились. Келейница заволновалась: «Матушка, не капризничайте, что мы стоим? — ехать надо!» м. Илария опустила глаза и сидела совершенно отрешенная. Между тем толпа, обогнув перрон, оказалась уже вдалеке, но напротив нас. Вдруг там раздались крики, закончившиеся дракой. Если бы мы шли со всеми, то оказались бы рядом. Как только все улеглось, матушка скомандовала: «Ну, теперь поехали».
Ее молитва была не просто действенна, но иногда пугала конкретностью результата. Так, моя жена, будучи студенткой университета, должна была сдавать экзамен по атеизму. Пришла пожаловаться матушке и спросила как ей быть. «А что, разве нет каких-то нейтральных вопросов?» — спросила м. Илария. «Есть, конечно, но мало. Документы партии относительно Церкви, нехристианские религии.» «Ну вот, молитесь и учите эти вопросы.» На экзамене жене достались два вопроса: документы партии и Буддизм. Преподаватель сказал, что сегодня это была единственная «звездочка», которая его порадовала.
Однажды ключарь собора объявил мне: «Гена, готовься, через неделю твое рукоположение.» Я, будучи второбрачным, пришел в полное замешательство. Ведь нельзя же. Пошел к матушке. Она настояла на немедленной поездке к моему духовнику. Духовник знал меня очень хорошо, я часто у него исповедовался и разрешал возникающие недоумения. Когда я явился пред ним с вопросом о рукоположении, он ответил вопросом же: «Простите, как вас зовут?» Для меня это было ушатом холодной воды. Я не только все понял, но и сразу успокоился. Приехав домой, пошел к матушке. Келейница бросилась ко мне: «Ну как, батюшка благословил?» На что м. Илария, не дав мне ответить, возразила: «Ну что ты, Маша, это ж не ватрушки печь! Это же серьезное дело.»
И таких случаев было бесчисленное множество. Но тогда мне казалось, что это норма, поэтому не придавал им большого значения.
Я не сомневаюсь, что тайна ее духовного успеха заключалась в ее необычайном смирении, унаследованном от своих духовников: о. Нектария Оптинского, петроградского прот. Михаила Прудникова и о. Серафима Тяпочкина. Не могу удержаться, чтобы не воссоздать часть ее воспоминаний.
Родилась она в 1887 г. в семье промышленника-миллионера, получила образование в Смольном институте благородных девиц в Петербурге, вышла замуж за молодого ученого, профессора Петербургского университета. В замужестве имела двоих детей, умерших во младенчестве.
С юности Мария Михайловна (так звали ее в миру) старалась жить согласно церковным традициям и канонам. Еще задолго до переворота 1917 г. она ездила в Оптину к Старцам. Там она и обрела своего первого серьезного и постоянного духовника, о. Нектария. Он окормлял ее до самой своей кончины в 1928 г. Вот некоторые из воспоминаний м. Иларии о Старце.
Еще до революции о. Нектарий начал юродствовать, прикровенно пророчествуя о будущем. Он прикалывал на подрясник красный бант, играл в куклы, разыгрывая между ними сценки из будущей жизни. Очевидцы утверждали, что все о чем Старец говорил — сбылось.
Однажды, еще до закрытия монастыря (монастырь был закрыт в 1923 г.), матушка оказалась в келье о. Нектария на исповеди. После исповеди Батюшка сказал: «Маша, сегодня будешь ночевать здесь за печкой.» Я, конечно, испугалась, вспоминая, что и с Великими случались падения, но ослушаться не дерзнула.» Ночью в монастыре была облава. Всех кто остановился в гостинице арестовали. В келью к о. Нектарию чекисты не заходили.
Говоря о современных ему событиях, старец сказал тогда: «тартар вышел наружу.»
Однажды матушка спросила о. Нектария: «Батюшка, а что будет дальше?» О. Нектарий склонил голову: «Будет хуже», еще более наклонился: «и хуже», и совсем склонясь, прошептал: «и хуже».
Надо полагать, что Старец имел ввиду не теперешнюю короткую ослабу для Церкви, а то всеобщее отступление человечества от Бога с катастрофическим падением нравов, которое в древней Церкви по-гречески называлось апостасией.
Матушка показывала мне записку, написанную о. Нектарием карандашом на тетрадном листе в клетку: «Господи, прими душу рабы Твоея Марии и прости все ея согрешения». Она завещала похоронить ее с этой отпустительной молитвой, что и было впоследствии исполнено.
Много матушка говорила об о. Михаиле Прудникове, но, к сожалению, в памяти у меня осталось только ее восхищение смирением Батюшки. «Маш, вот видишь половую тряпку? Я гораздо хуже ее!» И, как м. Илария говорила, это не было позерством. Так он жил, так он себя ощущал.
О ее последнем духовнике, о. Серафиме нет нужды писать, поскольку о нем написаны книги нашими современниками, знавшими его лично. Она его обожала. В письмах старцу или в устных передачах всегда просила о. Серафима помолиться, чтобы Господь освободил ее от сердечного окаменения. Всем бы нам такого окаменения!
При всей своей кротости, м. Илария была необычайно сурова к себе, особенно по части поста, а мужественна была настолько, насколько мужественны, наверное, могут быть только русские женщины.
Не знаю в каком году, но это было в канун Пасхи. Ее мужа расстреляли. (Он сделал публичный доклад об Оптиной пустыни). Своим видом она постаралась не нарушать общего торжества и траурное надела только после светлой седмицы. Об этом мне рассказывала ее племянница, ныне уже покойная монахиня Савватия.
М. Илария очень любила членов последней императорской семьи и всегда говорила, что их канонизируют. Еще она говорила: «Если хотите, чтобы за вас молился какой-либо Святой, молитесь за его близких, особенно за его родителей.» Синодик матушки был объемом в общую тетрадь. Значительную часть синодика составляли Оптинцы. Она имела особую любовь к Калужским святыням. Особенно почитала Калужскую икону Божией Матери и прп. Тихона Калужского. В дни их памяти она всегда была в церкви.
Вообще, ничто так не радовало сердце Старицы, как посещение храма.
Вспоминается один забавный случай. Однажды, когда она попросила свозить ее в церковь, я отказал ей, сославшись на то, что обещал жене посидеть с ребенком, пока она стирает. «Что стирает?»- спросила матушка. «Ну, пеленки, рубахи мои.» Она была удивлена как маленький ребенок, у которого отобрали сладости. «У вас рубаха грязная?… Ну… встряхните ее что-ли!» Не помню чем закончилось дело, но это впоследствии у нас с женой стало дежурной шуткой. Белье грязное? — так встряхни. Однажды она мне сказала: вы не представляете что вам будет за то, что вы меня возите. Дай-то Бог.
Дом м. Иларии был местом притяжения самых различных хороших людей. Там я впервые услышал рассказы людей, лично знавших архиеп. Фадея Тверского, или, например, рассказ ныне покойного прот. Бориса Бахарева о неизвестном священномученике-митрополите. Ему довелось принять исповедь умирающего человека, бывшего некогда начальником одного из северных лагерей. Однажды этому начальнику пришла директива: сделать что угодно, но результат чтобы был один: митрополит должен отречься от Бога. Пробовали бить, истязать — безрезультатно. Тогда сделали следующее: наловили крыс, оградили их, чтобы они оголодали. Затем, распяв митрополита на земле, сделали вокруг него загон и выпустили голодных крыс в загон. Митрополита съели живьем, но он не проронил ни звука.
Как-то матушка сказала мне: «Приходите вечером, у меня будет замечательный гость, зовут его брат Андрей. Брат Андрей оказался старцем лет восьмидесяти, удивительно простым, добродушным и смиреннейшим существом. Матушка для моего назидания попросила рассказать его о своей жизни. Не буду говорить обо всем, расскажу только о некоторых чудесных событиях его жизни.
Брат Андрей был «единоличником» , не принявшим коллективизации. Он знал, что жизнь его в опасности, поэтому постоянно молился. Однажды, идя по дороге, он увидел мчащуюся навстречу тройку лошадей с вооруженными активистами-большевиками. «По мою душу»- подумал Андрей и взмолился Богу. И вдруг некая сила подняла его на воздух, так что тройка с изумленными людьми промчалась внизу. Больше убить его не пытались.
Другой случай. «Загорелся у меня дом»- говорил Андрей — что делать? Крыша уже горит. Взял я иконку «Неопаляемую Купину» и стал с молитвой обходить дом. Дак вод беда, плетень не дает. Разорвал я кое-как плетень, закончил обход, смотрю, а пламень над домом схлопнулся и исчез. Конечно, кой-чего пришлось поправлять, но дом остался.
Я впоследствии говорю матушке: «Уж очень все как-то сказочно». «Нет-нет», — сказала она — «верьте ему. За его простоту и исповедничество Господь дает ему такое утешение.»
Впоследствии мне еще раз удалось встретиться с этим старцем на приходе у своего друга, покойного прот. Сергия Цветкова. Мы с братом Андреем ночевали в смежных комнатах, а я в чужой постели сплю плохо. Так вот всю ночь, просыпаясь, я слышал молитву этого чудного старца.
О нем же мне рассказал о. Сергий.
«У него жена была неверующая, в церковь его не любила пускать. А у меня чтимая икона Богородицы. И как раз Ее праздник. Задумал Андрей в церковь сходить. Жена ни в какую, телогрейку спрятала, а холодно. Вот он и решил раздетым в церковь прибежать. Подходит он приложиться к иконе задолго до службы, а телогрейка его на иконе висит.»
Там же у о. Сергия брат Андрей сказал мне: «Геннадий, знаешь когда случится последняя страшная война?» «Когда?» «На Александра Невского». «А точно когда? Их ведь два.» «А на тот, что сразу после Усекновения». Я все-таки дерзнул спросить: откуда он это знает? — «Ангел сказал мне» — просто ответил он. Вот такие люди бывали у матушки.
Несколько слов хочется сказать и о келейнице м. Иларии, монахине Манефе (в миру Марианна). Из всех келейниц старцев, которых мне приходилось видеть, она, пожалуй была наиболее покладистой. Матушка иногда в шутку называла ее Марфой, поскольку та часто выходила за рамки келейных забот, постоянно говоря о необходимости что-то красить, ремонтировать, обновлять… Она была из простой крестьянской семьи. Видимо, крестьянская сметка и помогла ей сохранить девство и непорочность. Когда в их дом пришли большевики, (а их большая семья была в расстрельных списках и позднее частью расстреляна, а частью сослана в Сибирь) она бросилась на пол, катаясь и крича всякую бессмыслицу. Солдаты, которые часто насиловали девиц, не тронули ее, погнушавшись.
Она, как и все келейницы святых, смиряла матушку страшно. Но ничего плохого сказать о ней не могу. Она с честью и безропотно выполнила свою миссию Марфы. Все время с улыбкой вспоминаю как она обращалась ко мне с вопросом. Не глядя на меня, била палкой мне по ноге и затем спрашивала.
Чудесные, удивительные, святые люди уходят из нашей жизни. Уходит свет и наступает тьма. Ведь что такое тьма? Отсутствие света.
Матушка Илария умерла в октябре 1979 г. и была похоронена за алтарем церкви села Верхние Котицы, в 12 километрах от Осташкова. Настоял на этом прот. Константин (Воробьев), который часто ее исповедывал.
Душа ея во благих водворится и память ея в род и род.
Впервые опубликовано на сайте Иоанновская семья
Колокольный звон долетал, казалось, до самого неба, сливаясь с величественными раскатами грома. Монахиня Илария семенящей походкой шла к монастырским воротам: приехали гости.
— Матушка, Христос посреди нас!
Так кричать могла только Ксения. Стоило этой молодой женщине появиться в обители, как матушка трагически вздыхала, предвкушая грядущие перемены в ее тихой размеренной жизни. Сколько она мечтала, чтобы ее перевели на другое послушание – уже и не вспомнить. Но игуменья была непреклонна, а духовник с негодованием пресек подобные просьбы:
— Покоя захотела?А, кто тебе сказал, что в монастырь за покоем идут?Ишь ты, душевную тишину ее нарушают! Ты бы, мать Илария, подумала хоть раз: каково твоим паломникам в миру христианами оставаться. Это ты здесь, как тепличный цветок растешь, а они в такой кутерьме живут – Господи, помилуй! Попробуй-ка и мужу угодить, и детей воспитать, и старикам помочь, да при этих хлопотах еще и Богу послужить. Хорошо устроилась: отгородилась от внешней суеты и рада.
— Отче, у меня такая брань внутри идет, а по вашим словам так я здесь как в раю, — пыталась побороть обиду матушка.
— В раю, не в раю, а расслабляться тебе не зачем. Велено заниматься гостями – занимайся. И старайся для них утешением стать. А то придумала: себе выгоду во всем искать… Монах – он не для себя живет, а для Бога.
Вот и сейчас матушка, вспомнив слова духовника, улыбнулась. А Ксения уже летела со скоростью света в ее объятия:
— Как же я соскучилась!
Глядя на Ксению, никто бы не подумал, что этой энергичной и шумной молодой женщиной было пролито столько слез… Впервые она приехала в монастырь десять лет тому назад, и с тех пор матушка Илария стала ей как родная мать, которой у Ксении никогда не было.
— Я детдомовская, — в первый же вечер бесхитростно стала рассказывать о себе молодая гостья, — но вера в Бога у меня твердая, спасибо нашей уборщице, тете Зине. Она умудрилась даже всех детей научить молитвам «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся». Знаете, интересное дело: ребята, ведь, у нас разные были, но над набожностью старой женщины никто и не думал смеяться. Просто столько в ней любви было, что и каждому из нас, хоть крупица, да передалась…
Матушка слушала рассказчицу, не перебивая. Тогда она только начинала нести это нелегкое послушание, и даже не представляла, сколько человеческих судеб ей предстоит пропустить через собственную душу.
Тем временем, Ксения продолжала:
— У нас все дети о чем-нибудь мечтали. Мало кто рассказывал друг другу об этих фантазиях… Но иногда, когда жить становилось невыносимо трудно, мы могли и посекретничать.
— О чем вы мечтали? – дрогнувшим голосом спросила матушка.
— Оля Лисицына, например, хотела врачом стать. Чтобы ездить на скорой помощи и спасать людей.
Взгляд Ксении затуманился, и в уголке глаза показалась крохотная слезинка:
— Оленька не дожила и до двадцати. Передозировка героина.
— Ну, а ты? Какая у тебя была мечта? – постаралась матушка отвлечь от грустных воспоминаний паломницу.
Девушка встрепенулась:
— Мне многого не надо. Я хочу просто хотя бы раз в жизни заснуть улыбаясь…
К горлу матушки Иларии подступил неприятный ком. Ей хотелось бежать ото всех этих историй, куда глаза глядят. Она не сможет. Она не хочет, в конце концов! У нее своя собственная духовная брань, и некогда вникать в горести других. Но, все-таки, она вникала. А потом, неожиданно для себя, решила молиться о Ксении, если благословит духовник.
Батюшка благословил. Время шло и паломниц, к судьбам которых она не могла остаться равнодушной, становилось все больше. Ксения теперь приезжала в монастырь регулярно. Она искренне верила, что матушка Илария – ее настоящая духовная подруга. Ей она рассказывала о своих мыслях, с ней она советовалась, куда устроиться на работу, с кем дружить, а кого держаться подальше. Впрочем, матушка никаких советов и не давала: Ксении просто нужно было, чтобы кто-то ее слушал. Девушка старательно размышляла над пользой того или иного поступка, а потом приходя к какому-то решению, радовалась:
— Так и поступим! Спасибо за то, что возишься со мной!
Матушка только в недоумении поднимала брови:
— Что ты, Ксеньюшка, я даже и рта не открыла, пока ты щебетала. Так что ты, как всегда, со всеми вопросами разобралась самостоятельно!
— Нет, — упрямо качала головой гостья монастыря, — ты мне молитвой помогала и своим вниманием. Без тебя я бы ни за что не справилась.
За долгие годы этой дружбы, у них сложились даже некоторые традиции. Например, в первый день приезда, женщины устраивали перед сном долгую беседу, и Ксения рассказывала обо всем, что произошло в ее жизни за последнее время. Вот и сегодня, уютно устроившись на скамейке под молоденькой яблоней, гостья заговорила:
— В нашем детском саду настоящее чудо! В мою группу привели мальчишек-близнецов, представляешь? До чего же умные и смышленые ребята! Их сразу же полюбили все воспитатели и дети. Хотя, в общем-то, ничего удивительного: когда я познакомилась с их родителями, то сразу поняла, что такие люди иначе и не могли воспитать своих малышей. Такая красивая пара… Не знаю как это словами описать, но глядишь на них и понимаешь: вот она, настоящая христианская семья.
— Так они верующие? – улыбаясь, спросила матушка.
— Конечно! Геннадий Яковлевич очень сетовал, что в нашем городе нет православных садиков. Они с Надеждой Ивановной и детьми к нам недавно переехали. А, сами они, кажется, родом из столицы. Представляешь, они своих троих сыновей вырастили, а потом взяли из Дома малютки близнецов. В общем, от Степановых, мы все в восторге. Такие чудесные мальчики. Они нам каждый день настроение поднимают.
Матушка Илария сначала побледнела, а потом, взяв себя в руки, тихо переспросила:
— Как ты, говоришь, зовут родителей твоих близнецов?
Ксения даже растерялась от такой реакции:
— Степановы. Геннадий Яковлевич и Надежда Ивановна…
И вдруг ей стало больно. Так больно, что захотелось кричать. Четки безжизненно повисли на руке, а матушка отчетливо ощутила: все было бессмысленно. Крест, который она несла, был никому не нужен.
— Тебе плохо? Ты такая бледная! – Ксения взволнованно смотрела ей прямо в глаза.
— Сердце прихватило, прости, мне надо в келью.
Голос ее был спокоен и тверд. И это пугало матушку даже больше, чем собственно новость о Геннадии. Матушка прислушивалась к себе и с ужасом понимала: в ее сердце не было любви к Богу. Тридцать лет была, а теперь не стало. Исчезла она куда-то, растворилась в этом безразличном мире без остатка… Она не понимала, как такое могло случиться. А, самое страшное — матушка Илария чувствовала обиду на Христа. Ведь, она пожертвовала собой, а Геннадий струсил. И теперь вот, получается, ее жертва ничего не значила?! Никому она не нужна была?
Переступив порог кельи, она посмотрела на икону Спасителя. Ничего. Совершенно ничего она не чувствовала. Тупое безразличие, переплетающееся с тоской. Матушка прилегла на узкую кушетку и закрыла глаза. Картинки давно минувших дней стали мелькать перед глазами, заставляя сжимать четки все сильнее…
Если бы в восьмидесятых ей кто-то сказал, что она станет монахиней, она бы даже не рассмеялась. Наверное, просто подралась бы с человеком, посмевшим такое заявить. Какая религия, какой Бог?! Люди – существа разумные и должны самостоятельно строить свою жизнь. Вот она, например, всего добивалась сама. Даже родители удивлялись твердости характера дочки. Если что-то решила, все. В лепешку расшибется, но задуманное осуществит. Так, молодой специалист Варвара Мухина уверенно шагала в светлое будущее. Все у нее ладилось, все получалось. Даже жених имелся в наличии – скромный и тихий Генка Степанов. Товарищи недоумевали, что же отважная и смелая Варенька нашла в этом интеллигентного вида юноше. Варвара и сама не знала, но ей льстило, что такой умный парень с интересом выслушивает ее идеи. А, идеи девушки, надо сказать были масштабными… Если уж что-то и делать, то с размахом – чтобы удивить весь мир!
Она состояла в секции горнолыжного спорта несколько лет. После знакомства с Геной, Варвара и его зажгла идеей покорения новых высот:
— Человек – хозяин своей судьбы, понимаешь? Захотел одолеть гору, и никто ему в этом не может помешать! Каждый новый поход не похож на предыдущий. Преодолевая новые рубежи, ощущаешь себя хозяином земных красот…
Девушка вообще умела говорить так убедительно, что ребята, вдохновленные ее словами, были готовы совершать все новые и новые подвиги. Так было и в тот злополучный день. Варвара с замиранием сердца ждала того прекрасного момента, когда их группа окажется на вершине Казбека. Вот они, самые смелые и отважные члены спортивного клуба, готовятся к поездке, обещающей стать самой запоминающейся в их жизни. Казбек… В одном лишь этом слове столько чарующего и завораживающего! У всех ребят было по несколько восхождений за плечами, но в этот раз витало в воздухе предчувствие чего-то особенного.
Матушка Илария поежилась, словно в ознобе. Безжалостная память заставляла ее вспоминать ужасную трагедию…
Ночью ее разбудил оглушительный гром. Она сразу поняла – это конец. Рядом шла лавина. Шансов не было никаких. Дальше все происходило словно в тумане: вот она мечется возле палатки и никак не может сообразить куда бежать. Потом кто-то резко дергает ее за руку и тащит вниз, к скале… Это был Гена. Она стояла как вкопанная и не могла вымолвить ни слова, а он все шептал: «Господи, помоги. Господи, помилуй».
Они выжили. Уже потом Варвара узнала, что ее жених был верующим.
— Как ты мог скрывать от меня такое?! – возмущалась девушка.
Гена только пожимал плечами и ничего не отвечал. Но факт оставался фактом: Бог их спас. С этим Варвара спорить не смела. В минуты опасности она настолько явственно ощущала чье-то всесильное и всемогущее присутствие, что все логические аргументы разбивались в дребезги о личный духовный опыт. Девушка с изумлением признала: Он существует!
Она с головой ушла в изучение Православия. Теперь монашество, которое до этого ею высмеивалось, стало казатьсяпределом совершенства христианской жизни. И, спустя какое-то время, Варвара заявила:
— Гена, Бог спас нам жизнь тогда, в горах, и мы должны Его отблагодарить. Давай уйдем в монастырь и целиком посвятим себя служению Христу!
Однако Геннадий неожиданно проявил твердость, и с невестой соглашаться не спешил:
— Варя, вступить на путь монашества – это не на гору подняться. Пойми ты, такой серьезный и ответственный шаг нужно принимать обдуманно.
— А я все обдумала! – кипятилась Варвара, — нечего воздух сотрясать умными словами. Пора брать свой крест и следовать за Христом!
Жених пытался ей объяснить, что отблагодарить Бога за подаренное спасение следует чистой и праведной жизнью. А, в монастыре, или вмиру – это не так уж принципиально.
— Можно спастись, созидая в семье малую церковь. А, можно и в кельи погибать, если душа будет оставаться надменной и горделивой.
Спорили они долго. И все-таки Варваре удалось уговорить Геннадия. Для девушки же главным было то, что она сумеет отдать Богу самое лучшее, что у нее есть – молодость и силы. Да, она готова была положить на алтарь даже будущую семью! Потому что там, где нет подвига и самоотречения, там не может быть и настоящей веры.
Вместе с Геной они стояли на вокзале. У обоих – небольшие спортивные сумки. Они разъезжались в разные стороны, чтобы никогда уже не встретиться вновь. Варвара ни на секунду не сомневалась, что их обоих ожидает постриг.
В обители ее встретили радушно, но пыл охладили. Матушка-игуменья и духовник очень много разговаривали с молодой девушкой и старались объяснить ей суть монашеского делания. Варвара со всем соглашалась, обещала не торопиться с выводами, но внутренне уже приняла решение: стать монахиней – единственный для нее возможный вариант.
В послушницах она пробыла долго. Наверное, Бог умягчил сердца ее родителей, и для них выбор дочери, хоть и был неожиданным, но приняли они его спокойно. Мама даже заметила:
— Возможно, так тебе, действительно, будет лучше… Все-таки наша прабабушка была монахиней. Видимо, по ее молитвам Господь не дал угаснуть огоньку веры в нашей семье. Ты нас прости, дочка. Мы в Бога верим, но никогда открыто этого не исповедали. Да и тебя жить по христиански не научили.
Варвара еще долго вспоминала мамины слезы, и не могла понять: как же она не видела, что вокруг столько верующих людей?! Неужели она всю свою жизнь интересовалась только собой?! Чуть позже к ней приезжали знакомые и друзья. Кто-то пытался ее вразумить, кто-то просто хотел посмотреть на настоящую «монашку». И только несколько человек поддержали ее и пожелали твердости и сил на этом тернистом пути. Девчата рассказали, что и Геннадий выполнил уговор и теперь он трудник в мужском монастыре.
Потом уже был ее постриг, на который приехали родители и выглядели такими трогательно-восторженными, что у нее радостно ликовало сердце. Вот он – ее настоящий путь! Ее дорожка, ведущая к истинной высоте!
Матушка Илария открыла глаза и с горечью посмотрела на свое черное облачение. Кто же она теперь? Монахиня? Разве можно ее так назвать после мыслей, пронесшихся в голове? Да, она злилась. И еще ревновала. Получается, Бог любит одинаково и Геннадия, не дерзнувшего дать обеты, и ее – человека, пожертвовавшего всем. Только теперь она поняла ту простую истину, которую ей пытались объяснить много лет тому назад: быть христианином можно на любом месте и в любых обстоятельствах…
А, она не сумела этого сделать даже в монастыре! Каким же отвратительно завистливым, самонадеянным и горделивым оказалось ее сердце! Если бы только можно было все изменить… Она бы начала с чистого листа. Но, можно ли стать монахиней, если ты уже тридцать лет, как считаешься таковой? Страхи и сомнения разрывали ее душу на части, и наконец, матушка Илария упала на колени и взмолилась:
— Господи, переплавь мое сердце! Нет во мне ни капли любви к Тебе и к своим ближним. Отец, но я так сильно хочу стать человеком!
Время остановилось, и она снова ощутила, как и тридцать лет тому назад, что рядом с ней Бог. Четки потихоньку заскользили в ее руке. Сегодня она увидела, как отвратительна ее душа. Она почувствовала, что самостоятельно не может абсолютно ничего… И, вместе с этим пришла надежда. Ведь, если человек понимает, что болен, значит, Врачу будет легче его лечить.
— Господи, делай со мной что хочешь, только спаси душу мою грешную, — прошептала матушка и поднялась с колен.
На скамейке возле монашеского корпуса вот уже несколько часов ее ждала взволнованная Ксения. Молодая женщина очень сильно переживала за здоровье самого дорогого на свете человека. А еще ей почему-то захотелось рассказать, что детская мечта сбылась. Засыпая прошлой ночью, Ксения представила, что именно сейчас ее дорогая Илария читает в храме неусыпаему Псалтирь. От этого стало так тепло и радостно, что женщина погрузилась в глубокий сон с улыбкой на устах.
Наталия Климова
Если вам интересно, перейдите по ссылкам:
Читать православные притчи
Читать православные рассказы
Читать православные сказки для детей
Перепечатка материала возможна только с указанием автора работы и активной ссылки на сайт https://elefteria.ru/
Приблизительное время чтения: 10 мин.
Когда в 1993 году я на долгих тринадцать месяцев улетал учиться в США, моя мама дала мне в дорогу сложенный вчетверо лист бумаги с написанными от руки словами: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…» Слов было много, слова были непонятны, но из всего того багажа, что я увозил с собой на этот ужасно долгий год, это было самое ценное, хоть и объяснить этого я бы не смог ни себе, ни кому-то еще. Просто чувствовал. Сложил аккуратно в паспорт, потом долго, пока края не истерлись, носил в бумажнике. А сейчас тот листок с теми словами бесценной реликвией — вот ни капли не лукавлю! — хранится у меня дома в рамке на самом видном месте.
Александр Лавров, радиоведущий
Фото с личной страницы в Фейсбуке (деятельность организации запрещена в Российской Федерации)
В нашей семье, как и, наверное, в большинстве советских семей, не было ни икон, ни распятий. Никто не ходил по воскресеньям в церковь и не читал вечерами Евангелия. О Боге не говорили. Тогда было принято на вопрос «Вы атеисты?» с какой-то упертой странной гордостью отвечать: «Да, мы атеисты!» Но сейчас, когда оглядываюсь на тридцать лет назад, у меня не повернется язык сказать, что не верили. Верили, чувствовали, просто не понимали, а оттого не принимали. Верили неумело, словно дети, которые ни говорить, ни читать не умеют. И я верил. И, оглядываясь назад, понимаю, что все это время неосознанно, но искал дорогу к Богу. Слышал, что стучится Он ко мне, но, словно все тот же несмышленый ребенок, не знал, как поворачивается ключ в замке, чтобы дверь открыть.
Петра
Двадцать лет спустя я в качестве журналиста отправился в пресс-тур по Иордании. Через всю страну нас в тонированном наглухо микроавтобусе возил интеллигентного вида, при костюме и галстуке иорданец Суфьян. Он был обаятелен, внимателен к мелочам и знал немало русских слов типа «перекур», «KFC» и «ножки Буша». «Мое имя очень просто запомнить! — улыбаясь, приговаривал он со своим арабским акцентом. — Петросян, Хачатурян, Суфьян!» Говорил, что рядом с нашим пятизвездочным Crown Plaza можно гулять даже ночью. Потом с сомнением смотрел на безлюдную улицу, уходящую в темноту и показывал пальцем: «Вот туда… можно… Там золотой магазин…»
— А русских в Аммане много, Суфьян? — спрашивал я.
— Довольно много, — качал он головой.
— И как они? Держатся общиной или просто работают здесь?
— Большинство замужем, — серьезно отвечал Суфьян.
От горы Моисея с причудливым змееобразным посохом на вершине до маслянистого словно щелочь Мертвого моря; от древних до невозможности мозаик до загадочной и величественной Петры, высеченной в красном камне; от деревенских кафе до пятизвездочных отелей — этот пресс-тур остался бы рядовой поездкой, если бы не то, что случилось со мной в последний день. Утром за традиционным шампанским Суфьян объявил, что сегодня в программе заявлено посещение странноприимного дома Русской Православной Церкви на Иордане и места крещения Христа.
На горе Моисея
— О! — обрадовались журналисты. — Так это прекрасно! Окунемся! Непременно окунемся — место там особенное, такую возможность упустить нельзя.
Я с сомнением пожал плечами.
— А ты что ж? — посмотрели на меня коллеги. — Ты разве не собираешься там окунуться?
— Да что мне, — смущенно отмахнулся я. — Я ж даже не крещеный, какой толк мне там окунаться?
— Ах вот как? — всплеснули руками журналисты. — Так пренепременно же там тебя и покрестим! Ну посуди сам, где, как не там? Покрестим ведь?
Но чем дольше мы ходили по узким тропинками среди густых зарослей на берегу Иордана, тем сосредоточенней и тише я становился. Всматривался в темную воду Иордана, касался руками листьев невысоких деревьев, проводил пальцами по деревянным перилам. И чем дальше, тем больше утверждался в мысли, что креститься вот так, между ужином и шампанским, — это большая ошибка. Неправильно что-то очень важное превращать в аттракцион для туристов. А в том, что это что-то очень важное, я уж и не сомневался.
К тому моменту, как мы собрались у небольшой стойки церковной лавки странноприимного дома при Русской православной миссии, я уже твердо знал, что так креститься я точно не буду. Пока коллеги покупали себе специальные рубахи для того, чтобы окунуться, а с ними и воду Иордана, и свечи, и какие-то кулоны, я стоял поодаль, рассматривая выложенные на прилавке книги.
— Ну а ты что стоишь? — мягко спросила меня женщина с серо-голубыми глазами в монашеской одежде, когда коллеги отправились «окунаться». — Возьми рубаху да иди с ними!
— Нет, благодарю, — покачал я головой, — Что мне окунаться — я ж не крещеный.
— Так покрестись! Вот сейчас же и покрестись!..
— Да какое там… — махнул я рукой, но женщина вышла из-за прилавка и подошла ко мне.
— Как тебя зовут?
— Александр.
— А меня Илария. Матушка Илария. В миру Ирина, из Москвы я, но вот Господь сюда меня привел. Вот что, Александр. Наш настоятель бывает здесь редко — обычно он в разъездах с паломниками, в делах. А сейчас он здесь, представляешь? Вот там, в соседней комнате, будто бы тебя и ждет.
И, не дожидаясь ответа, взяла меня за руку и проводила в просторную белую комнату. Из мебели в той комнате был разве что простой диван, пара кресел да маленький журнальный столик. На диване сидел пожилой священник в светло-сером балахоне с ослепительно белой бородой.
— Ну, зачем пришел? — он смотрел на меня с какой-то доброй улыбкой, с какой взрослые обычно смотрят на совсем маленьких детей.
— Я… — растерянно замямлил. — Я… Ну… В общем, я это… Креститься пришел.
— Хорошо, — кивнул настоятель, — Креститься это очень хорошо. Но только скажи мне вот что. А что такое Православие?
— Православие? Ну… Это… Когда… Ну… В общем… А затем… Это…
Стыдно вспомнить сейчас, что я нес тогда тихим дрожащим голосом, сидя перед настоятелем в том кресле. А тот даже не изменился в лице.
— Хорошо, — ободряюще кивнул он. — А кто такой Иисус Христос?
— Ну… Это…
Когда я закончил, настоятель продолжал улыбаться. Помолчав немного, он сказал.
— Желание покреститься — это хорошее желание. Но очень важно понимать, что это такое, почему и зачем. Пока ты не сможешь оценить это — ты не сможешь это принять. Откуда ты? Из Москвы? Ну так в чем же дело? Там свыше трехсот прекрасных храмов, там тебя любой батюшка покрестит. Ведь по большому счету неважно, где ты примешь Крещение, здесь ли, там ли. Но очень важно, чтобы ты знал ответы на главные вопросы. Важно, чтобы они были у тебя и в голове, и в сердце.
Тут священника прервал его ассистент: подошел, протянул ему трубку мобильного телефона, объяснил что-то коротко. Настоятель взял телефон и начал что-то объяснять своему собеседнику.
Я смущенно смотрел в пол. Странно, да? С одной стороны, я и так вроде сам принял решение не креститься здесь, понимал, что это требует и подготовки, и знаний. А с другой стороны, я никак не мог избавиться от неприятного ощущения, будто бы мне сейчас двойку поставили. Я тяжело вздохнул и привстал с кресла: «Слушайте, я не буду вам мешать, спасибо вам, я все понял… Пойду я…» Настоятель жестом руки усадил меня обратно: «Нет, сиди. Я с тобой еще не закончил…»
— Хорошо, — улыбнулся священник, вернув трубку своему ассистенту. — А теперь рассказывай.
— Что — рассказывай? — окончательно растерялся я.
— Рассказывай, зачем ты пришел сюда на самом деле.
Он наклонился ко мне, и… Вспоминая этот момент сегодня, я понимаю, что это было больше, чем просто запах, который исходил от моего собеседника. Вот если бы «свежесть» и «свет» могли бы быть запахом, то это был бы именно такой запах. Я смотрел прямо в его улыбающиеся глаза, и мне хотелось приблизиться еще, чтобы окончательно раствориться в этом особенном, будто бы давно забытом запахе, ощущении, атмосфере. И я начал рассказывать.
Я рассказывал о своих нескладных отношениях и о своем тяжелом характере; о том, что я плохой сын и отвратительный отец; о том, что у меня нет ни сил, ни желания двигаться к своей цели, да и цели, если задуматься, никакой нет. О том, что я, словно лист неприкаянный в горной реке, несусь туда, куда течение вынесет, а течение чем дальше, тем немилосердней.
Мои журналисты уже давно окунулись, обсохли и ждали меня у нашего тонированного микроавтобуса, а я все рассказывал. И чем дольше я рассказывал — тем шире становилась улыбка священника.
Дом паломника на месте Крещения Господня в Иордании
— Вот все, что ты мне до этого плел про Православие, — то прямо никуда не годится. А вот то, что ты мне сейчас рассказал, — мне, как священнику, это словно бальзам на душу! Видишь ли, какая штука…
Откровенно говоря, я уж и не вспомню точно, о чем мы с ним говорили тогда конкретно. Но говорили долго. И тогда я не осознавал, что, в сущности, это была моя первая исповедь.
— Вот как мы поступим, — сказал наконец настоятель, — Ты сейчас отправляйся домой, возьми там лист бумаги и напиши на нем все-все-все свои грехи. Вот как ты сам их понимаешь — так и напиши. А завтра с утра пораньше приезжай ко мне — я тебя и покрещу!
— Но… У меня завтра в шесть утра самолет! — с сожалением ответил я.
— Жаль. Ну да ничего. Вот тебе мой совет. Вернешься в Москву — ступай в храм на Юго-Западной. Пройди катехизацию, чтобы все по уму, и покрестись.
На совершенно ватных ногах я вышел в комнату с церковной лавкой. Матушка Илария улыбнулась и без лишних вопросов протянула мне крестильную рубаху: «Ступай к реке, окунись…» А я попросил у нее еще крестик и, подумав, пару кулонов — для мамы и для дочки. Спустившись к совершенно безлюдной купальне, я переоделся и, сжимая в одной руке крестик, а в другой кулоны, трижды окунулся в воду, а потом, словно оглушенный прекрасной тишиной, стоял по пояс в воде и то ли плакал, то ли улыбался.
— Я словно чувствовала, что ты сегодня придешь! — встретила меня матушка Илария и протянула мне икону, — Будто бы для тебя и взяла. Это Александр Невский. Он твой небесный покровитель. Храни ее. И не откладывай с крещением, хорошо? Вот пообещай мне, это очень важно.
Я взял икону, она написала мне номер своего мобильного телефона — так, чтобы был на всякий случай, если вопросы какие будут, — и я уж было собрался уходить, но беспокойная матушка Илария снова ко мне обратилась.
Купальня на реке Иордан
— Подожди, не отпущу тебя так! — серьезно сказала она, заглянула под прилавок и протянула мне еще маленький темно-синий молитвослов и простой заламинированный прямоугольник, на одной стороне которого была икона, а на другой молитва. Я окончательно растерялся, не зная, как уж и благодарить ее за этот дар, а матушка Илария махнула рукой и улыбнулась.
— А теперь ступай. С Богом. Ждут тебя.
Я сделал пару шагов в сторону двери.
— Матушка Илария, я ведь это… Даже как креститься не знаю.
— А вот так, — показала она мне. — Вот два пальца, видишь? Они символизируют, что Иисус и Богом был, и человеком, а три — то Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух. Вот так…
Когда я сел в глухо тонированный микроавтобус нашей маленькой журналистской делегации, гид Суфьян внимательно и как-то настороженно посмотрел на меня.
— Александр! — с мягким иорданским акцентом сказал он, — Вы какой-то бледный. Вы мне не нравитесь!
— Суфьян, — счастливо выдохнул я, — А вы мне нравитесь очень. Правда.
Когда микроавтобус вырулил на шоссе, я внимательно рассмотрел ламинированную икону. На одной стороне была икона Богородицы с младенцем, а на обратной — молитва, которая начиналась словами: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…»
Вскоре я крестился. В храме благоверного князя Александра Невского при МГИМО, что на Юго-Западной. Но это уже совсем другая история.
Смотрите также:
Живые истории «Фомы» теперь в звуке и на видео в озвучке Александра Ананьева
Фото из личного архива автора
Колокольный звон долетал, казалось, до самого неба, сливаясь с величественными раскатами грома. Монахиня Илария семенящей походкой шла к монастырским воротам: приехали гости.
— Матушка, Христос посреди нас!
Так кричать могла только Ксения. Стоило этой молодой женщине появиться в обители, как матушка трагически вздыхала, предвкушая грядущие перемены в ее тихой размеренной жизни. Сколько она мечтала, чтобы ее перевели на другое послушание – уже и не вспомнить. Но игуменья была непреклонна, а духовник с негодованием пресек подобные просьбы:
— Покоя захотела?А, кто тебе сказал, что в монастырь за покоем идут?Ишь ты, душевную тишину ее нарушают! Ты бы, мать Илария, подумала хоть раз: каково твоим паломникам в миру христианами оставаться. Это ты здесь, как тепличный цветок растешь, а они в такой кутерьме живут – Господи, помилуй! Попробуй-ка и мужу угодить, и детей воспитать, и старикам помочь, да при этих хлопотах еще и Богу послужить. Хорошо устроилась: отгородилась от внешней суеты и рада.
— Отче, у меня такая брань внутри идет, а по вашим словам так я здесь как в раю, — пыталась побороть обиду матушка.
— В раю, не в раю, а расслабляться тебе не зачем. Велено заниматься гостями – занимайся. И старайся для них утешением стать. А то придумала: себе выгоду во всем искать… Монах – он не для себя живет, а для Бога.
Вот и сейчас матушка, вспомнив слова духовника, улыбнулась. А Ксения уже летела со скоростью света в ее объятия:
— Как же я соскучилась!
Глядя на Ксению, никто бы не подумал, что этой энергичной и шумной молодой женщиной было пролито столько слез… Впервые она приехала в монастырь десять лет тому назад, и с тех пор матушка Илария стала ей как родная мать, которой у Ксении никогда не было.
— Я детдомовская, — в первый же вечер бесхитростно стала рассказывать о себе молодая гостья, — но вера в Бога у меня твердая, спасибо нашей уборщице, тете Зине. Она умудрилась даже всех детей научить молитвам «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся». Знаете, интересное дело: ребята, ведь, у нас разные были, но над набожностью старой женщины никто и не думал смеяться. Просто столько в ней любви было, что и каждому из нас, хоть крупица, да передалась…
Матушка слушала рассказчицу, не перебивая. Тогда она только начинала нести это нелегкое послушание, и даже не представляла, сколько человеческих судеб ей предстоит пропустить через собственную душу.
Тем временем, Ксения продолжала:
— У нас все дети о чем-нибудь мечтали. Мало кто рассказывал друг другу об этих фантазиях… Но иногда, когда жить становилось невыносимо трудно, мы могли и по секретничать.
— О чем вы мечтали? – дрогнувшим голосом спросила матушка.
— Оля Лисицына, например, хотела врачом стать. Чтобы ездить на скорой помощи и спасать людей.
Взгляд Ксении затуманился, и в уголке глаза показалась крохотная слезинка:
— Оленька не дожила и до двадцати. Передозировка героина.
— Ну, а ты? Какая у тебя была мечта? – постаралась матушка отвлечь от грустных воспоминаний паломницу.
Девушка встрепенулась:
— Мне многого не надо. Я хочу просто хотя бы раз в жизни заснуть улыбаясь…
К горлу матушки Иларии подступил неприятный ком. Ей хотелось бежать ото всех этих историй, куда глаза глядят. Она не сможет. Она не хочет, в конце концов! У нее своя собственная духовная брань, и некогда вникать в горести других. Но, все-таки, она вникала. А потом, неожиданно для себя, решила молиться о Ксении, если благословит духовник.
Батюшка благословил. Время шло и паломниц, к судьбам которых она не могла остаться равнодушной, становилось все больше. Ксения теперь приезжала в монастырь регулярно. Она искренне верила, что матушка Илария – ее настоящая духовная подруга. Ей она рассказывала о своих мыслях, с ней она советовалась, куда устроиться на работу, с кем дружить, а кого держаться подальше. Впрочем, матушка никаких советов и не давала: Ксении просто нужно было, чтобы кто-то ее слушал. Девушка старательно размышляла над пользой того или иного поступка, а потом приходя к какому-то решению, радовалась:
— Так и поступим! Спасибо за то, что возишься со мной!
Матушка только в недоумении поднимала брови:
— Что ты, Ксеньюшка, я даже и рта не открыла, пока ты щебетала. Так что ты, как всегда, со всеми вопросами разобралась самостоятельно!
— Нет, — упрямо качала головой гостья монастыря, — ты мне молитвой помогала и своим вниманием. Без тебя я бы ни за что не справилась.
За долгие годы этой дружбы, у них сложились даже некоторые традиции. Например, в первый день приезда, женщины устраивали перед сном долгую беседу, и Ксения рассказывала обо всем, что произошло в ее жизни за последнее время. Вот и сегодня, уютно устроившись на скамейке под молоденькой яблоней, гостья заговорила:
— В нашем детском саду настоящее чудо! В мою группу привели мальчишек-близнецов, представляешь? До чего же умные и смышленые ребята! Их сразу же полюбили все воспитатели и дети. Хотя, в общем-то, ничего удивительного: когда я познакомилась с их родителями, то сразу поняла, что такие люди иначе и не могли воспитать своих малышей. Такая красивая пара… Не знаю как это словами описать, но глядишь на них и понимаешь: вот она, настоящая христианская семья.
— Так они верующие? – улыбаясь, спросила матушка.
— Конечно! Геннадий Яковлевич очень сетовал, что в нашем городе нет православных садиков. Они с Надеждой Ивановной и детьми к нам недавно переехали. А, сами они, кажется, родом из столицы. Представляешь, они своих троих сыновей вырастили, а потом взяли из Дома малютки близнецов. В общем, от Степановых, мы все в восторге. Такие чудесные мальчики. Они нам каждый день настроение поднимают.
Матушка Илария сначала побледнела, а потом, взяв себя в руки, тихо переспросила:
— Как ты, говоришь, зовут родителей твоих близнецов?
Ксения даже растерялась от такой реакции:
— Степановы. Геннадий Яковлевич и Надежда Ивановна…
И вдруг ей стало больно. Так больно, что захотелось кричать. Четки безжизненно повисли на руке, а матушка отчетливо ощутила: все было бессмысленно. Крест, который она несла, был никому не нужен.
— Тебе плохо? Ты такая бледная! – Ксения взволнованно смотрела ей прямо в глаза.
— Сердце прихватило, прости, мне надо в келью.
Голос ее был спокоен и тверд. И это пугало матушку даже больше, чем собственно новость о Геннадии. Матушка прислушивалась к себе и с ужасом понимала: в ее сердце не было любви к Богу. Тридцать лет была, а теперь не стало. Исчезла она куда-то, растворилась в этом безразличном мире без остатка… Она не понимала, как такое могло случиться. А, самое страшное — матушка Илария чувствовала обиду на Христа. Ведь, она пожертвовала собой, а Геннадий струсил. И теперь вот, получается, ее жертва ничего не значила?! Никому она не нужна была?
Переступив порог кельи, она посмотрела на икону Спасителя. Ничего. Совершенно ничего она не чувствовала. Тупое безразличие, переплетающееся с тоской. Матушка прилегла на узкую кушетку и закрыла глаза. Картинки давно минувших дней стали мелькать перед глазами, заставляя сжимать четки все сильнее…
Если бы в восьмидесятых ей кто-то сказал, что она станет монахиней, она бы даже не рассмеялась. Наверное, просто подралась бы с человеком, посмевшим такое заявить. Какая религия, какой Бог?! Люди – существа разумные и должны самостоятельно строить свою жизнь. Вот она, например, всего добивалась сама. Даже родители удивлялись твердости характера дочки. Если что-то решила, все. В лепешку расшибется, но задуманное осуществит. Так, молодой специалист Варвара Мухина уверенно шагала в светлое будущее. Все у нее ладилось, все получалось. Даже жених имелся в наличии – скромный и тихий Генка Степанов. Товарищи недоумевали, что же отважная и смелая Варенька нашла в этом интеллигентного вида юноше. Варвара и сама не знала, но ей льстило, что такой умный парень с интересом выслушивает ее идеи. А, идеи девушки, надо сказать были масштабными… Если уж что-то и делать, то с размахом – чтобы удивить весь мир!
Она состояла в секции горнолыжного спорта несколько лет. После знакомства с Геной, Варвара и его зажгла идеей покорения новых высот:
— Человек – хозяин своей судьбы, понимаешь? Захотел одолеть гору, и никто ему в этом не может помешать! Каждый новый поход не похож на предыдущий. Преодолевая новые рубежи, ощущаешь себя хозяином земных красот…
Девушка вообще умела говорить так убедительно, что ребята, вдохновленные ее словами, были готовы совершать все новые и новые подвиги. Так было и в тот злополучный день. Варвара с замиранием сердца ждала того прекрасного момента, когда их группа окажется на вершине Казбека. Вот они, самые смелые и отважные члены спортивного клуба, готовятся к поездке, обещающей стать самой запоминающейся в их жизни. Казбек… В одном лишь этом слове столько чарующего и завораживающего! У всех ребят было по несколько восхождений за плечами, но в этот раз витало в воздухе предчувствие чего-то особенного.
Матушка Илария поежилась, словно в ознобе. Безжалостная память заставляла ее вспоминать ужасную трагедию…
Ночью ее разбудил оглушительный гром. Она сразу поняла – это конец. Рядом шла лавина. Шансов не было никаких. Дальше все происходило словно в тумане: вот она мечется возле палатки и никак не может сообразить куда бежать. Потом кто-то резко дергает ее за руку и тащит вниз, к скале… Это был Гена. Она стояла как вкопанная и не могла вымолвить ни слова, а он все шептал: «Господи, помоги. Господи, помилуй».
Они выжили. Уже потом Варвара узнала, что ее жених был верующим.
— Как ты мог скрывать от меня такое?! – возмущалась девушка.
Гена только пожимал плечами и ничего не отвечал. Но факт оставался фактом: Бог их спас. С этим Варвара спорить не смела. В минуты опасности она настолько явственно ощущала чье-то всесильное и всемогущее присутствие, что все логические аргументы разбивались в дребезги о личный духовный опыт. Девушка с изумлением признала: Он существует!
Она с головой ушла в изучение Православия. Теперь монашество, которое до этого ею высмеивалось, стало казаться пределом совершенства христианской жизни. И, спустя какое-то время, Варвара заявила:
— Гена, Бог спас нам жизнь тогда, в горах, и мы должны Его отблагодарить. Давай уйдем в монастырь и целиком посвятим себя служению Христу!
Однако Геннадий неожиданно проявил твердость, и с невестой соглашаться не спешил:
— Варя, вступить на путь монашества – это не на гору подняться. Пойми ты, такой серьезный и ответственный шаг нужно принимать обдуманно.
— А я все обдумала! – кипятилась Варвара, — нечего воздух сотрясать умными словами. Пора брать свой крест и следовать за Христом!
Жених пытался ей объяснить, что отблагодарить Бога за подаренное спасение следует чистой и праведной жизнью. А, в монастыре, или вмиру – это не так уж принципиально.
— Можно спастись, созидая в семье малую церковь. А, можно и в кельи погибать, если душа будет оставаться надменной и горделивой.
Спорили они долго. И все-таки Варваре удалось уговорить Геннадия. Для девушки же главным было то, что она сумеет отдать Богу самое лучшее, что у нее есть – молодость и силы. Да, она готова была положить на алтарь даже будущую семью! Потому что там, где нет подвига и самоотречения, там не может быть и настоящей веры.
Вместе с Геной они стояли на вокзале. У обоих – небольшие спортивные сумки. Они разъезжались в разные стороны, чтобы никогда уже не встретиться вновь. Варвара ни на секунду не сомневалась, что их обоих ожидает постриг.
В обители ее встретили радушно, но пыл охладили. Матушка-игуменья и духовник очень много разговаривали с молодой девушкой и старались объяснить ей суть монашеского делания. Варвара со всем соглашалась, обещала не торопиться с выводами, но внутренне уже приняла решение: стать монахиней – единственный для нее возможный вариант.
В послушницах она пробыла долго. Наверное, Бог умягчил сердца ее родителей, и для них выбор дочери, хоть и был неожиданным, но приняли они его спокойно. Мама даже заметила:
— Возможно, так тебе, действительно, будет лучше… Все-таки наша прабабушка была монахиней. Видимо, по ее молитвам Господь не дал угаснуть огоньку веры в нашей семье. Ты нас прости, дочка. Мы в Бога верим, но никогда открыто этого не исповедали. Да и тебя жить по христиански не научили.
Варвара еще долго вспоминала мамины слезы, и не могла понять: как же она не видела, что вокруг столько верующих людей?! Неужели она всю свою жизнь интересовалась только собой?! Чуть позже к ней приезжали знакомые и друзья. Кто-то пытался ее вразумить, кто-то просто хотел посмотреть на настоящую «монашку». И только несколько человек поддержали ее и пожелали твердости и сил на этом тернистом пути. Девчата рассказали, что и Геннадий выполнил уговор и теперь он трудник в мужском монастыре.
Потом уже был ее постриг, на который приехали родители и выглядели такими трогательно-восторженными, что у нее радостно ликовало сердце. Вот он – ее настоящий путь! Ее дорожка, ведущая к истинной высоте!
Матушка Илария открыла глаза и с горечью посмотрела на свое черное облачение. Кто же она теперь? Монахиня? Разве можно ее так назвать после мыслей, пронесшихся в голове? Да, она злилась. И еще ревновала. Получается, Бог любит одинаково и Геннадия, не дерзнувшего дать обеты, и ее – человека, пожертвовавшего всем. Только теперь она поняла ту простую истину, которую ей пытались объяснить много лет тому назад: быть христианином можно на любом месте и в любых обстоятельствах…
А, она не сумела этого сделать даже в монастыре! Каким же отвратительно завистливым, самонадеянным и горделивым оказалось ее сердце! Если бы только можно было все изменить… Она бы начала с чистого листа. Но, можно ли стать монахиней, если ты уже тридцать лет, как считаешься таковой? Страхи и сомнения разрывали ее душу на части, и наконец, матушка Илария упала на колени и взмолилась:
— Господи, переплавь мое сердце! Нет во мне ни капли любви к Тебе и к своим ближним. Отец, но я так сильно хочу стать человеком!
Время остановилось, и она снова ощутила, как и тридцать лет тому назад, что рядом с ней Бог. Четки потихоньку заскользили в ее руке. Сегодня она увидела, как отвратительна ее душа. Она почувствовала, что самостоятельно не может абсолютно ничего… И, вместе с этим пришла надежда. Ведь, если человек понимает, что болен, значит, Врачу будет легче его лечить.
— Господи, делай со мной что хочешь, только спаси душу мою грешную, — прошептала матушка и поднялась с колен.
На скамейке возле монашеского корпуса вот уже несколько часов ее ждала взволнованная Ксения. Молодая женщина очень сильно переживала за здоровье самого дорогого на свете человека. А еще ей почему-то захотелось рассказать, что детская мечта сбылась. Засыпая прошлой ночью, Ксения представила, что именно сейчас ее дорогая Илария читает в храме неусыпаему Псалтирь. От этого стало так тепло и радостно, что женщина погрузилась в глубокий сон с улыбкой на устах.
Наталия Климова
elefteria.ru/category-dosug-rasskazy-zasnut-ulyibayas/2/
© Алексей Вячеславович Морозов, 2017
ISBN 978-5-4485-5545-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Член Союза Писателей России, Член Союза Журналистов России
Светлой памяти монахини ИЛАРIИ,
Ее внучатый племянник Алексей
Посвящает этот роман.
Хотя роман основан на реальной истории, все персонажи и события — вымышлены, совпадения с жившими и живущими людьми, их именами, фамилиями и поступками — случайны, вся книга представляет собой художественное творчество. Тем не менее, автор пользовался воспоминаниями нескольких известных участников событий, в частности, офицеров Дикой Дивизии, другими архивными материалами и т.п., перерабатывая их в удобном для романа русле.
«Не Предведение есть причина будущих событий, а будущие события — причина Предведения. Не из Предведения вытекает будущее, а из будущего — Предведение».
Святой Иустин, христианский философ и мученик.
«История народа есть молчаливый глагол его духа, таинственная запись его судеб, пророческое знамение грядущего».
И.А.Ильин, русский православный философ, писатель и публицист.
«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам настоящее и намекнуло о нашем будущем».
В.Г.Белинский, русский литературный критик.
«Ничто не ново под луною. Что есть, то было, будет ввек. И прежде кровь лилась рекою. И прежде плакал человек…»
Н.М.Карамзин, русский литератор, историк.
Глава I
Санитарный поезд, пыхтя, подошел к перрону Александровского (ныне Белорусского) вокзала в Москве. Поручик Баранов очнулся от резкого торможения. Рана на ноге болела нестерпимо. Осколком снаряда ему срезало почти все мясо на бедре. Вместо трех суток, поезд до Москвы шел десять. В ране начали копошиться белые, жирные черви. Несло смрадом. И хотя сестра милосердия в поезде промыла его увечье сильным раствором сулемы, черви появились снова. Повязка шевелилась от них. Баранов застонал. Шел 1916 год. Военные успехи России на фронте сменились рядом поражений. Была потеряна Польша, Восточная Галиция, начались отступления и на других фронтах. Железные дороги, эти артерии войны, были забиты поездами. Царил хаос. Доставка боеприпасов, продовольствия и медикаментов была сорвана. То же самое происходило и с санитарными поездами. Они двигались с «черепашьей» скоростью, что сказывалось на раненых бойцах. Не успев доехать до места назначения, многие из них умирали. Еще больше людей умирали непосредственно в госпиталях из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. Москва была забита ранеными. Госпитали размещались даже в правительственных и учебных заведениях. Естественно, что эти помещения были не приспособлены для медицинских целей. Пришли на помощь московские монастыри. Так, Московский женский монастырь отдал два крыла своего здания под госпиталь, а монахини работали сестрами милосердия. И все же обстановка была близка к катастрофичной. К тому же материальное положение в Москве продолжало ухудшаться. В 1915 году индекс цен превысил рост заработной платы в 3 раза, а в 1916 году — в 5 раз. Начинался продовольственный кризис — основной показатель разваливающегося государственного управления и хозяйства. Он спровоцировал негативные процессы во всех отраслях российской экономики, в том числе, и на транспорте, в медицине и в финансовой сфере. Тяжелое положение страны использовалось банкам и оптовыми торговцами для наживы и спекуляции, а власти, вместо того, чтобы пресечь безобразия, сами набивали карманы деньгами вместе и через банки и торговцев. Ползли вверх цены на продукты, а правительство, искавшее средства для ведения войны, резко увеличило налоги. И это вместо того, чтобы прекратить спекуляцию и воровство из казны и реквизировать огромные состояния, нажитые на взятках и обмане людей.
2 мая 1915 года началось Горлицкое сражение (или Горлицкий прорыв немцев), которое предопределило поражение России в I Мировой войне. В этой битве немецко-австрийские войска, под командованием одного из самых талантливых немецких генералов Макензена, применили метод скрытого сосредоточения и внезапного удара. Хотя общее соотношение сил на фронте было в пользу русских (1 млн. 300 тыс. штыков и сабель у немцев и австрияков против 1 млн. 700 тыс. штыков и сабель у нас), но на месте прорыва все было с точностью до наоборот. Макензен создал ударную группу немецко-австрийских войск и, за счет военной дисциплины на железных дорогах в Польше (начальники станций, машинисты, смазчики и даже кондукторы расстреливались немцами за саботаж военных перевозок), быстро и скрытно перебросил ее под городок Горлице, где стояла только одна 3-я русская армия. В результате такого лихого маневра, совершенно неожиданного для русского командования, группа Макензена получила превосходство на узком участке фронта в живой силе — в 2 раза, в легкой артиллерии — в 3 раза, в тяжелой артиллерии — в 10 раз, в пулеметах — в 2,5 раза. Но не это предопределило поражение Русской армии. С началом I Мировой войны Россию захлестнул «дикий» капитализм. При оборонзаказе в 60 тысяч винтовок в месяц военные завода изготавливали только 10 тысяч. Были сорваны поставки орудий, снарядов и патронов. Что же произошло? Договорившись между собой, промышленники-хапуги увеличили цены на боеприпасы в 2 раза, а подкупленные ими чиновники срывали поставки оружия в Русскую армию, пока не будут выполнены ценовые условия их хозяев-банкиров. Все это дорого обошлось России. Фронт был прорван. Немцы молотили 3-ю Русскую армию почти беспрепятственно. Обнаглев от безнаказанности они выкатывали свои пушки на прямую наводку и расстреливали русские окопы с дистанции 2-х тысяч метров, то есть из — за пределов дальности винтовочного огня. У немцев было выделено по 1200 снарядов на ствол, а в артиллерии 3-й Русской армии было по 30 снарядов на орудие (это 3 минуты стрельбы трехдюймовой пушки). Для гаубиц, разрешенный расход составлял по 2 снаряда в день на ствол (!). Было мобилизовано 5 млн. резервистов из глубины Российской Империи. Вооружать их было нечем. Стали закупать в Японии трофейные, захваченные японцами еще в войне 1905 года, старые винтовки Мосина. Закупили в Швейцарии винтовки 1864 года выпуска. Государственный Совет Обороны рассматривал вопрос о вооружении пехоты алебардами (!). Все чего смогли добиться — это одна винтовка на троих и пять патронов на винтовку. И вот эти, плохо обученные и еще хуже вооруженные резервисты, бросались в бой для затыкания прорыва по частям и, несмотря на свое мужество, почти все мгновенно уничтожались немецким орудийным и пулеметным огнем. Австрийские пулеметчики сходили с ума от той стены трупов, которая вырастала от их пулеметного огня за пару часов боя. Вскоре произошло апокалиптическое Красницкое сражение (вы нигде не прочтете об этом, уважаемые читатели), где не только молчала русская артиллерия (стрелять было абсолютно нечем), но молчали и винтовки русских солдат (патронов не было). Пехота пошла в штыки, рвали немцев зубами, подбирали немецкие карабины и вели огонь, но почти все погибли смертью героев. Потери Русских войск в результате Горлицкого прорыва были колоссальны. Только убитыми мы потеряли более 3-х миллионов солдат и офицеров (!). войска были деморализованы, вера в победу упала, вера в Царя упала еще ниже. Предательство стало частым явлением. Так, из-за предательства коменданта крепости Ковно, крепость была сдана немцам без единого выстрела. Была сдана крепость Новогеоргиевск с 80-ти тысячным гарнизоном, тысячей орудий и запасами продовольствия. Немцы ее даже не штурмовали. И только тогда правительство и Царь Николай II опомнились. Была проведена национализация промышленности, и в 1915—1916 годах все промышленные предприятия стали государственными. Дебатировался даже вопрос о том, чтобы реквизировать огромные состояния банкиров, наживающихся на войне и на продовольственном голоде. Однако этот вопрос, как тогда говорили, «повис в воздухе». Видимо, много дали кому надо. Если бы национализировали то, возможно, не было бы революций 1917-го года. Тем не менее, оборонный заказ стал выполняться. Пушки, винтовки, снаряды и патроны бесперебойно стали поступать в армию. Положение улучшилось, что и подтвердил Брусиловский прорыв (по имени генерала Брусилова), который полностью уничтожил 4-ю австрийскую армию. Однако это был всего лишь эпизод. Горлицкий прорыв положил начало Великому отступлению русской армии, когда за полгода она оставила Галицию, Литву и Польшу. Только мужество и героизм русских солдат и офицеров не позволили в 1915 году разгромить вооруженные силы России. Мужество и проведенная национализация спасли Империю, но ненадолго. Уже появились большевистские агитаторы, которые вскоре окончательно разложили армию.
Может ли в войне победить страна, когда ее экономикой управляют промышленники-хапуги и чиновники-взяточники? Вопрос риторический, так как и взятки, увеличивающие стоимость товаров, и сверхприбыли, наживаемые на человеческом горе, — все это называется предательством национальных интересов.
Народ стремительно нищал, жизненный уровень катастрофически снижался. Рынки и базары стали пустеть, а очереди в продуктовые магазины и хлебные лавки — увеличиваться. Было решено снимать с санитарных поездов только тяжелораненых, а остальных перевязывать и эвакуировать дальше. Перевозка бойцов, из-за отсутствия транспортных средств, в Москве осуществлялась, в основном, на трамваях. Так Баранов, в бессознательном состоянии, был доставлен на трамвае в госпиталь Московского женского монастыря. Следует отметить, что запасы продовольствия обитель пополняла из сел и деревень Московского уезда. Все лучшее из продуктов, что принадлежало монастырю, шло раненым и выздоравливающим. Себя сестры в еде предельно ограничивали. Не хватало медикаментов и бинтов, с огромным трудом доставали даже такие элементарные вещи, как йод, карболку и хинин. Для перевязки больных сестры стали использовать простыни. Настоятельница, игумения Илария, спала на соломе. На десятый день (!) после ранения в госпиталь монастыря привезли поручика Баранова. Он уже был в горячке. Едва взглянув на раненого, Илария сразу узнала его. Она встречалась с Барановым около года назад во время приезда во Львов, на пасху 1915 года. Иларии тогда повезло. Ее пригласила в Императорский поезд, отправлявшийся во Львов, сестра Государя, Великая княгиня Ольга Александровна. Ее госпиталь уже был развернут во Львове. Илария же везла подарки солдатам от Московского женского монастыря. Она была довольна, что ее пригласили в Императорский поезд и рада, что без особых хлопот довезет подарки, которых набралось полвагона. Пасха в 1915 году была ранняя и пришлась на 22-е марта (4 апреля по новому стилю). Православный мир праздновал светлое Христово Воскресение. Николай II решил посетить занятый русскими войсками Львов на пасхальной неделе, а именно,27 марта. Он хотел въехать во Львов на своем поезде, который шел по маршруту Москва-Петроград-Могилев-Львов. Сам Император находился в своей Ставке, в Могилеве. Однако этому решению воспротивился начальник его личной охраны А.И.Спиридович. Александр Иванович, генерал-майор российского корпуса жандармов, был мастером политического сыска и в жизни повидал всякого. Был тяжело ранен социал-демократом Руденко, а после убийства Столыпина в 1911 году попал под следствие по обвинению в непринятии мер охраны премьер-министра (халатность). Ему удалось оправдаться и, что немаловажно, Царь доверял ему. В 1913 году его уголовное дело было закрыто по личному распоряжению Николая II. Во время I Мировой войны Спиридович сопровождал Императора Российского во всех поездках. Александр Иванович по долгу службы подозревал всех, кто приближался к Царю. Особенный зуб он имел на Григория Распутина. Служба начальником охраны императора это не только чутье, профессионализм и храбрость, тут еще надо быть и мастером дворцовой интриги. Распутин не посоветовал, а, правильнее сказать, запретил Николаю II ехать во Львов. Царь был возмущен, но уважая мнение своей жены Александры Федоровны, которая буквально млела от «сибирского мужика», сдержался. Посещение Львова было важно с политической точки зрения — этим визитом только что отвоеванная Галиция (Червонная Русь) как бы закреплялась за Россией. Государь не мог знать, что не будет он хозяином этой земли и что буквально через месяц немецко-австрийские войска, смяв 3-ю армию, прорвутся под Горлице и русским придется оставить и Галицию со Львовом и Польшу и Литву. А вскоре падет и сама монархия. Никому, кроме Бога, это не было известно. Автор, изучавший историю, много раз ловил себя на мысли о тщетности людских усилий и о всемогуществе Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной.
Тем временем, перед Спиридовичем стояли две задачи. Первая заключалась в том, чтобы царь беспрепятственно и спокойно въехал во Львов. Вторая состояла в охране Государя в городе, а также в охране сопровождающих его лиц, в частности, на поезде прибывали Их Императорские Высочества Августейшие Сестры Государя Императора Ольга Александровна и Ксения Александровна.
Для решения первой задачи Александр Иванович уговорил Николая II пойти на хитрость. Он брался распустить слух по Львову, что Русский Царь приезжает в город на своем Императорском поезде. Поезд, украшенный цветами, портретами государя и царскими штандартами, под пение гимна остановится у перрона городского вокзала. А Император должен будет въехать во Львов на автомобиле по Лычаковской дороге и, пока горожане встречают его на вокзале, Николай II тихо проедет по опустевшим улицам к дому генерал-губернатора Галиции графа Бобринского, где и остановится. Спиридович понимал, что для решения второй задачи руководимый им отряд охраны был очень мал. Отдав все необходимые распоряжения, Александр Иванович немедленно выехал во Львов. Граф Бобринский охарактеризовал положение в городе как очень опасное. Не проходило дня, чтобы не было стрельбы на улицах. Большинство населения было враждебно настроено к русским войскам. В ресторанах и кофейнях постоянно вспыхивали конфликты и драки между офицерами и горожанами. Было полно шпионов, оставленных при отступлении австрийцами. Генерал-губернатор посоветовал обратиться за помощью к командиру Кавказской туземной конной дивизии Великому Князю Михаилу Александровичу, брату царя (об этом уникальном воинском соединении автор расскажет несколько ниже). Великий Князь, опасаясь покушения на Николая II, немедленно откомандировал в распоряжение Спиридовича дагестанскую сотню во главе с поручиком Барановым. Все они были Георгиевские кавалеры, а Баранов за храбрость был награжден золотым оружием.
Наступило 27 марта. Вовсю светило солнце, словно приветствуя Русского Императора. По обе стороны железной дороги от границы до Львова на расстоянии прямой видимости стояли солдаты. Толпы горожан устремились к вокзалу, так как прошел слух о прибытии Государя. А в это время царь, одетый, по просьбе Спиридовича, в простую кожаную тужурку, в каких тогда ходили механики, на автомобиле «Делонэ-Бельвиль» со специальным со специальным стальным кузовом, изготовленным Парижской фирмой «Кельнер», ехал во Львов по Лычаковской дороге. Его сопровождали несколько автомобилей, в которых ехали: Главнокомандующий Русской армией Великий князь Николай Николаевич, министры двора и генералы свиты, а также лейб-хирург Федоров (на всякий неожиданный случай). Как писал позже Спиридович, «день был жаркий, и вереница автомобилей катила, окутываемая клубами пыли. По пути два раза останавливались на местах сражений. Государь выслушивал доклады. Несколько раз подходил к белым могильным крестам, которыми был усеян столь победоносно пройденный русской армией путь». Император же записал в своем дневнике: «Чем дальше, тем местность становилась красивее. Вид селений и жителей сильно напоминал Малороссию. Только пыль была несносная. Останавливался несколько раз на месте сражений в августе месяце; видел поблизости дороги братские могилы наших скромных героев. Солнце пекло, как летом». На следующий день газеты сообщили о приезде Императора. Город украсили флагами. Кстати, при помощи дагестанской сотни Баранова и присланного по требованию Спиридовича контрразведчика Русского Генерального штаба капитана Деревянко, все оппозиционно настроенные горожане были временно интернированы и помещены в пустовавшие австрийские казармы. Остальные горожане восторженно встретили царя. Спиридович вполне искренне записал: «Встреча со стороны населения была настолько горяча, а население было не русское, что как-то невольно пропал всякий страх за возможность какого-либо эксцесса с этой стороны. Казалось, что при таком восторге при виде Белого Царя со стороны галицийского населения, какое-либо выступление против государя невозможно психологически. Убранство улиц флагами и гирляндами дополняло праздничное настроение толпы». Приняв рапорт генерал-губернатора Галиции графа Бобринского, Николай II направился на молебен в гарнизонный храм Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали». Быстро выскочив из еще неостановившегося автомобиля, на ходу бросив недокуренную папиросу, поздоровался со своими сестрами Ксении и Ольгой, стоявшими при входе в храм в платьях сестер милосердия, и вошел в него. Вот как описывает Архиепископ Евлогий встречу Императора в храме: «Огромный храм был переполнен до тесноты. Генералы, офицеры, солдаты, русские, служащие в разных ведомствах (среди присутствующих я увидел Председателя Государственной Думы Родзянко), местное галицкое население — все слилось воедино; длинные вереницы священнослужителей в золотистых облачениях с протопресвитером Шавельским впереди — и все это возглавлялось мною. Момент был не только торжественный, но и волнующий, захватывающий душу…» Баранов вместе со Спиридовичем стояли в правом приделе, недалеко от Царя. Непосредственно в церкви «работал» Деревянко со своими агентами, но поручик по привычке внимательно осматривал присутствующих. Внезапно его взгляд уперся в незнакомую монахиню, одухотворенное лицо которой поражало своей отрешенностью. Она стояла с высоко поднятой головой, взгляд светился лучезарным светом и, казалось, трудно было бы отыскать монахиню, так гармонировавшую со своим монашеским одеянием.
— Кто это? — спросил поручик Спиридовича, указывая глазами на необычную монахиню.
— Как, Вы не знаете? — удивился Александр Иванович, — это же известная игумения Илария. Ее исцеляющая сила поражает. Она вхожа к самой Императрице. Вот только Распутин против нее. Московский генерал-губернатор частенько прибегает к ее помощи и прислушивается к ее советам. Тем не менее, Петроград не очень-то жалует московских праведников.
— Представьте меня Иларии, — дрогнувшим голосом попросил Баранов.
— Хорошо, — шепотом ответил Спиридович, — кстати, она привезла полвагона подарков нашим солдатам, вот вы и помогите распределить их.
— Почту за честь.
После молебна архиепископ подарил Николаю II копию Почаевской иконы Божией матери и сказал: «Примите, Ваше Величество, от меня эту святую икону копии Великой святыни русского народа — Почаевского чудотворного образа Богоматери. Эта святыня не раз спасала русскую землю от нашествий вражеских, и в теперешнюю Великую Отечественную войну она не пустила врага в свою обитель, хотя Лавра Почаевская стоит на самой бывшей границе австрийской. Когда блаженной памяти государь Александр III посетил Почаев, то собралось там много галичан, перебежавших границу чтобы посмотреть на Русского Царя. Покойному Государю угодно было обратиться к тем галичанам с такими знаменательными словами: «Я помню вас, я знаю вас, я не забуду вас! По указанию Божиего промысла Вы, Государь, осуществляете теперь эти великие, почти пророческие слова. Да поможет вам в этом святом деле Царица Небесная».
После молебна состоялся парад войск Львовского гарнизона. На правом фланге шли главнокомандующим Великий князь Николай Николаевич, его начальник штаба генерал-губернатор граф Бобринский. Затем Николай II посетил госпиталь имени великой княгини Ольги и наградил отличившихся солдат и офицеров георгиевскими крестами и медалями.
Далее в доме генерал-губернатора графа Бобринского в честь Государя был дан торжественный обед, и Сиридович, представив Баранова Иларии, ухитрился посадить их рядом.
После традиционного приветствия генерал-губернатор граф Бобринский рассказал о том, как уничтожалось православное население Галиции. Австрияки уничтожали сербское население в Боснии и русинское в Галиции. Было построено несколько концентрационных лагерей. самые страшные Талергоф и Терезин. За донос на православного выплачивалась премия в 500 крон. Последовали массовые казни. Обвинения были такие: за симпатии к России, за ожидание прихода русских войск и т. п. Людей вешали, морили голодом, били смертным боем
Около 150 тысяч православных русинов были замучены. Граф Бобринский дал слово представителю интеллигенции Галиции, поэту Василию Ваврику, отсидевшему в самых ужасных концлагерях, и в Терезине и в Галергофе. Он чудом остался жив. Василий сказал о «жажде славянской крови», которая замутила головы австрийских военных, и прочел свое стихотворение «Я Русин»:
Я русин был и русским буду,
Пока живу, пока дышу,
Покамест имя человека
И заповедь отцов ношу.
Когда австрийцы и поляки
Да немцы лютые меня
С правдивого пути не сшибли
И не похитили огня,
То ныне ни крутым запретам,
Ни даже ста пудам оков
Руси в моей груди не выжечь
Во веки вечные веков!
Все зааплодировали. Расчувствовался государь, подошел к Ваврику, подарил ему фарфоровое пасхальное яйцо, украшенное его инициалами, и крепко расцеловал. Есть такой обычай на Руси, после Пасхального богослужения приветствовать близких людей поцелуем. Василий не растерялся, схватил со стола красное пасхальное яичко и, вручив его Царю, расцеловал Николая II со всей страстью своей поэтической натуры. Под крики «Ура!» все встали и запели русский национальный гимн «Боже, Царя храни!» Государь был очень растроган таким приемом. Несколько позже общий разговор разбился на отдельные группки. Обращались только к своим соседям. Все говорили несколько громче обычного, так как были взволнованы происходящим. Стало шумно.
— Как мне сказал Александр Иванович, Вы воюете в дикой Дивизии. Почему такое название? — спросила Илария Баранова.
— Из страха, матушка, из страха. Австрияки так прозвали. Боятся нас. А еще, я думаю, о кавказских народах в Вене говорят как о дикарях. А я уверен, что они сами дикари. Вон сколько уничтожили и замучили русин галицийских. А «Дикие» беспощадны только в бою, а пленных никто и пальцем не тронет. Удивительно, но вчерашние враги России — кавказцы — добровольно пошли защищать ее и дали присягу Белому Царю. Перед каждой атакой мулла читает молитву за Россию, за Государя. Правда, мои всадники утверждают, что род Белого Царя восходит от Чингисхана, и они воюют за него во имя Аллаха и, следовательно, за Аллаха.
— Вот как, — задумчиво сказала Илария, — я хотела бы часть подарков раздать вашим всадникам, не окажете ли мне протекцию в этом деле?
— Считайте, что разрешение уже получено. Когда хотите ехать?
— Чего медлить. Послезавтра утром.
— Как прикажете, матушка. Все время разговора Баранов не мог оторвать взгляд от лучезарного лица Иларии, ее глаза так светились, что казалось, затмевали блеск золотого наперстного креста, висевшего на массивной цепи. Илария заметила его состояние. Она была проницательна и решила успокоить Баранова притчей.
— Шли два монаха и встретили красивую женщину. Она стояла около бурной реки и не могла перейти на другой берег. Один из монахов поднял женщину на руки и перенес ее через реку. Затем он вернулся к своему спутнику, и они продолжили путь.
— Мы приняли обет не касаться женщин. Как ты мог взять ее на руки? — спросил второй монах.
— Я давно уже поставил женщину на берег, а ты, судя по всему, все еще несешь ее с собой, — был ответ.
Вот и Вы, поручик, в жизни «продолжаете нести» груз пустых чувств, и за этой тяжестью не видите, что за человек находится рядом с Вами. Подумайте об этом, — закончила Илария.
Баранов был смущен и извинился.
— Пустое, — вздохнула Илария, — давайте лучше послушаем Государя.
Николай II поднялся со своего места, держа в руках Георгиевскую саблю, и сказал: «Лично посетив освобожденную от австро-германского владычества Галичину и убедившись в блестящим порядке и заботливости, положенных в основание управления завоеванного края, я жалую главнокомандующему Русской армией Великому князю Николаю Николаевичу Георгиевскую саблю, украшенную бриллиантами, с надписью „За освобождение Червонной Руси“. Спасибо за теплый прием. Да будет единая, могучая, нераздельная Русь!»
Собравшиеся от всей души грянули «Ура!» Ночью государь записал в своем дневнике впечатления от города Львова: «Очень красивый город, немножко напоминает Варшаву, пропасть садов и памятников, полный войск и русских людей.» Утром следующего дня Император Российский, уже на поезде, покинул так понравившейся ему Львов. Это была последняя радость царя в этой войне, да и в жизни тоже. Утренние газеты сообщили, что Николай II распорядился передать в пользу бедных 10 тысяч рублей. Императорский поезд уносил Государя во тьму истории, где его ждали неизведанные еще печали и новые хлопоты.
Неизведанное печали и новые хлопоты ждали и наших героев. Начальник штаба дикой Дивизии полковник Юзефович, низенький, похожий на бочку татарин с бритой головой, выделил Баранову санитарный автомобиль. Подарками его набили до отказа. Илария ехала в кабине вместе с водителем, а Баранов трясся в кузове. Дивизия стояла в окрестностях Львова. Ее полки были разбросаны по разным селениям. Дорога вилась среди зеленых лощин, перелесков, холмов, петляла между селений, крестьянских дворов и пышных садов. Лишь изредка проносились разбитые орудийным огнем усадьбы. Видно, что наступление русской армии было стремительным. Илария поразилась зажиточности, которая бросалась в глаза. Чувствовалось, что всего в этих местах было вдоволь: и хлеба, и мяса, и молока, и овощей, и фруктов. Крестьяне в добротных пиджаках выходили на дорогу и, приложив руку козырьком ко лбу, мрачными взглядами провожали автомобиль.
— Не любят нас здесь. Все война проклятая, — вздохнув, подумала игумения.
Вскоре автомобиль въехал на плац, расположенный около штаба дивизии и остановился возле большого стола, предусмотрительно врытого посередине. Стол быстро завалили подарками. Все же их явно не хватало на всю дивизию, поэтому решили презентовать гостинцы только старейшинам, офицерам, георгиевским кавалерам и муллам. Таким образом, на плацу остались всего несколько сотен всадников. Илария подошла к столу. На ней было три креста: наперстный на цепи, орденский знак с крестом (она была награждена за организацию госпиталя для раненых в своем монастыре) на левой стороне груди и символ «Красного Креста» на белой повязке на левой руке. К Иларии первым подошел гибкий, как кошка, с осиной талией, с красной бородой (горские офицеры красили бороду в красный цвет, чтобы они были различимы в бою своими всадниками), с пронзительным взглядом воина, черкес.
— Офицер Мирзоев, — представил подошедшего Баранов, — старейшина дивизии, ему 70 лет. Участвовал еще в турецкой кампании на стороне персов против османов.
Наступило молчание. Что Илария могла подарить этому воину, когда персидский шах дарил ему алмазы за свое спасение от турок? В замешательстве, не зная, как поступить, она решила положиться на интуицию. Вручив офицеру пачку душистого табака, кусок туалетного мыла и плитку шоколада, игумения перекрестила его, встала на цыпочки и поцеловала воина в лоб. Черкес внимательно посмотрел на Иларию и, почтительно поклонившись, поцеловал ее мантию. Многоголосое «Ура!» пронеслось над плацем. Игумения завоевала ожесточившиеся сердца этих всадников одним, таким естественным, материнским поцелуем. Вот как описывал это событие Илья Львович Толстой, сын великого русского писателя, служивший военным корреспондентом при Дикой дивизии: «Под скрипучий напев зурначей, наигрывающих на своих дудочках свои народные воинственные песни, мимо нас проходили нарядные типичные всадники в красивых черкесках, в блестящем золотом и серебром оружии, в ярко-алых башлыках, на нервных, точеных лошадях, гибкие, смуглые, полные гордости и национального достоинства. Что ни лицо, то тип; что ни выражение — выражения свое, личное; что ни взгляд — мощь и отвага…»
— Действительно настоящая религия — это доброе сердце, — сказала Илария подошедшим муллам.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Речь пойдет о светском и духовном лидере Тибета — Далай-ламе. Важное стратегическое положение Тибета — высочайшего в мире плоскогорья, расположенного в самом сердце Азии, а главное, его влияние в качестве мирового центра буддизма, поставили Тибет в центр азиатской политики таких держав, как Англия, Россия и Китай. В частности, в России проживало более 160 тысяч бурят и и около 200 тысяч калмыков, исповедующих ламаизм. Они регулярно совершало паломничество в Тибет. Бурное экономическое развитие России в конце XIX—начале ХХ века требовало новых рынков сбыта и источников сырья, и вскоре Средняя Азия была присоединена к России. Также были установлены русско-тибетские дипломатические отношения. Энергично лоббировал тибетские интересы статс-секретарь Николая II А.М.Безобразов. за его спиной стоял тибетский целитель П.А.Бадмаев, бурят по происхождению, выпускник Восточного факультета Петербургского университета. Он пользовался большим авторитетом в Петербурге и лечил почти что всех министров царского двора, их жен и даже родственников. Врачевал он с помощью дыхательной гимнастики, йоги, иглоукалывания и своих настоек из тибетских трав, которые, по его утверждению, «омолаживали тело и продлевали жизнь». В действительности же, как отмечал В. П. Семенников: «Весь ум Бадмаева, вся его энергия направлены были в сторону различных афер». В связи со строительством Сибирской магистрали, Безобразов стал советовать Николаю II присоединить к России Тибет. По настоянию Бадмаева, он поставил перед правительством вопрос о постройке ветки от Сибирской магистрали к городу Ланьчжоу, который являлся ключом к Тибету. Как позже выяснилось, Бадмаев совместно с Распутиным, который брался «продавить» этот вопрос через правительство, выпустили акции это еще несуществующей железной дороги и существенно обогатились. Однако их далеко идущим планам не суждено было сбыться. Им помешала I Мировая война. Тем не менее, буддизм и ламаизм получили большое распространение при дворе. Не скрывалось и было очень популярно послание Далай-ламы Николаю II, где, в частности, отмечалось, что необходимо «…надлежащим образом установить стезю, по которой русские и тибетцы, соединившись в мире, пришли бы в доброе согласие.» В этом-то письме и была философская фраза Далай-ламы: «Действительно, настоящая религия — это доброе сердце». Двору так понравилась такая философия, что они стали вставлять этот пассаж в каждый разговор.
Илария решила проверить действенность этой фразы и высказала ее муллам. И вновь успех! Муллы согласились с ней!
Раздача подарков закончилась.
— Вы покорили наших союзников, — выразил свое восхищение Иларией полковник Юзефович. Поблагодарив игумению, он откланялся.
В это время как из-под земли вырос Деревянко. Был он в сапогах, брюках-галифе и во френче цвета «хаки» с подполковничьими погонами.
— Благословите, матушка, — обратился новоиспеченный подполковник к Иларии.
Игумения благословила и перекрестила его, тут поцеловал ей руку.
— С какого времени ты — подполковник? — изумился Баранов.
— Со вчерашнего дня, — ухмыльнулся Деревянко, — я теперь начальник районного Особого отдела (контрразведка) Галиции при генерал-губернаторе графе Бобринском. Спиридович меня рекомендовал и протежировал перед Джунковским. Он же сейчас и товарищ (заместитель — А.М.) Министра внутренних дел и, одновременно, командир Особого корпуса жандармов. В это время подошел дежурный и потребовал Баранова к командиру дивизии. Здесь для уважаемых читателей необходимо немного прояснить ситуацию. Германия значительно раньше России поняла, какой большой силой является шпионаж. Она покрыла всю нашу страну сетью агентов. Ими разрушались мосты, поджигались склады, взрывались военные суда, устраивались забастовки и выпускались листовки, разлагающие армию и народ. Финал оказался трагичен. Напомню моим дорогим читателям, что Российская империя погибла, став жертвой революции, созданной немецкими агентами на германо-американские деньги. Несмотря на горький опыт русско-японской войны, наши генералы поручали разведку кавалерийским соединениям, что не давало особо важной информации. Баранов, со своей сотней дагестанцев, сам неоднократно участвовал в разведывательных рейдах в тыл врага, поэтому-то он и был откомандирован из дикой Дивизии в распоряжение Спиридовича на время визита Николая II во Львов, как имеющий навык в подобной работе. Русская контрразведка была создана только в 1911 году и пользовалась услуги услугами жандармских офицеров. Так, до назначения Деревянко, вопросами контрразведки во Львове занимался жандармский капитан Силкин.
— Шпиона по роже видать, — уверял он генерал-губернатора.
А еще кто-то рассказал ему, что германцы татуируют на ягодицах своих агентов букву «К» («Кайзер»), чтобы они после выполнения задания спокойно переходили линию фронта, к своим. Капитан Силкин поверил этому бреду и осматривал не только рожу, но и задницу. Особенно увлеченно он исследовал женщин. Через 2 недели такой напряженной работы он подхватил сифилис, запил и застрелился.
Здесь необходимо добавить, что в русской контрразведке было вначале немало людей, подобных этому капитану Силкину. Сведение личных счетов, выдумывание и раздувание дел, чтобы получить побольше денег, странные «учения» агентов, которые никогда не проводились, или только вредили делу, добывание себе орденов и чинов — вот так действовала царская контрразведка. И только через несколько лет на службу стали приходить честные, дисциплинированные, хорошо подготовленные к этой работе люди, которые окончили появившуюся уже тогда Разведшколу. Такие, как капитан (уже подполковник (!)) Деревянко. И положение постепенно стало меняться в лучшую для России сторону. Прекрасный пример — это организация визита Николая II во Львов. Во многом, благодаря Деревянко, не было ни одного выстрела, ни одного покушения, ни одного негативного выступления против Царя. Поездка прошла «без сучка, без задоринки». Именно этим объясняется то, что Спиридович рекомендовал контрразведчика к повышению.
— Ваше Высокопреподобие, — вдруг официально обратился к Иларии Деревянко, — мне необходимо с Вами переговорить.
— Не хитрите, подполковник, я же не называю Вас начальник Особого отдела. Выкладывайте сразу, что произошло?
— Сегодня утром я разговаривал по прямому проводу со своим начальством в Петербурге, с генералом Джунковским. Он передает Вам свои наилучшие пожелания и просит сообщить, что во Львове находится Ваша родная сестра.
Илария встревожилась.
— Владимир Федорович, в бытность свою московским генерал-губернатором, был добр ко мне и много раз принимал участие в нашем монастыре, — произнесла игумения, — Вы еще, вероятно, не знаете моей истории. Хотите, я кое-что расскажу Вам.
Деревянко вежливо кивнул.
(Здесь необходимо сказать, что Джуниковский Владимир Федорович, сыгравший большую роль в судьбе Иларии, был либералом в политике и придерживался довольно необычных взглядов на развитие России в ХХ веке, что было странно для чиновника высокого уровня, каким он был. Может быть, несколько объясняет его личность то, что он как потомственный дворянин, имел герб с неожиданным фамильным девизом: «Deo et proximo» — «Богу и ближнему». Может быть, именно этому девизу он и следовал. Кто знает?
В России всё — секрет, но ничего — не тайна. В народе давно поговаривали, что Джунковский не равнодушен к революционерам. Это еще мягко сказано. Так, 12 января 1905 года капитан Джунковский назначается адъютантом Великого князя Сергея Александровича, тогдашнего генерал-губернатора Москвы. 4 февраля 1905 года Великий князь Сергей Александрович был разорван на клочки бомбой, брошенной террористом. Поговаривали, что маршрут следования кареты за 15 минут до выезда изменил адъютант Джунковский, но доказать ничего не удалось, так как начальник охраны Великого князя ехал с ним в одной карете и был также убит на месте.
По утверждению В.Н.Воейкова, вскоре после манифеста 17-го октября 1905 года Джунковский в Москве «оказался среди бунтарей, направлявшихся к тюрьме для освобождения политических заключенных, но воздержался от донесения начальству о своей „прогулке“, которая не послужила для него препятствием в дальнейшей успешной карьере».
Нина Берберова утверждала, что Джунковский — масон, однако более или менее точно известно, что он являлся кавалером высшего масонского ордена «Рыцарский военный крест» (последним из россиян, получивших эту награду 5 июля 2010 года был Шойгу С. К., который стал официальным масонским рыцарем Суверенного военного ордена Мальты и был награжден «Рыцарским военным крестом»).
А. П. Мартынов писал о Джунковском: «Связи у него в „сферах“ были громадные, и он легко и бестрепетно всходил все на высшие ступени административной лестницы…»
Будучи командующим Отдельного корпуса жандармов, запретил вербовать агентов среди учащихся школ и средних учебных заведений, а также уволил большое количество запятнавших себя жандармских офицеров, чем нажил себе много врагов.
Непримиримый противник Григория Распутина (на этом он и сошелся с Иларией). 19 августа 1915 года он попытался в присутствии Распутина разоблачить того перед Николаем II, но опоздал. «Сибирский мужик» сыграл на опережение, и Джунковский был уволен и отправлен на фронт командовать Сибирской стрелковой дивизией.
В ноябре 1917 года Джунковский был арестован и посажен в Петропавловскую крепость.
Сотрудничал с ЧК-ГПУ, активный участник различный чекистских операций.
Очень рекомендую посмотреть (если кто не видел) вышедший в 1967 году многосерийный исторический телефильм «Операция «Трест» режиссера Сергея Колосова. Фильм рассказывает об успешной операции, проведенной в 1921—1925 годах ОГПУ Советской России, по выманиванию легендарного английского разведчика, Сиднея Рейли, и революционера-террориста, военного министра Временного правительства, Бориса Савинкова, в Минск для встречи с членами «московской антисоветской организации». Руководителем этой «организации» был некто Якушев, прототип Джунковского. Играли замечательные советские артисты: Игорь Горбачев, Людмила Касаткина, Донатас Банионис, Армен Джигарханян. Фильм заканчивается арестом Рейли. На самом же деле, Рейли был расстрелян, а Савинков выбросился в лестничный пролет здания на Лубянке и погиб. С тех пор пролеты в этом здании затянуты сеткой. Но есть и другая версия. Писатель Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» пишет об убийстве Савинкова сотрудниками ВЧК.
Так или иначе, но Джунковский сыграл решающую роль в этой операции. Советсткое правительство ему, как офицеру, «лояльному к власти», определило пенсию в размере 3270 рублей в месяц. Он еще и подрабатывал учителем французского языка, а также разработал, по приказу НКВД, Положение 1932 года о паспортном режиме. Джунковский — автор советской паспортной системы, фактически восстановившей на деревне крепостное право. Однако ему не суждено было пережить сталинские репрессии. В 1937 году он был вновь арестован и расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой.
Приведу еще несколько интересных фактов из жизни Джунковского. Он не пил, не курил, не увлекался женщинами, был тайным монахом и Председателем Московского попечительства о народной трезвости. Джунковский был крестным отцом будущего известного советсткого писателя С.В.Михалкова, отца Никиты Михалкова и Андрея (Андрона) Кончаловского. В некоторых кругах Джунковского сейчас называют одним из «разрушителей Родины». Думаю, что это должны решать мои уважаемые читатели, однако без такого «предисловия» им было бы трудно понять дальнейшие события.
— Я родилась в 1874 году в деревне Строгино Московского уезда. Третьим ребенком в семье, и получила имя Прасковья, — начала Илария свой рассказ. — Тятенька содержал станцию почтовых лошадей, последнюю перед въездом в Москву. При станции были постоялый двор и трактир. Все мы, моя старшая сестра и брат, работали с детских лет. Я иногда прислуживала в трактире, однако тятенька заметил, что при мне выручка возрастала в несколько раз, и поставил меня там на постоянную работу. А я полюбила нашу Всехсвятскую церковь и постоянно сбегала туда, наверное, лет с шести. Отец Гавриил, приходский священник, улыбался при виде меня и говорил: «Вот и пришла наша маленькая монахиня». Я стала петь на клиросе. Однажды я увидела волшебное сияние, распространявшееся от певчих и восходящее к куполу церкви. Отец Гавриил, которому я рассказала об этом, ничего не заметил, однако запретил мне болтать об этом. С этого дня я всякий раз видела свечение вокруг певчих в храме, а в других местах — нет. Опущу некоторые личные подробности, скажу только, что с этого времени я мечтала стать монахиней. Суровый родитель мой и слышать не хотел об этом. Он бил меня вожжами, таскал за волосы, ставил на колени на горох и запирал на ночь в хлеву. Меня поддерживали и жалели мой старший брат и сестра, а маменька только плакала, не решаясь прекословить мужу. Он хотел одного — удачно выдать меня замуж и увеличить, таким образом, свое состояние. В деревне был еще человек, который понимал меня и у которого я находилв отдохновение. Это была помещица Корзинкина. Ее барский дом стоял в окружении огромного яблоневого сада. Она дала имя каждому дереву, и мы часто с ней ходили под яблонями и разговаривали с ними. Она-то и заставила тятеньку смириться с моим выбором и даже внесла вклад за меня в Московский женский монастырь1.
Так, в 14 лет я поступила послушницей в этот монастырь, который вскоре стал для меня родным домом на этой земле. Сестра и брат оказали мне большую помощь в моем решении. Как я теперь понимаю, мы все трое хотели помочь русскому народу, но разными путями. Брат, купив камнедробилку, стал продавать гальку и щебень московским строителям. Предприятие было успешным. Полдеревни мужиков перестали пить водку и пошли работать к нему. Получая хорошую копейку, их семьи вздохнули свободно. Брат стал известным промышленником. Я приняла постриг в монахини, и наш монастырь стал невиданным доселе центром обучения и благотворительности. Мы содержим две воскресные и одну церковно-приходскую школы, помогаем бедным, открыли первый в России военный госпиталь в монастыре. Да всего и не перечесть. А старшая сестра стала революционеркой.
Это моя боль, моя трагедия, я каждый день молюсь за нее. Теперь Вы понимаете, почему я встревожилась, когда передали, что сестра во Львове. Она очень опасная террористка-революционерка.
— Извините, матушка, — спросил Деревянко, — Вы похожи?
— Да, сходство есть, но мы не близнецы.
— Если еще одна такая красавица появится в городе, то это не ускользнет от моего внимания, тем не менее, я попрошу оповестить меня, если сестра обратится к Вам.
Илария отрицательно покачала головой.
— Не старайтесь показаться хуже, чем Вы есть на самом деле, — неожиданно резко проговорила игумения, — выполняйте свою работу, а я буду делать свою. Сестры должны помогать друг другу.
— Если поможете сестре, тогда Вы станете соучастницей.
— Какой Вы еще максималист, — невольно улыбнулась монахиня, — запомните, Господь управит так, как это нужно Ему, в этом и будет заключена высшая справедливость.
Вздохнув, подполковник кивнул. Он предпочел не ссориться с влиятельной игуменией.
У подошедшего Баранова вдруг перехватило дыхание, когда он увидел улыбку Иларии, адресованную Деревянко. Тот показался ему вором, крадущим чужое счастье.
Но Баранов не имел не только никаких прав на эту женщину, он не имел даже намека на них, более того, он понимал, что ни он, никто другой, никогда не смогут ни обнять ее, ни хоть как-то приблизиться к ней. Баранов страдал, еще не понимая, что его посетило чувство, которое включает и огромное счастье, и страшную пытку, и сокровенную мистерию, и непостижимую загадку. Это чувство полностью меняет судьбу человека, бросая его в темноту ревности или поднимая на вершины духа. Называется оно Любовь.
— Матушка, — глухо проговорил Баранов, — меня опять откомандировали в контрразведку, а ведь я обещал Спиридовичу помочь Вам с подарками.
— Послушайте, подполковник, отпустите поручика на один день. Он поможет раздать подарки и проводит меня. А то, боюсь, не справлюсь. К тому же, обещания надо выполнять, особенно данные генералу, — с искоркой смеха в глазах попросила Илария.
— Как прикажете, — Ваше Высокопреподобие, — мрачно согласился Деревянко.
У Баранова в голове неожиданно зазвенели колокольчики, и он подумал: «Завтра я ее увижу, а там… что будет, то будет».
Через день, на коспиративной квартире, Деревянко втолковывал поручику оперативную ситуацию в городе и на фронте.
— Львов разложен контрабандой и немецкими деньгами. Проведенные обыски, временное интернирование недовольных и даже показательные порки людей, расклеивавших антирусские листовки, проведенные комендатурой, никаких особых результатов не дали. Что-то мы делаем не так и, пока не можем добраться до резидента германской разведки. Пришел приказ — готовиться к наступлению. Прорвемся на Венгерскую равнину, а оттуда откроется дорога на Вену.
— Давно пора, — обрадовался Баранов, — это же конец войне!
— Согласен, — продолжил Деревянко, — однако наши коммуникации чрезмерно растянуты. Если немцы с австрияками узнают об этом, соберут в кулак свои мобильные войска и опередят нас с прорывом, тогда, учитывая российскую расхлябанность, возможна катастрофа. Конечно, есть вероятность утечки данных с «самого верха», но генерал Джунковский обещал сделать все возможное, чтобы отсечь Распутина от информации и принятия решения. Впрочем, там хватает своих заморочек. Мы же должны делать нашу работу. По сообщению из контрразведки фронта, возможный немецкий резидент — это певичка кафешантана Эдем. Зовут ее Роза. К ней сходятся все нити. Приказано сблизиться с ней, спровоцировать ее на откровенность и арестовать. Нужен боевой офицер, способный войти к ней в доверие и проявить ее как шпионку. Лучше Вас, поручик, на эту роль никто не подходит.
— Какая гадость! — ответил Баранов, — увлечь женщину и предать ее! Ухаживать, целовать даму и в то же время опутать ее сетью лжи и коварства! Нет, я на это не способен.
— Да, паскудная работенка. Однако эта женщина — немецкий шпион. Из-за нее на фронте гибнут, попав в засады, тысячи русских солдат. Она пользуется своей красотой, чтобы губить наших офицеров, которые доверчиво сближаются с ней и находят измену там, где надеялись найти сочувствие, привязанность и отдохновение. Она продает Россию оптом и в розницу! А Вы боитесь запачкаться! Ханжа! — возмутился Деревянко.
— Почему бы сразу не арестовать эту Розу, раз ты столько знаешь о ней?
— Да потому, что сбегут все ее сообщники, агенты — исполнители, мы потеряем всю шпионскую сеть, которая вскоре снова заработает против нас. Подготовить хорошего агента — трудное и долгое дело, а арестовав всю агентуру, мы не только сорвем их планы, но и обескровим германскую разведку!
— Все-таки я вынужден отказаться. Есть еще одно обстоятельство, которое я не намерен обсуждать с тобой.
Они долго препирались между собой, переходя с «Вы» на «ты» и обратно, пока Деревянко не выпалил:
— Как сообщил генерал Джунковский, в город приехала опасная революционерка, возможно, для установления связи с резидентом германской разведки во Львове, а также для получения инструкций, денег и для координации действий с подпольем внутри России. И эта революционерка — родная сестра игумении Иларии.
— Как сестра Ил… Иларии? И причем здесь Ил..Илария? Не может быть! — проговорил смущенный Баранов.
— А ты, брат, попал! — внимательно глядя на поручика, нахмурился Деревянко, — но это и к лучшему, ведь ты спасешь игумению, если мы арестуем еще и революционерку.
Баранов протестующее поднял руки:
— Она не нуждается ни в чьем спасении, она — праведник, она чиста и светла, она неповинна.
— Как знать, как знать. Мне она заявила, что сестры должны помогать друг другу. Ты понимаешь, что это значит? Это соучастие.
Помолчав, Баранов дал согласие на участие в операции.
— Это очень опасное дело, поручик. Хотя к тебе и будут приставлены три моих агента, я не гарантирую жизнь. Ты должен пойти на это сознательно, понимая, что война идет не только на фронте.
Обговорив все тонкости этой необычной операции, собеседники разошлись. Деревянко, едва добравшись до постели, мгновенно заснул. Баранов же бродил по ночному Львову, вспугивая влюбленные парочки и размышлял, поможет ли он Иларии, если арестует ее сестру, или сделает только хуже. В результате, он пришел к мысли, которую высказал римский император и философ Марк Аврелий: «Делай, что должен, случится, что суждено». Этой мыслью всегда руководствовались все честные русские люди при затруднительных обстоятельствах. А звезды, словно согласившись с ним, медленно исчезали с ночного неба. Начинался рассвет.
Красавица Роза появилась во Львове перед самой войной и поразила горожан своим богемным образом жизни. Она выступала в кафешантане «Эдем» три вечера в неделю, имела свой салон, где собиралась золотая молодежь, открыто заводила богатых любовников, предпочитая старшее поколение, частенько кутила в ресторанах, после чего мчалась в своем ландо по улицам Львова, разбрасывая мелочь под ноги случайным прохожим. Когда русские войска заняли город, она переключила свое внимание с аристократов на штабных офицеров и быстро завоевала большую популярность. Ее выступления в Эдеме сопровождал оглушительный успех. Полный зал всегда стоя рукоплескал ей. Иногда Роза ездила в католический костел за отпущением грехов и плача исповедовалась. Потом весь день ходила мрачная и подавленная, но наступал вечер, и все повторялось сначала.
Во Львове в то время можно было легко познакомиться с одинокой женщиной. Писалось письмо, куда вкладывалась солидная купюра, посыльный относил его по адресу и, если дама отвечала, Вас ждала бурная ночь и спокойное утро с легким завтраком, поданным в постель. Русские офицеры полюбили этот очаровательный, почти европейский, город. У одних были эстетические, у других душевные, у третьих плотские привязанности. Одни любили его архитектуру, другие любили его веселые рестораны, третьи любили его женщин. Частенько, получив отпуск, офицеры не выезжали навестить свои семьи, а оставались во Львове, прокучивая все свои «боевые» деньги, и возвращались в часть без сапог и часов, заложенных, чтобы расплатиться в кафешантане.
Деревянко посоветовал Баранову сначала посетить выступление Розы в Эдеме, а потом, якобы под впечатлением от увиденного, написать ей письмо и просить о встрече. Утром поручик получил от подполковника пригласительный билет в Эдем, а вечером в парадной форме с аксельбантами, наградами и золотым оружием появился в кафешантане. Он был очень хорош в парадном мундире. Выше среднего роста, плечистый, с тонкой талией и острыми чертами лица, поручик обращал на себя внимание. Несколько артисток кордебалета постоянно сновали вокруг него, как бы невзначай показывая свои стройные ножки. Но Баранов не обратил на них внимания, он едва успел занять свой столик и заказать коньяк, как выступление началось. В зале погас свет, а сцена, где стояли кровать, трюмо и маленький пуфик, озарилась мягкой подсветкой. Раздался звон колокольчика, и с кровати вскочила совершенно обнаженная Роза. Многие офицеры, очевидно, бывшие здесь не в первый раз, мгновенно достали артиллерийские бинокли и навели их на сцену. Женщина чуть потянулась. Она была чувственна и олицетворяла в себе желание всех этих офицеров забыть ужасы войны в ее объятьях. И она четко играла на этом. По залу пронесся стон, когда она начала медленно одеваться.
— Как хороша, чертовка! — раздался бас за соседним столиком.
Чуть скосив глаза, Баранов узнал громадного усаа, у которого слюна уже закапала на стол. Это был начальник гарнизона города Львова генерал Веселаго.
В зале стояла тишина, прерываемая хриплым дыханием сотни мужчин, которые совершенно потеряли голову и готовы были за одно прикосновение к этой вакханке не только выболтать все военные тайны, но и убить кого угодно. В заключение Роза взяла с трюмо флакон духов и нанесла семь капель на интимные места своего тела. Затем, накинув прозрачный пеньюар и высоко вскидывая ножки, она запела фривольную песенку:
Мой папаша пил, как бочка,
И погиб он от вина.
Я одна осталась дочка
И зовут меня Нана.
Зал заревел, и Эдем превратился в Содом. Раздался гром аплодисментов, и все рванули к сцене, забрасывая ее цветами.
Баранов протиснулся за кулисы как раз в тот момент, когда Роза спустилась со сцены. Он почти в упор посмотрел на нее. Увидев красавца-офицера, она остановилась, и их глаза встретились. В это время, чуть не сбив его с ног, промчался адъютант начальника гарнизона с огромным букетом цветов и вручил их артистке.
Неожиданно Баранов увидел Деревянко, стоящего чуть поодаль, одетого в штатский костюм, в котелке, с тросточкой и с небольшим букетиком.
— Как вы смеете проявлять грубость по отношению к фронтовому офицеру? — закричал контрразведчик. Баранов мгновенно пришел в себя, развернул адъютанта к себе лицом, дал пощечину и бросил ему в лицо перчатку.
— Вы — тыловая крыса. Я вызываю вас на дуэль. Выбор оружия за вами, — прохрипел поручик.
— Господа, господа, успокойтесь, — певичка встала между ними, — вам что, мало смертей на фронте?
— Отставить! — вдруг раздался знакомый бас. Это кричал подоспевший Веселаго.
— Десять суток ареста каждому!
— Генерал, будьте снисходительны, они еще так молоды, — сказала Роза, вплотную подойдя к коменданту.
— Мадмуазель, но воинская дисциплина. Дуэли запрещены.
Увидев, что Роза отошла от него с недовольным гримасой, Веселаго сменил гнев на милость.
— Ну хорошо, хорошо, только ради Вас. Марш спать, а утром оба ко мне в комендатуру, там разберемся.
Инцидент был исчерпан.
Оркестр принялся наяривать канкан, кордебалет танцевал, визжа исполняя озорные частушки:
Была я белошвейкой
И шила гладью.
Теперь я балерина
И стала б…
Причем последнее скабрезное слово заглушала барабанная дробь. Посетители опять заполнили зал. Красавица Роза умчалась на автомобиле в обнимку с генералом.
— Наконец-то удача улыбнулась нам, — говорил Деревянко на конспиративной квартире, — теперь надобность в письме отпала. Для нас ситуация упростилась. Она тебя запомнила, более того, ты ей понравился, это было видно. Этим необходимо воспользоваться. Вот тебе адрес, завтра утром, не теряя времени, отправляйся к ней домой и начинай действовать. Куй железо, пока горячо. А я-то боялся, что с тюфяком имею дело, а ты ничего, сообразительный, не только шашкой махать умеешь.
— Спасибо, — мрачно ответил Баранов, — хуже всего, что она мне отвратительна. Престарелая кокетка. Я не смогу изобразить «чувства», как ты настаивал.
— Ну не такая уж и престарелая, какие ножки! — мечтательно закатил глаза вверх Деревянко, — хотел бы я оказаться на твоем месте.
— Вот и иди к ней вместо меня.
— С моей нищенской зарплатой, кривыми ногами и выдающейся трудовой мозолью, — хлопнул себя по пузу подполковник, — да она на меня даже не взглянет. Другое дело ты: Георгиевский кавалер, золотое оружие, молод, красив, в перспективе светят генеральские погоны. Она сделает все, чтобы обольстить тебя и, кроме получения нужной информации, получить еще и личное удовольствие. Так сладко совместить приятное с полезным. А насчет того, что не справишься, ты мне это брось. На работе находишься, вот и начинай работать. Как в народе говорят: «Начинай, начинай, да смотри же, кончай».
И они оба засмеялись от получившейся двусмысленности. Не суди их строго, уважаемый читатель.
Интерес, который возбуждала Роза своим выступлением, был плотским интересом. Если же вы следовали в этот омут страстей, то сильно увлекались ей. А насколько она была «плохой», не имело значения. Любовные удовольствия — это утомительная борьба, требующая большой выносливости. Не существует ни прошлого ни будущего, есть только борьба и, как награда или наказание, триумф или провал. Это борьба за первенство. После первой близости становится ясно, кто стал рабом, мужчина или женщина. Отыграть обратно уже невозможно. Можно только убежать, как заяц. И только взаимная любовь преодолевает борьбу и несет счастье, но она возникает очень редко. Слишком часто в нее вмешиваются деньги, расчет и власть, чтобы поверить в такое чудо.
Роза проиграла в этой борьбе один раз жизни, своему мужу, но убив его, сумела удрать. И от участи рабыни от полиции. Однако не от немецкой разведки, которая без труда завербовала красивую преступницу. Пройдя обучение в германской разведшколе, она быстро освоила премудрости плотской любви в элитном бордели Мюнхена и была направлена в Берлин соблазнять дипломатов и офицеров военных атташеатов, работавших в столице Германии.
Перед войной через австрийскую контрразведку, с которой в Германии установились партнерские отношения, она прибыла во Львов во главе группы агентов-диверсантов. Как мы увидели, она легко внедрилась в аристократические круги города, что очень помогло ей после взятия Львова русскими войсками. Ее связи среди русского генералитета и штабных офицеров были обширны. Именно она сообщила германскому командованию сведения, что стоящая в 60 верстах от Львова, у городка Голице, русская армия недоукомплектована, плохо вооружена, артиллерия ощущает «снарядный голод» и имеет жиденькую оборону, всего из трех рядов траншей, далеко отстоящих друг от друга. Этим немедленно воспользовался немецкий генерал Макензен, организовав Горлицкий прорыв.
Вот что представляла из себя эта коварная женщина, которую весь Львов знал как красавицу — артистку.
На следующий день, поздним утром (с комендантом Деревянко уладил все проблемы), поручик постучался в дверь дома, где жила Роза. На пороге двухэтажного уютного особнячка с зеркальными окнами Баранова встретила злющая старуха, очевидно, родственница Бабы-Яги, которая охраняла покой своей хозяйки, и заставила его прождать до часу дня. От нечнго делать поручик несколько раз обошел маленький домик, расположенный на окраине Львова, задним крыльцом своим выходивший в парк. Погода была великолепная, весна взяла управление природой на себя, и деревья салютовали ей звоном лопнувших почек и разворачивающихся листочков.
Уже кое-где зеленая трава потянулась к солнцу. В парке был слышен гомон птиц и журчанье ручья, вырвавшегося на свободу. Наконец, около часа дня Баба-Яга впустила Баранова в дом, и он прошел в гостиную с огромным букетом цветов. Роза была в изящном платье с высоким воротом и глубоким декольте. Она была без корсета, чтобы не искажать естественные линии тела. Баранов готов был поклясться, что под платьем не было белья. Она выглядела чересчур соблазнительно для фронтового офицера. Перед поручиком была опасная противница, лишь чуть замаскированная под светскую даму. Положив цветы ей на колени, Баранов представился и сказал, что его еще никогда не защищала дама, тем более такая красивая, и он очень ей обязан и благодарен.
— Ах, какие пустяки, — пристально посмотрела на него Роза, — мне это ничего не стоило, ведь усатый генерал — мой поклонник. Он рад услужить мне.
Всем своим видом и голосом она явно давала почувствовать свой интерес к нему.
— Таких, как Вы, я никогда не встречал, Вы сводите меня с ума, ВЫ волшебница, — продолжал поручик заготовленную речь и «ковал железо, пока горячо», — я обязан вам своей свободой, не лишайте меня своего общества. Я здесь на отдыхе, так как Дикая дивизия, в которой я имею честь служить, отведена во Львов для переформирования и пополнения. Я оказался совершенно один, не имею знакомых, с которыми мог бы развлечься после тяжелой жизни на фронте. Между ними началась рискованная игра. Хорошо известно, что, чем женщина очаровательнее, тем опаснее она как враг.
— Я что-то слышала о Дикой Дивизии, — ответила Роза, — мне говорили, что они убивают пленных.
— Мадемуазель, извините, но Вы повторяете слухи, распускаемые австрийской пропагандой, — парировал Баранов, — наши воины — львы, а не шакалы. В бою они беспощадны, а к пленным у них отношение презрительное. Они стараются как можно быстрее передать их в тыл, для допроса, так как считают, что сдача в плен равна предательству. Кавказцы — рыцари войны. Я сам не раз видел, как они кормили голодных детей в захваченных деревнях своим пайком, сами, при этом, были не евши по три дня.
— По-моему, убить можно лишь тогда, — неожиданно проговорила она шепотом, — когда это касается тебя лично, а иначе можно сойти с ума.
— Война. Мы защищаем свою Родину, — заключил поручик.
— Я ненавижу смерть, — ее огромные глаза вспыхнули огнем, словно вспоминая что-то, — а Вы уверены во всех солдатах? — ведь дивизия — большое соединение.
— Мадемуазель, наш командир, Великий Князь Михаил, брат Государя, специально следит за этим. Он бы не допустил расправы.
— А Вы видели Великого Князя вблизи? — вдруг спросила Роза, — каков он?
— Это высокий, стройный, очень сильный человек. Великолепный кавалерист. Храбрец, каких мало. Несколько раз под огнем неприятеля он лично поднимал полки в атаку. Я видел его два раза, когда он награждал меня, — несколько смутившись, ответил Баранов.
— Какой Вы еще мальчишка, — улыбнулась Роза, заметив его стеснение, — постараюсь, чтобы Вы, хоть на время, забыли ужасы войны и переключились на kultur. Их тайные планы сошлись, и они быстро договорились встретиться на следующий день в 6 часов вечера и поехать смотреть kultur.
Щелкнув каблуками, Баранов поцеловал ее руку, круто повернулся и вышел из комнаты. В то время, пока он спусклася по ступенькам дома на улицу, открылась боковая дверь комнаты, где происходило свидание, и в нее вошла стройная женщина в строгом черном платье и вуалеткой на лице. — Как тебе моя работа? — не оборачиваясь, спросила Роза, — завтра я буду из него веревки вить, он мне выложит все и даже не заметит этого.
— Ты сработала хорошо, — ответила женщина, смотря из окна на уходящего Баранова, — однако я видела поручика в городе, когда он со своей сотней, перед приездом Царя, сгонял неблаполучных в австрийские казармы. Я тогда еле ускользнула. Может быть, он и фронтовик, но сейчас работает на контрразведку. Если это так, то твой дом уже находится под наблюдением.
— Думаю, что ты права, — побледнела Роза, — старуха мне говорила о нескольких людях, по виду приказчиках, уже два дня снующих около дома с букетиками в руках. Я тогда думала, что эти господа — мои бедные поклонники, не имеющие шансов на успех, и еще пожалела их. А это оказался провал! Надо немедленно бежать! Все, что я успею сделать, — это предупредить об опасности моих агентов.
— Не торопись, — проговорила женщина спокойно, — успеем унести ноги. Уходить надо так, чтобы русская контрразведка надолго запомнила тебя. Давай приготовим им сюрприз.
Вечером на конспиративной квартире Деревянко внимательно выслушал доклад Баранова о прошедшем свидании.
— Вроде, все нормально, — задумчиво проговорил он, — только вот не могу успокоиться, на душе кошки скребут.
— Да все в порядке, она ни о чем не догадывается. Я ей мозги запудрил и обаял, как мог, а женщина всегда остается женщиной, даже на шпионской работе, — смеясь, выпалил Баранов.
— Не скажи, — ответил Деревянко, — она не женщина, а убийца в юбке. Сегодня пришла ориентировка на нее, так я еще трупы не успел сосчитать в донесении, стольких она отправила на тот свет. Не Бог дал ей эту красоту, а Дьявол. Вот что, придя к ней на часок пораньше, не в 6, а, скажем, в 5 вечера, ты можешь что-то выяснить. Если будет недовольна, скажешь, что сжигаемый страстью, не мог дождаться встречи или что-то в этом духе Я буду находиться в это время около дома. Будь предельно осторожен. Перед тем, как войти на крыльцо, расстегни кобуру.
Подойдя на часок пораньше и взойдя на крыльцо, Баранов заметил, что дверь закрыта неплотно. Он осторожно потянул за ручку и вошел в дом. В это время на лестнице раздалось сопение. Два человека с трудом тащили вниз большой ящик, обмотанный проводами. Поручик спрятался под лестницей, решив подождать развития событий. Подтащив ящик к двери, они отдышались.
— Теперь надо правильно наладить «машинку», соединив ее проводами с ручкой, — сказал один.
— Сделаем, — ответил второй, — как только дернут за дверь, взлетит на воздух не только весь дом, но и все те, кто будет находиться рядом.
«Адская машина», — догадался Баранов и решил действовать.
Он выскочил из-под лестницы и, выхватив свой армейский револьвер, заорал: «Руки вверх!»
В это время сверху раздался возмущенный голос:
— Что вы себе позволяете, поручик? он обернулся на голос и увидел Роза, стоящую на верхней ступеньке лестницы. В это же время боковым зрением он увидел, что люди около ящика судорожно пытаются вытащить свои пистолеты из карманов. Он прыгнул опять под лестницу и вовремя — в то место, где он только что стоял, впились две пули. В ответ, боясь задеть «адскую машину», он два раза выстрелил в потолок. Посыпалась известка. Вдруг послышался треск. Услышав выстрелы, Деревянко с агентами начали ломать дверь на заднем крыльце дома. Раздался топот, стало очевидно, что обитатели убегали. Поручик опять выскочил в коридор. Пусто. В это время открылась дверь и из боковой комнаты спокойно вышла стройная женщина в черном платье с вуалеткой на лице.
— Ни с места! — рявкнул Баранов, направив на нее револьвер, — Роза, будьте любезны, поднимите руки, — женщина медленно подняла руки и, сорвав вуалетку, бросила ее на пол.
— Ваше Высокопреподобие, матушка Ил… Илария? — совершенно опешил поручик и опустил свой наган.
Воспользовавшись замешательством, дама быстро выхватила из карманчика на юбке маленький никелированный дамский браунинг и выстрелила в Баранова. Пуля обожгла левый бок, поручик согнулся от боли, а когда разогнулся, женщина уже исчезла. Наконец рухнула дверь на заднем крыльце, и в дом ворвался подполковник с агентами.
— Обыскать дом, — приказал он агентам, подбегая к Баранову. Тот стоял бледный, зажав рукой левый бок. Из-под пальцев медленно сочилась кровь.
— Как же ты так неосторожно, брат? Кто в тебя стрелял? — вопросительно запричитал Деревянко.
— Роза, — вдруг отрывисто вырвалось у Баранова.
Он уже понял, что, очевидно, перепутал в суматохе Иларию с сестрой. Та была старше, и черты лица были жестче. Однако решил не говорить об этом контрразведчику, чтобы не бросить хоть какую-нибудь тень на женщину, которую безумно и безнадежно полюбил.
— Филиппов, — гаркнул подполковник, схватив за руку пробегавшего мимо агента, — пригони бричку, повезешь поручика в госпиталь. Да побыстрее — одна нога здесь, другая там.
Через три дня контрразведчик навестил Баранова в госпитале. Он принес бутылку коньяка и фунт ломаного шоколада в кулечке. Разлив янтарную жидкость в мензурки, они выпили за здоровье поручика и закусили коричневыми кусочками.
— Ускользнули от нас змеи эти, — рассказал Деревянко. — По подземному ходу. Дом мы окружили, а выход, оказывается, был в парке, около проселочной дороги. Пока разобрались, их уже и след простыл. Упустили… если бы не ты, то взорвала бы нас Роза. Целый пуд динамита был в ящике. Костей бы не собрали… я все удивляюсь, как она тебя раскрыла? Все же было продумано… Кстати, ты точно никого не видел, кроме Розы и двух ее подельников?
— Я уже говорил тебе, — огорчился Баранов, — агенты ее сбежали, а она ждала, когда я выскочу в коридор. И выстрелила, видимо, опасаясь, что я брошусь вдогонку.
— Это пистолетик Розу подвел. Не боевой, — пояснил Деревянко, — а то пришлось мне бы сейчас пить за помин души, а не за твое здоровье.
И они с удовольствием допили коньяк.
— Хотя шпионам удалось сбежать, операция признана удовлетворительной, — заключил подполковник, — всю германскую резидентуру на нашем фронте удалось заткнуть. Не скоро опомнятся.
— А что со мной?
— А что с тобой? — ответил вопросом на вопрос Деревянко, засовывая пустую бутылку в свои вместительные галифе, — меня не ищи, я сам тебя найду, когда нужен будешь. Выздоравливай. Ранение сквозное, касательное, легкое. Доктор обещал выписать тебя через десять дней в полк.
Так и получилось.
Почти все, что Баранов знал о жизни, — это война. На нее он и возвращался, но уже совсем другим. Раньше он сражался за Россию, может быть, и обезличенно. Теперь Родина персонифицировалась в конкретную женщину. Тайна, которая, как он считал, была между ними, словно делала их ближе. Он не знал, встретятся ли они еще или нет, но он ощущал, что «его» женщина нуждается в защите. Это желание защитить свою любовь было такое сильное, что Баранов ощущал его физически. Певец IМировой войны, Сергей Копыткин, написал по этому поводу:
Он возвратил свой жар душевный
Из обагренных кровью мест.
Сиял торжественно и гневно
На нем Георгиевский крест.
Глаза огромные глядели
Куда-то в сердца глубину.
Он мне сказал: «На той неделе
Я возвращаюсь на войну…»
Провоевав еще почти год, изведав горечь поражения, позор отступления и бесчисленные жертвы своих товарищей, в одном из боев поручик Баранов был тяжело ранен и отправлен санитарным поездом в Москву.
С этого момента, мои уважаемые читатели, автор и начал свою историю.
Когда Илария вошла в операционную, где Баранову только что удалили омертвелые части тела, хирург, весь забрызганный кровью, сказал: «Матушка, распорядитесь положить его в комнату около морга, до утра не доживет. Глубокая гангрена. Даже ампутация не поможет». Взглянув на поручика, Илария поразилась выражению страдания на его лице.
— Нет, он будет жить, — решила (правильнее было бы сказать «решилась») она.
Всю ночь Илария на коленях молилась перед иконой Казанской Божией Матери около койки, где бредил умирающий. А Баранову всю ночь казалось, что он карабкается на высокую гору и приближаясь к вершине, падает обратно к подножию. Этот скорбный путь повторялся снова и снова. Все его тело покрылось ранами от камней, по которым он катился вниз. Вдруг какая-то женщина в черном платье прошла около него наверх. Баранов бросился за ней. Около самой вершины он опять стал скользить вниз. Женщина обернулась и подала ему руку. Он узнал Иларию и вместо того, чтобы схватиться за нее, стал целовать ей руку. Они замерли, не двигаясь ни вверх, ни вниз. Тогда на вершине горы возник столб света и в нем поручик увидел Богородицу. Она смотрела на окровавленного Баранова и плакала. Там, где упали ее слезы, камни расплавились и образовали ровный путь к вершине. Илария подтолкнула его, и поручик медленно пошел по дороге из расплавленных камней. Резкая, нестерпимая боль прожигала его с ног до головы. Тогда он каждый шаг стал предварять криком «Люблю!» крикнет «Люблю!» и сделает шаг, крикнет и шагнет. Так и дошел до вершины.
Тонкая полоска сознания, как утренний рассвет, пробудилась в нем и заставила открыть глаза. Баранов увидел неземной красоты женщину, склонившуюся над ним. Первые лучи солнца создали нимб над ее головой. Поручик на секунду подумал, что умер, и ангел спустился к нему, провожая на небеса.
— Как Вас зовут, ангел? — спросил он.
— Илария.
Это имя, словно молния, пронзило мозг Баранова. Он очнулся и уяснил, что каким-то непостижимым образом перед ним стоит женщина, ради которой он сражался целый год, которую он желал увидеть больше всех на свете и которая составляет теперь смысл его жизни.
Еще мало чего соображая, не понимая, где он находится, Баранов, прямо взглянув Иларии в глаза, чуть слышно прошептал: «Я люблю Вас».
— Что Вы такое говорите? — тоже шепотом ответила игумения, — я монахиня, я обет дала.
И слезы полились из ее сапфировых глаз. Вошедшая монахиня увела Иларию из палаты.
— В чем дело, матушка, почему Вы плачете, ведь кризис миновал, и он будет жить?
— Пресвятая Богородица показала мне его ужасную смерть в будущем, но я упросила Ее, чтобы сейчас он поправился. Что я наделала? — закричала Илария, обнимая монахиню.
Несколько дней в госпитале и монастыре говорили о чуде, сотворенном Иларией. Старичок-хирург, чуть не направивший поручика в морг, лишился дара речи и, при появлении Иларии, отвешивал ей поясной поклон. Он так и оставался в глубоком поклоне, пока игумения не выходила из операционной или не разгибала его.
— Это Бог исцеляет. Молитесь Ему, — всегда отвечала Илария на подобные восторги.
Прошел месяц, и Баранов постепенно начал выздоравливать. Отношения с игуменией были ровные. Они, казалось, забыли слова, вырвавшиеся у него наутро после операции. Но так только казалось. Их души трепетали при виде друг друга. К поручику приехал отец, который оказался генерал-губернатором одной из провинциальных губерний Российской Империи. Привез на телеге еду для раненых, бинты и карболку в госпиталь и груду солдатских одеял для монахинь. Почти двое суток проговорив с сыном, он пришел к Иларии. Получив благословение, губернатор долго не мог начать разговор.
— Ваше Высокопреподобие, — решился он, — будучи давно наслышан о Вас и о Вашей благородной деятельности, будучи безмерно благодарен Вам за спасение своего единственного сына, я рад знакомству с вами и удивлен, как такая хрупкая женщина смогла справиться со всем этим? Откуда в Вас берутся силы?
— Я утешаю себя словами святого апостола Павла, — ответила Илария, — «Сила Моя совершается в немощи».
— Я хочу рассказать Вам о теперешнем положении дел в нашем государстве. Положение хуже некуда. Война, несмотря на героизм и миллионные жертвы, похоже, проиграна. Административная система вся прогнила. Высокие налоги, странные законы, взятки. У нашей страны сейчас или бездарное или подлое руководство, которое только набивает свои карманы. В городах — очереди за хлебом, сам видел, — и это в России?! Возможно, вскоре Царя заставят уйти. Я слышал такие разговоры в Государственной Думе. Страна стремительно нищает и деградирует. Украл миллион — тебя изберут в депутаты или возьмут в правительство. Украл краюху хлебы — тебя посадят в тюрьму. У меня такое впечатление, что мы живем среди убийц, воров, блудниц, взяточников и клеветников — среди всех подонков рода человеческого. Россия находится на грани развала. В дальнейшем нас ждут неисчислимые бедствия и, возможно, даже гражданская война, ведь на фронте солдаты стали убивать своих офицеров. Есть такие факты. Ненависть «классов» достигает предела. А у меня единственный сын, и я хочу, чтобы он жил. У меня есть средства. Я намереваюсь отправить его в Швейцарию для продолжения лечения и прошу Вас сопровождать его, — генерал вытер выступивший пот.
— Это Ваше право, спасать свое дитя, — произнесла Илария, — я подберу для сопровождения Вашего сына опытную сестру милосердия, так как он еще не может передвигаться самостоятельно. Что же касается меня, то служитель Бога не должен изменять своей высокой службе. Так что я остаюсь.
— Матушка, — не сдавался губернатор, — сравнительно недавно я побывал в Швейцарии, где, по указанию Государственного Совета Обороны, закупал винтовки для нашей армии. С удивлением обнаружил в этой стране Православный женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы. Он небольшой, больше напоминает общину монахинь. Вы можете продолжить служение в этом монастыре, а сыну будет достаточно хоть изредка видеть Вас. Зато и Вы и сын будете в безопасности. Это главное, а там, как Господь управит.
— Вы забыли слова Христа, — сочувственно произнесла Илария, — «Кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня». Я люблю и служу Богу и я остаюсь, по-другому быть не может.
— Теперь я понимаю чувства моего сына, — потрясенно заключил губернатор, — он мог полюбить только Вас.
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Илария решила проверить действенность этой фразы и высказала ее муллам. И вновь успех! Муллы согласились с ней!
Раздача подарков закончилась.
– Вы покорили наших союзников, – выразил свое восхищение Иларией полковник Юзефович. Поблагодарив игумению, он откланялся.
В это время как из-под земли вырос Деревянко. Был он в сапогах, брюках-галифе и во френче цвета «хаки» с подполковничьими погонами.
– Благословите, матушка, – обратился новоиспеченный подполковник к Иларии.
Игумения благословила и перекрестила его, тут поцеловал ей руку.
– С какого времени ты – подполковник? – изумился Баранов.
– Со вчерашнего дня, – ухмыльнулся Деревянко, – я теперь начальник районного Особого отдела (контрразведка) Галиции при генерал-губернаторе графе Бобринском. Спиридович меня рекомендовал и протежировал перед Джунковским. Он же сейчас и товарищ (заместитель – А.М.) Министра внутренних дел и, одновременно, командир Особого корпуса жандармов. В это время подошел дежурный и потребовал Баранова к командиру дивизии. Здесь для уважаемых читателей необходимо немного прояснить ситуацию. Германия значительно раньше России поняла, какой большой силой является шпионаж. Она покрыла всю нашу страну сетью агентов. Ими разрушались мосты, поджигались склады, взрывались военные суда, устраивались забастовки и выпускались листовки, разлагающие армию и народ. Финал оказался трагичен. Напомню моим дорогим читателям, что Российская империя погибла, став жертвой революции, созданной немецкими агентами на германо-американские деньги. Несмотря на горький опыт русско-японской войны, наши генералы поручали разведку кавалерийским соединениям, что не давало особо важной информации. Баранов, со своей сотней дагестанцев, сам неоднократно участвовал в разведывательных рейдах в тыл врага, поэтому-то он и был откомандирован из дикой Дивизии в распоряжение Спиридовича на время визита Николая II во Львов, как имеющий навык в подобной работе. Русская контрразведка была создана только в 1911 году и пользовалась услуги услугами жандармских офицеров. Так, до назначения Деревянко, вопросами контрразведки во Львове занимался жандармский капитан Силкин.
– Шпиона по роже видать, – уверял он генерал-губернатора.
А еще кто-то рассказал ему, что германцы татуируют на ягодицах своих агентов букву «К» («Кайзер»), чтобы они после выполнения задания спокойно переходили линию фронта, к своим. Капитан Силкин поверил этому бреду и осматривал не только рожу, но и задницу. Особенно увлеченно он исследовал женщин. Через 2 недели такой напряженной работы он подхватил сифилис, запил и застрелился.
Здесь необходимо добавить, что в русской контрразведке было вначале немало людей, подобных этому капитану Силкину. Сведение личных счетов, выдумывание и раздувание дел, чтобы получить побольше денег, странные «учения» агентов, которые никогда не проводились, или только вредили делу, добывание себе орденов и чинов – вот так действовала царская контрразведка. И только через несколько лет на службу стали приходить честные, дисциплинированные, хорошо подготовленные к этой работе люди, которые окончили появившуюся уже тогда Разведшколу. Такие, как капитан (уже подполковник (!)) Деревянко. И положение постепенно стало меняться в лучшую для России сторону. Прекрасный пример – это организация визита Николая II во Львов. Во многом, благодаря Деревянко, не было ни одного выстрела, ни одного покушения, ни одного негативного выступления против Царя. Поездка прошла «без сучка, без задоринки». Именно этим объясняется то, что Спиридович рекомендовал контрразведчика к повышению.
– Ваше Высокопреподобие, – вдруг официально обратился к Иларии Деревянко, – мне необходимо с Вами переговорить.
– Не хитрите, подполковник, я же не называю Вас начальник Особого отдела. Выкладывайте сразу, что произошло?
– Сегодня утром я разговаривал по прямому проводу со своим начальством в Петербурге, с генералом Джунковским. Он передает Вам свои наилучшие пожелания и просит сообщить, что во Львове находится Ваша родная сестра.
Илария встревожилась.
– Владимир Федорович, в бытность свою московским генерал-губернатором, был добр ко мне и много раз принимал участие в нашем монастыре, – произнесла игумения, – Вы еще, вероятно, не знаете моей истории. Хотите, я кое-что расскажу Вам.
Деревянко вежливо кивнул.
(Здесь необходимо сказать, что Джуниковский Владимир Федорович, сыгравший большую роль в судьбе Иларии, был либералом в политике и придерживался довольно необычных взглядов на развитие России в ХХ веке, что было странно для чиновника высокого уровня, каким он был. Может быть, несколько объясняет его личность то, что он как потомственный дворянин, имел герб с неожиданным фамильным девизом: «Deo et proximo» – «Богу и ближнему». Может быть, именно этому девизу он и следовал. Кто знает?
В России всё – секрет, но ничего – не тайна. В народе давно поговаривали, что Джунковский не равнодушен к революционерам. Это еще мягко сказано. Так, 12 января 1905 года капитан Джунковский назначается адъютантом Великого князя Сергея Александровича, тогдашнего генерал-губернатора Москвы. 4 февраля 1905 года Великий князь Сергей Александрович был разорван на клочки бомбой, брошенной террористом. Поговаривали, что маршрут следования кареты за 15 минут до выезда изменил адъютант Джунковский, но доказать ничего не удалось, так как начальник охраны Великого князя ехал с ним в одной карете и был также убит на месте.
По утверждению В.Н.Воейкова, вскоре после манифеста 17-го октября 1905 года Джунковский в Москве «оказался среди бунтарей, направлявшихся к тюрьме для освобождения политических заключенных, но воздержался от донесения начальству о своей „прогулке“, которая не послужила для него препятствием в дальнейшей успешной карьере».
Нина Берберова утверждала, что Джунковский – масон, однако более или менее точно известно, что он являлся кавалером высшего масонского ордена «Рыцарский военный крест» (последним из россиян, получивших эту награду 5 июля 2010 года был Шойгу С. К., который стал официальным масонским рыцарем Суверенного военного ордена Мальты и был награжден «Рыцарским военным крестом»).
А. П. Мартынов писал о Джунковском: «Связи у него в „сферах“ были громадные, и он легко и бестрепетно всходил все на высшие ступени административной лестницы…»
Будучи командующим Отдельного корпуса жандармов, запретил вербовать агентов среди учащихся школ и средних учебных заведений, а также уволил большое количество запятнавших себя жандармских офицеров, чем нажил себе много врагов.
Непримиримый противник Григория Распутина (на этом он и сошелся с Иларией). 19 августа 1915 года он попытался в присутствии Распутина разоблачить того перед Николаем II, но опоздал. «Сибирский мужик» сыграл на опережение, и Джунковский был уволен и отправлен на фронт командовать Сибирской стрелковой дивизией.
В ноябре 1917 года Джунковский был арестован и посажен в Петропавловскую крепость.
Сотрудничал с ЧК-ГПУ, активный участник различный чекистских операций.
Очень рекомендую посмотреть (если кто не видел) вышедший в 1967 году многосерийный исторический телефильм «Операция «Трест» режиссера Сергея Колосова. Фильм рассказывает об успешной операции, проведенной в 1921—1925 годах ОГПУ Советской России, по выманиванию легендарного английского разведчика, Сиднея Рейли, и революционера-террориста, военного министра Временного правительства, Бориса Савинкова, в Минск для встречи с членами «московской антисоветской организации». Руководителем этой «организации» был некто Якушев, прототип Джунковского. Играли замечательные советские артисты: Игорь Горбачев, Людмила Касаткина, Донатас Банионис, Армен Джигарханян. Фильм заканчивается арестом Рейли. На самом же деле, Рейли был расстрелян, а Савинков выбросился в лестничный пролет здания на Лубянке и погиб. С тех пор пролеты в этом здании затянуты сеткой. Но есть и другая версия. Писатель Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» пишет об убийстве Савинкова сотрудниками ВЧК.
Так или иначе, но Джунковский сыграл решающую роль в этой операции. Советсткое правительство ему, как офицеру, «лояльному к власти», определило пенсию в размере 3270 рублей в месяц. Он еще и подрабатывал учителем французского языка, а также разработал, по приказу НКВД, Положение 1932 года о паспортном режиме. Джунковский – автор советской паспортной системы, фактически восстановившей на деревне крепостное право. Однако ему не суждено было пережить сталинские репрессии. В 1937 году он был вновь арестован и расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой.
Приведу еще несколько интересных фактов из жизни Джунковского. Он не пил, не курил, не увлекался женщинами, был тайным монахом и Председателем Московского попечительства о народной трезвости. Джунковский был крестным отцом будущего известного советсткого писателя С.В.Михалкова, отца Никиты Михалкова и Андрея (Андрона) Кончаловского. В некоторых кругах Джунковского сейчас называют одним из «разрушителей Родины». Думаю, что это должны решать мои уважаемые читатели, однако без такого «предисловия» им было бы трудно понять дальнейшие события.
– Я родилась в 1874 году в деревне Строгино Московского уезда. Третьим ребенком в семье, и получила имя Прасковья, – начала Илария свой рассказ. – Тятенька содержал станцию почтовых лошадей, последнюю перед въездом в Москву. При станции были постоялый двор и трактир. Все мы, моя старшая сестра и брат, работали с детских лет. Я иногда прислуживала в трактире, однако тятенька заметил, что при мне выручка возрастала в несколько раз, и поставил меня там на постоянную работу. А я полюбила нашу Всехсвятскую церковь и постоянно сбегала туда, наверное, лет с шести. Отец Гавриил, приходский священник, улыбался при виде меня и говорил: «Вот и пришла наша маленькая монахиня». Я стала петь на клиросе. Однажды я увидела волшебное сияние, распространявшееся от певчих и восходящее к куполу церкви. Отец Гавриил, которому я рассказала об этом, ничего не заметил, однако запретил мне болтать об этом. С этого дня я всякий раз видела свечение вокруг певчих в храме, а в других местах – нет. Опущу некоторые личные подробности, скажу только, что с этого времени я мечтала стать монахиней. Суровый родитель мой и слышать не хотел об этом. Он бил меня вожжами, таскал за волосы, ставил на колени на горох и запирал на ночь в хлеву. Меня поддерживали и жалели мой старший брат и сестра, а маменька только плакала, не решаясь прекословить мужу. Он хотел одного – удачно выдать меня замуж и увеличить, таким образом, свое состояние. В деревне был еще человек, который понимал меня и у которого я находилв отдохновение. Это была помещица Корзинкина. Ее барский дом стоял в окружении огромного яблоневого сада. Она дала имя каждому дереву, и мы часто с ней ходили под яблонями и разговаривали с ними. Она-то и заставила тятеньку смириться с моим выбором и даже внесла вклад за меня в Московский женский монастырь11
Упоминание о помещице Корзинкиной уважаемый читатель также встретит в романе Юрия Трифонова «Старик».
[Закрыть]
.
Так, в 14 лет я поступила послушницей в этот монастырь, который вскоре стал для меня родным домом на этой земле. Сестра и брат оказали мне большую помощь в моем решении. Как я теперь понимаю, мы все трое хотели помочь русскому народу, но разными путями. Брат, купив камнедробилку, стал продавать гальку и щебень московским строителям. Предприятие было успешным. Полдеревни мужиков перестали пить водку и пошли работать к нему. Получая хорошую копейку, их семьи вздохнули свободно. Брат стал известным промышленником. Я приняла постриг в монахини, и наш монастырь стал невиданным доселе центром обучения и благотворительности. Мы содержим две воскресные и одну церковно-приходскую школы, помогаем бедным, открыли первый в России военный госпиталь в монастыре. Да всего и не перечесть. А старшая сестра стала революционеркой.
Это моя боль, моя трагедия, я каждый день молюсь за нее. Теперь Вы понимаете, почему я встревожилась, когда передали, что сестра во Львове. Она очень опасная террористка-революционерка.
– Извините, матушка, – спросил Деревянко, – Вы похожи?
– Да, сходство есть, но мы не близнецы.
– Если еще одна такая красавица появится в городе, то это не ускользнет от моего внимания, тем не менее, я попрошу оповестить меня, если сестра обратится к Вам.
Илария отрицательно покачала головой.
– Не старайтесь показаться хуже, чем Вы есть на самом деле, – неожиданно резко проговорила игумения, – выполняйте свою работу, а я буду делать свою. Сестры должны помогать друг другу.
– Если поможете сестре, тогда Вы станете соучастницей.
– Какой Вы еще максималист, – невольно улыбнулась монахиня, – запомните, Господь управит так, как это нужно Ему, в этом и будет заключена высшая справедливость.
Вздохнув, подполковник кивнул. Он предпочел не ссориться с влиятельной игуменией.
У подошедшего Баранова вдруг перехватило дыхание, когда он увидел улыбку Иларии, адресованную Деревянко. Тот показался ему вором, крадущим чужое счастье.
Но Баранов не имел не только никаких прав на эту женщину, он не имел даже намека на них, более того, он понимал, что ни он, никто другой, никогда не смогут ни обнять ее, ни хоть как-то приблизиться к ней. Баранов страдал, еще не понимая, что его посетило чувство, которое включает и огромное счастье, и страшную пытку, и сокровенную мистерию, и непостижимую загадку. Это чувство полностью меняет судьбу человека, бросая его в темноту ревности или поднимая на вершины духа. Называется оно Любовь.
– Матушка, – глухо проговорил Баранов, – меня опять откомандировали в контрразведку, а ведь я обещал Спиридовичу помочь Вам с подарками.
– Послушайте, подполковник, отпустите поручика на один день. Он поможет раздать подарки и проводит меня. А то, боюсь, не справлюсь. К тому же, обещания надо выполнять, особенно данные генералу, – с искоркой смеха в глазах попросила Илария.
– Как прикажете, – Ваше Высокопреподобие, – мрачно согласился Деревянко.
У Баранова в голове неожиданно зазвенели колокольчики, и он подумал: «Завтра я ее увижу, а там… что будет, то будет».
Через день, на коспиративной квартире, Деревянко втолковывал поручику оперативную ситуацию в городе и на фронте.
– Львов разложен контрабандой и немецкими деньгами. Проведенные обыски, временное интернирование недовольных и даже показательные порки людей, расклеивавших антирусские листовки, проведенные комендатурой, никаких особых результатов не дали. Что-то мы делаем не так и, пока не можем добраться до резидента германской разведки. Пришел приказ – готовиться к наступлению. Прорвемся на Венгерскую равнину, а оттуда откроется дорога на Вену.
– Давно пора, —обрадовался Баранов, – это же конец войне!
– Согласен, – продолжил Деревянко, – однако наши коммуникации чрезмерно растянуты. Если немцы с австрияками узнают об этом, соберут в кулак свои мобильные войска и опередят нас с прорывом, тогда, учитывая российскую расхлябанность, возможна катастрофа. Конечно, есть вероятность утечки данных с «самого верха», но генерал Джунковский обещал сделать все возможное, чтобы отсечь Распутина от информации и принятия решения. Впрочем, там хватает своих заморочек. Мы же должны делать нашу работу. По сообщению из контрразведки фронта, возможный немецкий резидент – это певичка кафешантана Эдем. Зовут ее Роза. К ней сходятся все нити. Приказано сблизиться с ней, спровоцировать ее на откровенность и арестовать. Нужен боевой офицер, способный войти к ней в доверие и проявить ее как шпионку. Лучше Вас, поручик, на эту роль никто не подходит.
– Какая гадость! – ответил Баранов, – увлечь женщину и предать ее! Ухаживать, целовать даму и в то же время опутать ее сетью лжи и коварства! Нет, я на это не способен.
– Да, паскудная работенка. Однако эта женщина – немецкий шпион. Из-за нее на фронте гибнут, попав в засады, тысячи русских солдат. Она пользуется своей красотой, чтобы губить наших офицеров, которые доверчиво сближаются с ней и находят измену там, где надеялись найти сочувствие, привязанность и отдохновение. Она продает Россию оптом и в розницу! А Вы боитесь запачкаться! Ханжа! – возмутился Деревянко.
– Почему бы сразу не арестовать эту Розу, раз ты столько знаешь о ней?
– Да потому, что сбегут все ее сообщники, агенты – исполнители, мы потеряем всю шпионскую сеть, которая вскоре снова заработает против нас. Подготовить хорошего агента – трудное и долгое дело, а арестовав всю агентуру, мы не только сорвем их планы, но и обескровим германскую разведку!
– Все-таки я вынужден отказаться. Есть еще одно обстоятельство, которое я не намерен обсуждать с тобой.
Они долго препирались между собой, переходя с «Вы» на «ты» и обратно, пока Деревянко не выпалил:
– Как сообщил генерал Джунковский, в город приехала опасная революционерка, возможно, для установления связи с резидентом германской разведки во Львове, а также для получения инструкций, денег и для координации действий с подпольем внутри России. И эта революционерка – родная сестра игумении Иларии.
– Как сестра Ил… Иларии? И причем здесь Ил..Илария? Не может быть! – проговорил смущенный Баранов.
– А ты, брат, попал! – внимательно глядя на поручика, нахмурился Деревянко, – но это и к лучшему, ведь ты спасешь игумению, если мы арестуем еще и революционерку.
Баранов протестующее поднял руки:
– Она не нуждается ни в чьем спасении, она – праведник, она чиста и светла, она неповинна.
– Как знать, как знать. Мне она заявила, что сестры должны помогать друг другу. Ты понимаешь, что это значит? Это соучастие.
Помолчав, Баранов дал согласие на участие в операции.
– Это очень опасное дело, поручик. Хотя к тебе и будут приставлены три моих агента, я не гарантирую жизнь. Ты должен пойти на это сознательно, понимая, что война идет не только на фронте.
Обговорив все тонкости этой необычной операции, собеседники разошлись. Деревянко, едва добравшись до постели, мгновенно заснул. Баранов же бродил по ночному Львову, вспугивая влюбленные парочки и размышлял, поможет ли он Иларии, если арестует ее сестру, или сделает только хуже. В результате, он пришел к мысли, которую высказал римский император и философ Марк Аврелий: «Делай, что должен, случится, что суждено». Этой мыслью всегда руководствовались все честные русские люди при затруднительных обстоятельствах. А звезды, словно согласившись с ним, медленно исчезали с ночного неба. Начинался рассвет.
Красавица Роза появилась во Львове перед самой войной и поразила горожан своим богемным образом жизни. Она выступала в кафешантане «Эдем» три вечера в неделю, имела свой салон, где собиралась золотая молодежь, открыто заводила богатых любовников, предпочитая старшее поколение, частенько кутила в ресторанах, после чего мчалась в своем ландо по улицам Львова, разбрасывая мелочь под ноги случайным прохожим. Когда русские войска заняли город, она переключила свое внимание с аристократов на штабных офицеров и быстро завоевала большую популярность. Ее выступления в Эдеме сопровождал оглушительный успех. Полный зал всегда стоя рукоплескал ей. Иногда Роза ездила в католический костел за отпущением грехов и плача исповедовалась. Потом весь день ходила мрачная и подавленная, но наступал вечер, и все повторялось сначала.
Во Львове в то время можно было легко познакомиться с одинокой женщиной. Писалось письмо, куда вкладывалась солидная купюра, посыльный относил его по адресу и, если дама отвечала, Вас ждала бурная ночь и спокойное утро с легким завтраком, поданным в постель. Русские офицеры полюбили этот очаровательный, почти европейский, город. У одних были эстетические, у других душевные, у третьих плотские привязанности. Одни любили его архитектуру, другие любили его веселые рестораны, третьи любили его женщин. Частенько, получив отпуск, офицеры не выезжали навестить свои семьи, а оставались во Львове, прокучивая все свои «боевые» деньги, и возвращались в часть без сапог и часов, заложенных, чтобы расплатиться в кафешантане.
Деревянко посоветовал Баранову сначала посетить выступление Розы в Эдеме, а потом, якобы под впечатлением от увиденного, написать ей письмо и просить о встрече. Утром поручик получил от подполковника пригласительный билет в Эдем, а вечером в парадной форме с аксельбантами, наградами и золотым оружием появился в кафешантане. Он был очень хорош в парадном мундире. Выше среднего роста, плечистый, с тонкой талией и острыми чертами лица, поручик обращал на себя внимание. Несколько артисток кордебалета постоянно сновали вокруг него, как бы невзначай показывая свои стройные ножки. Но Баранов не обратил на них внимания, он едва успел занять свой столик и заказать коньяк, как выступление началось. В зале погас свет, а сцена, где стояли кровать, трюмо и маленький пуфик, озарилась мягкой подсветкой. Раздался звон колокольчика, и с кровати вскочила совершенно обнаженная Роза. Многие офицеры, очевидно, бывшие здесь не в первый раз, мгновенно достали артиллерийские бинокли и навели их на сцену. Женщина чуть потянулась. Она была чувственна и олицетворяла в себе желание всех этих офицеров забыть ужасы войны в ее объятьях. И она четко играла на этом. По залу пронесся стон, когда она начала медленно одеваться.
– Как хороша, чертовка! – раздался бас за соседним столиком.
Чуть скосив глаза, Баранов узнал громадного усаа, у которого слюна уже закапала на стол. Это был начальник гарнизона города Львова генерал Веселаго.
В зале стояла тишина, прерываемая хриплым дыханием сотни мужчин, которые совершенно потеряли голову и готовы были за одно прикосновение к этой вакханке не только выболтать все военные тайны, но и убить кого угодно. В заключение Роза взяла с трюмо флакон духов и нанесла семь капель на интимные места своего тела. Затем, накинув прозрачный пеньюар и высоко вскидывая ножки, она запела фривольную песенку:
Мой папаша пил, как бочка,
И погиб он от вина.
Я одна осталась дочка
И зовут меня Нана.
Зал заревел, и Эдем превратился в Содом. Раздался гром аплодисментов, и все рванули к сцене, забрасывая ее цветами.
Баранов протиснулся за кулисы как раз в тот момент, когда Роза спустилась со сцены. Он почти в упор посмотрел на нее. Увидев красавца-офицера, она остановилась, и их глаза встретились. В это время, чуть не сбив его с ног, промчался адъютант начальника гарнизона с огромным букетом цветов и вручил их артистке.
Неожиданно Баранов увидел Деревянко, стоящего чуть поодаль, одетого в штатский костюм, в котелке, с тросточкой и с небольшим букетиком.
– Как вы смеете проявлять грубость по отношению к фронтовому офицеру? – закричал контрразведчик. Баранов мгновенно пришел в себя, развернул адъютанта к себе лицом, дал пощечину и бросил ему в лицо перчатку.
– Вы – тыловая крыса. Я вызываю вас на дуэль. Выбор оружия за вами, —прохрипел поручик.
– Господа, господа, успокойтесь, – певичка встала между ними, – вам что, мало смертей на фронте?
– Отставить! – вдруг раздался знакомый бас. Это кричал подоспевший Веселаго.
– Десять суток ареста каждому!
– Генерал, будьте снисходительны, они еще так молоды, – сказала Роза, вплотную подойдя к коменданту.
– Мадмуазель, но воинская дисциплина. Дуэли запрещены.
Увидев, что Роза отошла от него с недовольным гримасой, Веселаго сменил гнев на милость.
– Ну хорошо, хорошо, только ради Вас. Марш спать, а утром оба ко мне в комендатуру, там разберемся.
Инцидент был исчерпан.
Оркестр принялся наяривать канкан, кордебалет танцевал, визжа исполняя озорные частушки:
Была я белошвейкой
И шила гладью.
Теперь я балерина
И стала б…
Причем последнее скабрезное слово заглушала барабанная дробь. Посетители опять заполнили зал. Красавица Роза умчалась на автомобиле в обнимку с генералом.
– Наконец-то удача улыбнулась нам, – говорил Деревянко на конспиративной квартире, – теперь надобность в письме отпала. Для нас ситуация упростилась. Она тебя запомнила, более того, ты ей понравился, это было видно. Этим необходимо воспользоваться. Вот тебе адрес, завтра утром, не теряя времени, отправляйся к ней домой и начинай действовать. Куй железо, пока горячо. А я-то боялся, что с тюфяком имею дело, а ты ничего, сообразительный, не только шашкой махать умеешь.
– Спасибо, – мрачно ответил Баранов, – хуже всего, что она мне отвратительна. Престарелая кокетка. Я не смогу изобразить «чувства», как ты настаивал.
– Ну не такая уж и престарелая, какие ножки! – мечтательно закатил глаза вверх Деревянко, – хотел бы я оказаться на твоем месте.
– Вот и иди к ней вместо меня.
– С моей нищенской зарплатой, кривыми ногами и выдающейся трудовой мозолью, – хлопнул себя по пузу подполковник, – да она на меня даже не взглянет. Другое дело ты: Георгиевский кавалер, золотое оружие, молод, красив, в перспективе светят генеральские погоны. Она сделает все, чтобы обольстить тебя и, кроме получения нужной информации, получить еще и личное удовольствие. Так сладко совместить приятное с полезным. А насчет того, что не справишься, ты мне это брось. На работе находишься, вот и начинай работать. Как в народе говорят: «Начинай, начинай, да смотри же, кончай».
И они оба засмеялись от получившейся двусмысленности. Не суди их строго, уважаемый читатель.
Интерес, который возбуждала Роза своим выступлением, был плотским интересом. Если же вы следовали в этот омут страстей, то сильно увлекались ей. А насколько она была «плохой», не имело значения. Любовные удовольствия – это утомительная борьба, требующая большой выносливости. Не существует ни прошлого ни будущего, есть только борьба и, как награда или наказание, триумф или провал. Это борьба за первенство. После первой близости становится ясно, кто стал рабом, мужчина или женщина. Отыграть обратно уже невозможно. Можно только убежать, как заяц. И только взаимная любовь преодолевает борьбу и несет счастье, но она возникает очень редко. Слишком часто в нее вмешиваются деньги, расчет и власть, чтобы поверить в такое чудо.
Роза проиграла в этой борьбе один раз жизни, своему мужу, но убив его, сумела удрать. И от участи рабыни от полиции. Однако не от немецкой разведки, которая без труда завербовала красивую преступницу. Пройдя обучение в германской разведшколе, она быстро освоила премудрости плотской любви в элитном бордели Мюнхена и была направлена в Берлин соблазнять дипломатов и офицеров военных атташеатов, работавших в столице Германии.
Перед войной через австрийскую контрразведку, с которой в Германии установились партнерские отношения, она прибыла во Львов во главе группы агентов-диверсантов. Как мы увидели, она легко внедрилась в аристократические круги города, что очень помогло ей после взятия Львова русскими войсками. Ее связи среди русского генералитета и штабных офицеров были обширны. Именно она сообщила германскому командованию сведения, что стоящая в 60 верстах от Львова, у городка Голице, русская армия недоукомплектована, плохо вооружена, артиллерия ощущает «снарядный голод» и имеет жиденькую оборону, всего из трех рядов траншей, далеко отстоящих друг от друга. Этим немедленно воспользовался немецкий генерал Макензен, организовав Горлицкий прорыв.
Вот что представляла из себя эта коварная женщина, которую весь Львов знал как красавицу – артистку.
На следующий день, поздним утром (с комендантом Деревянко уладил все проблемы), поручик постучался в дверь дома, где жила Роза. На пороге двухэтажного уютного особнячка с зеркальными окнами Баранова встретила злющая старуха, очевидно, родственница Бабы-Яги, которая охраняла покой своей хозяйки, и заставила его прождать до часу дня. От нечнго делать поручик несколько раз обошел маленький домик, расположенный на окраине Львова, задним крыльцом своим выходивший в парк. Погода была великолепная, весна взяла управление природой на себя, и деревья салютовали ей звоном лопнувших почек и разворачивающихся листочков.
Уже кое-где зеленая трава потянулась к солнцу. В парке был слышен гомон птиц и журчанье ручья, вырвавшегося на свободу. Наконец, около часа дня Баба-Яга впустила Баранова в дом, и он прошел в гостиную с огромным букетом цветов. Роза была в изящном платье с высоким воротом и глубоким декольте. Она была без корсета, чтобы не искажать естественные линии тела. Баранов готов был поклясться, что под платьем не было белья. Она выглядела чересчур соблазнительно для фронтового офицера. Перед поручиком была опасная противница, лишь чуть замаскированная под светскую даму. Положив цветы ей на колени, Баранов представился и сказал, что его еще никогда не защищала дама, тем более такая красивая, и он очень ей обязан и благодарен.
– Ах, какие пустяки, – пристально посмотрела на него Роза, – мне это ничего не стоило, ведь усатый генерал – мой поклонник. Он рад услужить мне.
Всем своим видом и голосом она явно давала почувствовать свой интерес к нему.
– Таких, как Вы, я никогда не встречал, Вы сводите меня с ума, ВЫ волшебница, – продолжал поручик заготовленную речь и «ковал железо, пока горячо», – я обязан вам своей свободой, не лишайте меня своего общества. Я здесь на отдыхе, так как Дикая дивизия, в которой я имею честь служить, отведена во Львов для переформирования и пополнения. Я оказался совершенно один, не имею знакомых, с которыми мог бы развлечься после тяжелой жизни на фронте. Между ними началась рискованная игра. Хорошо известно, что, чем женщина очаровательнее, тем опаснее она как враг.
– Я что-то слышала о Дикой Дивизии, – ответила Роза, – мне говорили, что они убивают пленных.
– Мадемуазель, извините, но Вы повторяете слухи, распускаемые австрийской пропагандой, – парировал Баранов, – наши воины – львы, а не шакалы. В бою они беспощадны, а к пленным у них отношение презрительное. Они стараются как можно быстрее передать их в тыл, для допроса, так как считают, что сдача в плен равна предательству. Кавказцы – рыцари войны. Я сам не раз видел, как они кормили голодных детей в захваченных деревнях своим пайком, сами, при этом, были не евши по три дня.
– По-моему, убить можно лишь тогда, – неожиданно проговорила она шепотом, – когда это касается тебя лично, а иначе можно сойти с ума.
– Война. Мы защищаем свою Родину, – заключил поручик.
– Я ненавижу смерть, – ее огромные глаза вспыхнули огнем, словно вспоминая что-то, – а Вы уверены во всех солдатах? – ведь дивизия – большое соединение.
– Мадемуазель, наш командир, Великий Князь Михаил, брат Государя, специально следит за этим. Он бы не допустил расправы.
– А Вы видели Великого Князя вблизи? – вдруг спросила Роза, – каков он?
– Это высокий, стройный, очень сильный человек. Великолепный кавалерист. Храбрец, каких мало. Несколько раз под огнем неприятеля он лично поднимал полки в атаку. Я видел его два раза, когда он награждал меня, – несколько смутившись, ответил Баранов.
– матушка Евпраксия первая пришла в себя. – Мы ждем-ждем, думали, что тебя милиция приехала забирать, а ты от них прячешься.
– Какая милиция? – недоуменно переспросила Ольга, продолжая торчать головой в узком проеме пещеры.
– А такая, – полушепотом ответила монахиня, – какая нынче везде. Приехали двое на милицейской машине и прямым ходом к игуменье.
Ольга сразу почувствовала от такой новости неприятный осадок.
– Да ладно тебе, мать, стращать девчонку, – вступила в разговор и матушка Илария, – мало ли чего они приехали. Праздник скоро, вот и беспокоятся. Служба у них такая. А ты: раз приехали, то, значит, обязательно кого-то забирать. А вдруг нас с тобой, а?
И тихо засмеялась, глядя на Ольгину реакцию. Но той было не до смеха. Ольгу покоробило от одной мысли, что этот приезд, возможно, был связан с ее недавним прошлым.
Она подтянулась на локтях, высунулась по пояс, скинула сумку и приготовилась прыгнуть вниз.
– Милости просим! Давайте я вам помогу, – услышала она мужской голос.
Ольга нагнулась и увидела рядом молодого офицера, а чуть поодаль от него – трех солдат.
– Уж как-нибудь сама, – отстранив руки офицера, Ольга ловко спрыгнула на землю.
– А мы смотрим, ждем, волнуемся, – запричитала матушка Евпраксия, – куда это она запропастилась. И не побоялась одна в пещеру пойти!
– Вот и хорошо, что вход замуруют, и плохо, – задумчиво сказала мать Илария. – Пещеры-то наши святые! Сколько монахов там молились! Эх, нету теперь таких подвижников… Так уж впрямь пусть лучше закроют, чем будут лазать и озорничать. Так-то лучше будет и нам, и всем.
Офицер дал команду приступать к работе. Только сейчас Ольга увидела на дне оврага бронетранспортер – точь-в-точь какой был в тот злополучный день на берегу реки.
– А как же! – заметив удивление, пояснил офицер. – Не на мерседесе ж к вам ехать по мокроте и грязоте?
– Хоть на телеге, – буркнула в ответ Ольга, чувствуя на себе пристальный взгляд. В ответ офицер добродушно рассмеялся:
– Нет, на телеге у вас хорошо получается ездить по воду, а мы своей технике не изменяем.
Ольга взметнула брови и удивленно посмотрела на незнакомца.
– Я сразу догадался, что это именно вы, – тихо сказал он, подойдя ближе. – Среди господ офицеров после одной пикантной истории только и разговоров, что живет в соседнем монастыре одна красавица монашечка, и томит она за высокими стенами свою красу, словно Елена Прекрасная из сказки. Только ту Елену змей проклятый похитил, а с монашечкой вообще загадочная история приключилась. Никто толком не знает: то ли ее кто другой похитил, то ли она сама от кого спряталась…
– Вот что, любезный, – так же тихо оборвала его лирику Ольга, – или вы немедленно начинаете заниматься тем, ради чего сюда приехали, или я обо всем доложу настоятельнице.
– А вот этого делать не надо, – примирительно сказал офицер. – Скажу вам по секрету: когда ваша игуменья приезжает к нам, то ее ждут как генерала – с почетом, уважением и страхом. Причем страха всегда больше. Наш народ хоть и военный, но малость разболтанный, шутников много. Нам бы замполита такого, как ваша настоятельница.
БТР зарычал и медленно стал двигаться к пещере, слегка буксуя на мокром лесном склоне. Солдаты вытащили изнутри тяжелую бронированную плиту и приложили ко входу. Ольга и притихшие монахини не смогли сдержать удивления: она была подогнана идеально.
– Рады стараться, – удовлетворенно сказал офицер. – Наш «кэп», то есть командир полка, лично обо всем распорядился.
Вся работа делалась без перекуров и разговоров. Всем хотелось быстрее управиться и возвратиться к теплу. Наконец, офицер поднялся к намертво приваренной плите, оглядел швы и победно произнес:
– Граждане монахини, можете спать спокойно. Никто сюда больше никогда не влезет. Это я вам гарантирую.
Стукнул в плиту кулаком
Недавно наш монастырь посетили настоятель храма свт. Николая Чудотворца на острове Залит игумен Паисий (Гидраш) и монахиня Илария. Отец Паисий начал свое служение на острове еще при жизни старца Николая Гурьянова. Матушка Илария помогает принимать паломников, поет и читает в храме. Наш монастырь с о. Паисием связывают многолетняя дружба и духовное родство. Мы попросили дорогого гостя поделиться своими мыслями и переживаниями с нами.
— Хочется радоваться, когда заходим на территорию монастыря, — говорит отец Паисий. — Лет десять уже сюда приезжаем раз в два-три года. Всегда всё преображается в лучшую сторону. Сегодня матушка Илария была на службе. Вот она стоит и говорит: «Батюшка, как всё делается каким-то домашним?» Вы не замечаете каждый день, а мы редко приезжаем и видим изменения. Вот этот уголок в монастыре стал домашний, цветочный, чистый. На этом месте была стройка — уже всё облагорожено. И так потихонечку. Я помню, сидел с отцом Андреем (Лемешонком. — Прим. ред.) в трапезной сестринской, он показывает через окно, говорит:
— Вот здесь у нас будет деревянный храм святителя Иоанна Шанхайского. Батюшка, благослови!
— Господи, что мое благословение…
— Нет, ты помолись со всеми, и получится.
— Бог в помощь! Отца Иоанна Шанхайского мы все любим, отец Николай Гурьянов любит.
Раз, проходит два-три года, отец Андрей говорит: «Приглашаю на освящение». И я видел, с какой радостью освящали этот храм. Слова — это же действие: и у Бога в Евангелии, и у нас, и у отца Николая, и много раз. Если человек действительно просит у Бога, именно просит, а не то что веришь не веришь, то получает просимое. И так же наверняка каждый день слова отца Андрея и матушки игумении смиренно воспринимаются. То есть сестры потихонечку слушаются, и всё исполняется, преображается. Я не знаю, как отец Андрей здесь с вами терпит много-много. Я ему всегда в лицо говорю, не то чтобы памятник ему воздвигать, но у отца Андрея, наверное, сила неземная. Мое личное мнение.
Много чад есть у отца Николая Гурьянова, много монастырей. Я помню, при жизни отца Николая матушка Любовь приезжала из Екатеринбурга, из Ново-Тихвинского монастыря. Огромнейший монастырь. И она приезжала, и сестры приезжали. У бабушек ночевали в таких скромных условиях, у бабушки Екатерины. А ваш только начинался монастырь в это время. И через несколько лет, когда похоронили отца Николая, смотрю — облачение из Екатеринбургского монастыря всё беленькое…
Много монастырей приезжало. Потом ваш монастырь. У вас есть традиция на Радоницу приезжать каждый год. И когда сейчас прекратились из-за пандемии поездки, я вашей матушке игумении говорю, и всем говорю, что добрые традиции надо стараться соблюдать. Сам отец Андрей один раз, когда пропустили, приехал на второй год и говорит:
— Отец Паисий, ты не представляешь, какой тяжелый год был…
— А вы почувствовали?
— Да, мы у батюшки не были этот целый год.
Мы сидели, разговаривали. И вот пришло опять утешение: опять рыба из озера, опять радость и все-все-все.
И мы чувствуем радость, которую люди получают у о. Николая на острове. Мы там живем и видим эту радость у вас, у других людей, которые приезжают и преображаются. У меня такой случай в этом году был или в прошлом. На паперти ступеньки как у вас. Стоит человек и говорит: «Какие вы счастливые!» Я говорю: «Слава Богу! Но есть трудности». Он говорит: «Ты не понимаешь, какая здесь ЭНЕРГИЯ!» И вот он стоит на этой паперти: «Не понимают. Чувствовать чувствуют, а как объяснить…» Я говорю: «Да, энергия, конечно. Дай Бог, чтобы тебя коснулась».
Нам у вас хочется оставаться. И дай Бог. Я так верю и вижу здесь и послушание у людей, и радость у людей не только, которые узнают, любят меня из-за отца Николая, а вообще, как они работают, стараются спасение получить. Еще у меня с сестрами есть пересечения разные. Мой лучший друг Павлуша женился на вашей Олечке, сестре милосердия. Они в Петербурге живут. Я с ними дружу, очень дружу. И она привозит сестер на Залит.
И матушка Илария очень любит вашу матушку Евфросинию, они близки друг другу, молятся друг за друга. Мне кажется, мир — это если нет суеты, нет раздражения, есть терпение. Это очень важно. Надо благодарить Бога за всё.
Записала инокиня Ольга (Великая)
09.06.2021