Урок № 10 Тема В.Г.Короленко. «У казаков» (глава 2)
Цели: познакомить учащихся с
пребыванием В.Г.Короленко в Оренбуржье, очерками «У казаков»;
с содержанием глав о
заселении казаками илецкой линии, жизнью и обычаями казаков.; развивать
познавательный интерес к истории и культуре края; способствовать воспитанию
бережного отношения к родному краю, его прошлому и настоящему.
Ход урока
1. Оргмомент.
2. Вступительное слово учителя. В.Г. Короленко на Урале.
Двадцать шестого июня
1900 года в газете «Уралец», в разделе «Местная хроника», появилось сообщение:
«В настоящее время в Уральске (в саду Шелудякова) гостит В.Г. Короленко с
семьей. В.Г. избрал окрестности Уральска для летнего отдыха». На Урал Владимир Георгиевич Короленко (1853-1921)
приехал не отдыхать. Сюда его привело стремление выявить народное мнение о
Крестьянской войне 1773-1775 годов и о самом Пугачеве. «Попытаться собрать
еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может,
найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на
Яике первую волну крупного народного движения», — так сам писатель
определил одну из основных целей своей поездки на Урал.
Интерес Короленко к
Крестьянскому восстанию и Пугачеву был связан с замыслом романа «Набеглый
царь». Однако, посетив казаков, познакомившись с их бытом, нравами, традициями,
Короленко решил отложить работу над романом и написать «путевые заметки о
современном Яике и казаках».
25 августа Короленко
отправился в Оренбургский край, на речку Таловую, ибо именно там, по
воспоминаниям старожилов, находился тот исторический умет (постоялый двор),
«где Пугачев начинал свое дело».
Путешествием вверх по
Уралу Короленко остался доволен, о чем свидетельствует письмо к Н.Ф. Анненскому
от 16 августа, в котором он писал: «…Совершил очень интересную поездку по
верхней линии до границы Уральского войска, в Илек. Ездил я с илецким казаком…
Ночевали на дворах, на пашнях, на «базах» (навесы для скотины) и сеновалах.
Записал две записные книжки путевыми набросками. Был у киргиз в кибитках и,
наконец, запутался в степи без дорог и «без языка».
Для поездки в Илек
Короленко приобрел маштака и 26 июля в сопровождении Макара Егоровича Верушкина
(природного илецкого казака, учителя сельскохозяйственной фермы) отправился в
путь по маршруту: Трекино – Гниловский – Рубежки – Требухи -Январцево –
Кирсанов – Иртек – Илек.
В Илек В.Г. прибыл со
своим спутником 30-го июля и пробыл здесь два с лишним дня. Короленко стремился
выяснить роль Илека в Пугачевском движении.
«Современный Илек, — замечает писатель, — уже очень мало напоминает
бывший аванпост Урала. Теперь это большая станица, пожалуй, местечко, с пятью с
половиной тысячами жителей, из которых около половины не казаки, а иногородние…
Жители Илека занимаются хлебопашеством и торговлей с киргизской степью, и,
кажется, здесь более чем в других местах заметен начинающийся процесс
«расказачения» — перехода к мещанству…»
В настоящее время в селе
Илек живет прямой потомок Макара Егоровича Верушкина (того самого, что сопровождал
Короленко по землям Уральских казаков), это Юрий Владимирович Верушкин. Он, как
и его предок, долгое время учительствовал, а сейчас возглавляет одно из
образовательных учреждений Илека. После возвращения с Урала Короленко вел
переписку с оренбуржцами и, в том числе, с М.Е. Верушкиным, которому он написал
32 письма (хранятся в Национальной библиотеке РФ).
Уральская поездка
Короленко имела своим творческим результатом очерки «У казаков» (1901г.) и
«Пугачевскую легенду на Урале».
Очерки «У казаков» —
своеобразная летопись жизни уральского казачества. «Бесхитростное изложение
впечатлений, встреч, картин степной природы», — так определил характер
своих очерков сам писатель.
В очерках описываются
станицы Рубеженская, Таловая, Ташла, Рассыпная (по тем временам, конец
Уральской области – начало Оренбургского войска), упоминаются реки Кинделя,
Иртек, Голубая, Заживная, Кош, Чаган и Яик (Урал), рассказывается история
основания ряда поселков и станиц (Бородинского, Дьяковского, Убиенного Мара, Илека).
Очерки богаты
фольклорно-этнографическим материалом. Часто цитирует Короленко
распространенную на Урале песню «Яик ты наш, Яикушка»
Яик Короленко
ассоциирует с «казачьей рекой»: «Дикий Яик, девственный и вольный, пока
свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и баюкает залегающие
в омутах «ятови». Казаки уверены, что это навсегда». Короленко с восторгом
изображает увиденную им природу Оренбургского края: «Степь тихо развертывает
перед нами свои дремотные красоты…».
3.
Просмотр
презентации, предваряющий чтение главы 2
4.
Обсуждение
увиденного ( в ходе презентации)
5.
Чтение
фрагментов из главы 2
6.
Итог: Что нового о жизни Уральского ( и
Оренбургского) казачества вы узнали?
Что показалось необычным, удивительным? С каким чувством описывает
писатель увиденный край?
7.
Домашнее задание
Составить презентацию или нарисовать иллюстрацию или
составить словарик устаревших и диалектных слов, встретившихся в очерке — или
составить кроссворд «Рыболовство на Яике»
Читать главы из романа В.Правдухина.
Символично, что Уральская область, главное стойбище казаков, некогда располагавшееся между Астраханью и Оренбургом, находится теперь на территории Казахстана – в стране «киргизов», как сами казаки называли местное население.
У Короленко масса очерков, посвящённых поездкам в разные российские области, но это именно поездки с определённой, гуманитарно-литературной миссией: участие в социальных процессах («В голодный год») или фиксация процессов общественно-политических (разрушение традиционной деревни под гнётом вторжения капитализма в «Павловских очерках»).
Под понятие «путевых дневников» лучше всего подходит хроника 1901 года «У казаков» («Из летней поездки на «Урал»), описывающая сбор материалов [то есть, процесс с непредсказуемом результатом] для так и неосуществлённого романа о Пугачёве.
Для этого Владимир Галактионович ездил по берегам реки Урал и невыразительной, лишённой каких бы то ни было красот, степи, от станицы к станицы с тем, чтобы найти предков восставших или же материальные следы пугачёвской вольницы.
Находит, таки, «царский дворец», в котором живёт старая татарка, пару-другую «сказителей» и поэтов (приводимые в тексте вирши убедительными, мягко говоря, не выглядят); кроме того, наблюдает рыбный промысел, взаимоотношения казаков и казахов (киргизов), расслоение казачества и разницу между стариками и молодёжью.
«Эта коренная уральская старина сейчас стояла перед нами с её своеобразной поэзией, с её понятиями о широкой степной воле, понятиями старинными, подчас полуазиатскими, за которые, однако, старое войско умело когда-то постоять грудью… Теперь эта старина тихо сходит со сцены, а в лице молодёжи выступает уже что-то другое, ещё неясное и тоже странное…»
Хотя Короленко постоянно подчёркивает то как он любуется кряжистыми дедами да лицами «необыкновенно красивыми с выразительными правильными чертами», особо привлекательными казаков, а так же их быт и представления и мире интересными и, тем более, харизматичными не назовёшь.
Текст словно бы буксует, не торопясь начаться, хотя дело движется, казалось бы, к развязке и все галочки писателем расставлены.
Но длинных, точно бы «снятых» одним долгим, без склеек, сцен в книге раз до обчёлся: пение пьяных мужиков в трактире «Плевна», да визит к полоумной бабушке ста десяти лет отроду, помнивших тех, кто помнил «старые ндравы».
«К сожалению, беседа не удалась. Я попал в минуту, когда старая память потускнела и работала, как испорченная шарманка. Какие-то клочки воспоминаний, бессвязные и отрывочные, вспыхивали и тотчас же гасли, а речь переходила в малопонятный шёпот…»
Но и содержательные беседы выглядят (звучат в писательском изложении) не более интересно – не даётся казачий дискурс «народному писателю», как он не старается, из-за чего путешествие его длится как бы параллельно местной жизни, практически с ней не пересекаясь.
На аборигенов Короленко смотрит как на чужеродных туземцев, что особенно чётко выражается в смаковании полтергейста, якобы разыгравшегося в одной из деревень.
С паршивой овцы, де, хоть шерсти клок, так вот вам, дорогие читатели, живинка в деле и путевой, ни к чему не обязывающий, оживляш, впрочем, и разоблачённый местными же газетами.
«На хуторе В. А. Щапова раздавались необъяснимые стуки, летали различные предметы, появлялись таинственные огни, — одним словом – происходило всё то, что и теперь время от времени повторяется в некоторых «одержимых» уголках нашей матушки России. Но тогда у нас это было ещё внове…»
То есть, писатель поступает в роли типичного столичного гостя, которому показывают всё то, что хоть сколько-нибудь может быть интересно заезжей знаменитости; хоть что-то приподымающееся над заунывным и бесцветным бытом.
Один раз только перо Короленко оживает и начинает двигаться более заинтересованно, чем в других путевых эпизодах – когда он описывает историю поисков Беловодья.
Подстрекаемые невесть откуда взявшимся, очевидно подложным (и позже, по возвращении, разоблачённом) митрополитом Амвросием, несколько казаков были снаряжены односельчанами (деньги собирали всем миром) на кругосветное путешествие в поисках таинственной и очевидно сказочного Беловодского царства, процветающего «во всей неприкосновенности полная и цельная формула благодати…»
Из Одессы мужички направились на Крит, оттуда в Константинополь, где пытались получить уедиенцию у местного патриарха.
Далее следовали Солоники, Святая земля («здесь казаки с безотчётным благоговением осматривали все действительные и мнимые достопримечательности и святыни, не подозревая, какая сеть лжи и обмана раскинута теперь [и притом христианскими руками] над святой землёй…»), Порт-Саид, Цейлон, Сингапур, Камбоджа, Японские острова, Гонконг, Китай, Сандвичевы и Аланские острова и много ещё что со всеми остановками.
Ежели кто захочет повторить подвиг трёх казацких богатырей, то вот вам, пожалуйста, точный адрес Беловодья, на который они ориентировалась в своих скитаниях, и когда спускались под землю в ад (подземная железная дорога в Константинополе), и когда видели наполовину жаренных рыб, и когда наблюдали возле Красного моря оживающих и вылезающих из песка фараонов…
«Есть за востоке за северным, а к южной стране за Магелланским проливом, а к западной стороне за южным или тихим морем славянобеловодское царство, земля патогонов (!), в котором живёт царь и патриарх. Вера у них греческого закона, православно ассирийского или попросту сказать сирийского языка… Царь тамо христианский, в то время был Григорий Владимирович, а царицу звали Глафира Иосифовна. А патриарха звали Мелетий. Город, по их названию, беловодскому, Трапезанчунсик, а по-русски перевести – значит Банкон (он же и Левек). А другой же столичный город Гридабад… Ересей и расколов, как в России, там нет, обману, грабежу, убийства и лжи нет же, но во всех – едино сердце и едина любовь…»
Путешествие внутри путешествия (вполне реального 1898-го года, ведь писатель разговаривал с Григорием Терентьевичем Хохловым, одним из его участников, хотя и предпринятое в идеалистических целях) оказывается нечаянным вскрытием приёма и показывает (объясняет или же, как минимум, намекает) на первоочередные цели и задачи самого Владимира Галактионовича.
Кстати, про ереси. Оказывается, что казаки, в большинстве своём, самые что ни на есть, консервативные староверы, самого разного разбора.
И в том, как Короленко пытается их систематизировать, тоже прослеживается железобетонное отчуждение ловца экзотических бабочек (вспомним совсем иные подходы к описанию раскольников у потомственного кержака Мамина-Сибиряка и этнографически добродетельного Пришвина).
«Тут есть поморцы или перекрещённые, признающие, что в господствующей церкви воцарился антихрист, и потому принимающие обращённых не иначе, как после второго крещения; федосеевцы или чистенькие, отрицающие брак; дырники, молящиеся на восток и потом преимущественно под открытым небом; чтобы примирить это требование с условиями климата, они прорубают отверстие в восточной стене дома и молятся, глядя в него, на небо; есть признавшие священство австрийцы, окружники, принявшие Белокриницкую иерархию, основанную греческим епископом Амвросием; беглопоповцы, сманивающие священников у господствующей церкви. Есть и единоверцы, но особенно много так называемых никудышников, не признающих никаких компромиссов и потому не ходящих никуда, где молитвы совершаются австрийские ли, единоверческие или беглые священники…»
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-37209180-1’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);
(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
Собрание сочинений В. Г. Короленко в 6 томах, М, «Правда», 1971, том 5, стр 343 — 486
Уральские страницы в творчестве
Короленко
С уральской землей и с
уральскими казаками связано множество имен русских писателей и поэтов XX века. Как и в XIX столетии картины уральской
жизни занимают в русской литературе очень заметное место. Немало известных
писателей, этнографов, путешественников посвятили страницы своих книг описанию
жизни уральцев, но так проникновенно, ярко, поэтично, с глубоким осмыслением
всего увиденного и услышанного здесь, на берегах Урала и степных просторах, не
писал никто. Устное народное творчество, бытовые реалии, подмеченные
наблюдательным взглядом писателя, шутливая ирония, а порой трагический лиризм
авторских отступлений — все это придает очеркам Короленко особую историческую
масштабность и неповторимое художественное своеобразие, по своему содержанию
выходящим далеко за рамки очерковых, чисто этнографических зарисовок.
В этом году исполняется
119 лет со времени приезда в Уральск известного русского писателя
В.Г.Короленко. Его поездка в Приуралье была непосредственно связана с
конкретной творческой задачей: найти новые материалы для задуманного
исторического романа о Пугачеве, условно названного им «Набеглый царь». Почти
три месяца провел он в нашем крае, и хотя роман о Пугачеве так и не был им
написан, но творческим результатом его пребывания здесь явились замечательные
очерки «У казаков», одно из лучших произведений русской литературы, посвященных
истории, культуре и быту народа Приуралья.
Пролистаем страницы
произведений Короленко, прикоснемся к истории, вспомним как это было… И помогут
нам в этом произведения великого автора.
Свое пребывание в
Уральске, путешествия по казачьим станицам, впечатления, легенды о Пугачеве
Короленко описал в очерках «У казаков».
«Ранним июньским
утром 1900 года, с билетом прямого сообщения Петербург — Уральск я приехал в
Саратов […] Дует теплый ветер, плещется на отмели речная струя от проехавшего
парохода […] Наконец — звонок, и наш поезд ползет по низкой насыпи с узкой
колеёй, на этот раз с очевидным намерением пуститься в путь. Степь тихо
развертывает перед нами свои дремотные красоты. Спокойная нега, тихое раздумье,
лень… Я с любопытством вглядывался в эту однообразную ширь, стараясь уловить
особенности «вольной степи» […] Нигде, быть может, проблема
богатства и бедности не ставилась так резко и так остро, как в этих степях,
где бедность и богатство не раз подымались друг на друга «вооруженной
рукой». И нигде она не сохранилась в таких застывших, неизменных формах.
Но степь темна и молчалива. Поезд несется среди однообразного, заснувшего
простора…» [1]
А пока В.Г.Короленко едет по
бескрайним степям, давайте поговорим о писателе.
В.Г.Короленко родился 15
июля 1853 года в Житомире. Русский писатель, журналист, публицист, общественный
деятель заслуживший признание своей правозащитной деятельностью, как в годы
царской власти, так и в период Гражданской войны и советской власти.
Короленко был связан с революционным движением, за что неоднократно подвергался
арестам и ссылкам. Значительная часть литературных произведений писателя
навеяна впечатлениями о проведённом на юге России, детстве и ссылкой
в Сибирь.
В.Г.Короленко.
«Около
двух часов дня вправо от железной дороги замелькали здания Уральска, и, проехав
мимо казачьего лагеря, поезд тихо подполз к уральскому вокзалу, конечному
пункту этой степной дороги»[1]
Вокзал Рязано – Уральской железной дороги.
Эта поездка была связана
с давним увлечением писателя историей России. Прошлое России нашло отражение во
многих публицистических и художественных произведения писателя:
«У казаков»
«К истории отживших
учреждений»
«Божий городок»,
«Художник Алымов»,
«Пугачевская легенда на
Урале»,
материалы к роману
«Набеглый царь»,
«История моего
современника» и др.
Газета «Уралец»
сообщала: «В настоящее время в Уральске (в саду Шелудякова) гостит В.Г.
Короленко с семьей. В.Г. Короленко избрал окрестности Уральска для летнего
отдыха». В Уральске он жил на даче художника Каменского в том самом маленьком
домике, о котором писал, и отсюда совершал поездки по хуторам и станицам. [5]
«Мы поселились близ
Уральска на даче М. Ф. Каменского. 21 мая 1900 года отец писал Ф. Д. Батюшкову:
{49} «Здесь — мы в садах. В трех саженях от балкона нашей хибарки — река
Деркул, в которой я уже купался раза три. За речкой (чудесная речонка, в
плоских зеленых берегах, с белесым ивняком, склоняющимся к воде!) -тоже луга и
сады, с колесами водокачек и желобами для орошения. Тепло, даже, вернее, жарко,
тихо, уютно. На всех нас первый день нашего пребывания произвел отличное
впечатление. А для меня вдобавок среди тишины этих садов и лугов бродит еще
загадочная тень, в которую хочется вглядеться. Удастся ли,- не знаю…»[7]
Дача Каменских, где останавливался
Каменских со своей семьей.
Чтобы работать в
войсковом архиве, куда отец получил доступ, он уезжал с утра на велосипеде в
Уральск, находившийся в семи верстах от нашего дома, и к обеду возвращался
оттуда с четвертью кумыса за спиной. Эти поездки в сорокаградусную жару его не
утомляли: он купался, обедал, а вечером с увлечением играл с детьми, и
молодежью в гандбол на площадке близ дома Каменских.
Войсковой архив
1900 г Библиотека Х.Есенжанова 2019 г
Короленко работал в
архивах, разговаривал со старыми казаками, ездил по станицам. В одном из писем
он писал: «Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг
справился дня в два-три. Второй том оказался содержательнее. Выписок приходится
делать очень много. Зато картина встает довольно полная… Некоторые детали уже
теперь просятся на бумагу почти в готовом виде… Знаю, что в историческом
отношении теперь не навру, колорит времени, места передам, а в некоторых
подробностях, быть может, будет кое-что новое и для историков». [7] Со
страниц архивных материалов перед ним проходили образы сторонников и
противников Пугачева, и он настолько погрузился в атмосферу того времени, что ему
казалось, он живет «со всеми этими людьми».
|
«Прочитал |
И уж тем
более, он «жил» с живыми, с теми, с кем встречался и
расспрашивал, собирая предания и легенды о том событии и человеке. И чем больше
Короленко узнавал о Пугачеве, тем более живым представлялось ему его «лицо».
Встречи В.Г.Короленко с уральцами.
Позже он писал: «Интересно,
что в то время, как «печатный», исторический Пугачев до сих пор остается
человеком «без лица», Пугачев легенды – лицо живое, с чертами необыкновенно
яркими и прямо-таки реальными, образ цельный, наделенный и недостатками человека,
и полумифическим величием царя. Меня самого поразило это, когда я собрал
воедино все эти рассказы». Короленко писал: «Сила Пугачева была в наивной
и глубокой народной вере, в обаянии измечтанного страдальца-царя, познавшего на
себе гонение, несущего волю страдальцу-народу». [2]
Для воссоздания «живого
лица» вождя восстания, возникла настоятельная необходимость в поездке на Урал
(Яик),
в те места, которые были колыбелью и ареной Пугачевского движения. Короленко
хотелось воочию «поглядеть на всю эту местность, где Пугачев действовал». Он,
как и А.С.Пушкин в свое время ,придавал поэтическим «показаниям» уральских
казаков первостепенное значение, отдавая им во многих случаях предпочтение
перед печатными источниками. В Уральске писателя интересовали прежде всего
исторические места, сохранившиеся от пугачевского времени.
Особое внимание
привлекала старая часть города-Курени, Михайло-Архангельский и Петропавловский
соборы.
Петропавловская церковь
Михайло –Архангельский собор
Собирая материал для
романа, Короленко встречается со стариками — хранителями пугачевского
фольклора, много работает в войсковом архиве, полагая необходимым обратиться и
к народной памяти — преданиям, легендам, песням. Поездка в Уральск дала
Короленко конкретные представления о Пугачевском движении в области Яицкого
войска и явилась стимулом для дальнейшего сбора материала к задуманному
произведению: «Одним словом, — оглядываясь назад, — подчеркивал
писатель, — вижу, что и архивного и натурального материала набрал немало, лето
для моей задачи не потеряно: узнал много казаков (порой тоже скифского
периода), и, главное, все мелочи, все сколько – нибудь выдающиеся
«происшествия» за несколько лет до Пугачева, во время и после, — теперь у меня
как на ладонке». [7]
Однако роман о Пугачеве
остался ненаписанным. Перед нами лишь его отрывки, планы, мотивы, сцены,
характеристики. И все же эти материалы дают представление о сути и широте
авторского замысла. На первый план выдвигалась извечная проблема русского
бунта, его причин и последствий. Уральские впечатления позволили писателю
прийти к выводу: «Картины человеческой неправды и подлости, с одной
стороны, неясные инстинкты дикой воли, картины разгула и разнузданности этой
дико воли, с другой стороны, и среди темных разбушевавшихся сил– мечта о какой
– то будущей правде, как звезда среди туч, — вот как мне рисуется основная нота
моей повести». [8] Произведение первоначально, по-видимому,
представлялось писателю большим историческим полотном, посвященном Крестьянской
войне 1773 – 1775 годов с двумя центральными героями вождем восстания Емельяном
Пугачевым и молодым офицером Василием Скаловским, воспитанным на свободолюбивых
идеях Просвещения XVIII века. По замыслу писателя Скаловский должен был
примкнуть к Пугачевскому восстанию. В романе, кроме событий в Яицком казачьем
войска, предполагалось изобразить борьбу крестьян Поволжья, работных людей с
заводов Урала, а также Петербург, двор Екатерины и ее фаворитов. Особенное
место занимала фигура Григория Орлова, человека сильных, необузданных страстей,
непомерного честолюбия. Причем картина столичной жизни органически связывалась
с тем, что творилось на дальнем Яике. Далеко не последнее место в романе должна
была занимать и любовная коллизия: Пугачев – Устинья Кузнецова. «Главный
интерес, — вспоминал И.Н.Розанов о своем разговоре с Короленко, повесть
(«Набеглый царь» — Н.Щ.) должна была возбудить трагической участью одной из жен
Пугачева, без вины виноватой. Ей было семнадцать или шестнадцать лет, когда
Пугачев взял ее «за красоту» себе в жены взял насильно: она его не любила; а
вскоре потом Пугачев был пойман, а ее как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то
очень долго морили в тюрьме».
История создания произведения «Набеглый
царь»
Сопоставление произведений А.С.Пушкина и
В.Г.Короленко.
«Набеглый царь»
создавался с ориентацией на пушкинский роман «Капитанская дочь». Оба писателя
отправлялись от исторического от исторического лица Шванвича, но«художественно
переосмысливали его и трактовали различно» . Как известно, исторический Шванвич
стал прототипом двух противоположных персонажей «Капитанской дочки» Гринева и
Швабрина. Каждому из них приданы разные черты и свойства прототипа: в Швабрине
сконцентрировалось все дурное, отрицательно, в Гриневе воплощены положительные
качества. О пристальном интересе Короленко к Шванвичу свидетельствует и
специальный запрос писателя в Оренбургскую ученую архивную комиссию в 1903
году: «Было бы большой услугой истории, -писал он, — если бы удалось
разыскать подробности о некоторых сподвижников Пугачева. Меня лично интересует
предыдущая служба Швановича, который потом предался Пугачеву, а также: зачто,
собственно, был сослан содержится в Оренбурге известный Хлопушка, как его звали
ранее? В Уральском войсковом архиве я нашел указание, что Шванвич служил в самом
Оренбурге, года два до Пугачевщины». [16] Шванвич, по-видимому,
должен был войти в роман сугубо отрицательным персонажем, то есть таким каким
он представлялся писателю в известных исторических источниках и архивных
документах. Его характерными чертами, по мнению Короленко, были
«беспорядочность, тщеславие, самолюбие и снедающий эгоизм».Скаловский мыслился
Короленко в качестве антитезы обоим героям «Капитанской дочки» — Гриневу и
Швабрину. Он не корыстный предатель, как Швабрин, и не жертва исторических катаклизмов,
как Гринев. Скаловский — «личность благородная и патриотическая». В сущности
Скаловский с самого начала своей военной карьеры противостоит всем окружающим
его офицерам, которые чужды ему своим аморализмом, в конце концов становятся
врагами. В дальнейшем развитии фабулы романа расширялись связи частной судьбы
героя с историческими событиями XVIII века, усложнялся его психологический
облик. Вместе с тем образ Скаловского остался невоплощенным. Он не дорисован и
только намечен. Но одно ясно, что он наряду с «набеглым» казачьим царем должен
был оказаться в центре сюжетно-фабульных коллизий исторического повествования.
Художественное воплощение личности Пугачева представляло для писателя, пожалуй,
главную трудность в работе над историческим романом. «Фактически история
бунта, — писал он, — с внешней стороны разработана обстоятельно и подробно, но
главный его герой остается загадкой». [2] Особенно волновало
Короленко тайна необыкновенных способностей Пугачева влиять на людей, удивляла
«страстная любовь», которую «питал Яик к образу своего «набеглого царя»,
стоившего ему столько слез, горя и крови». Объяснение этому он находил в
искренней вере казачества в истинность «царского» происхождения Пугачева. На
основе преданий и легенд Короленко выстраивает довольно стройную, несколько
романтическую, концепцию своего понимания загадочной личности Пугачева. Он
приходит к твердому убеждению: «Сила Пугачева была в наивной и глубокой
народной вере, в обаянии из мечтанного страдальца-царя, познавшего на себе
гонение, несущего волю страдальцу-народу».[2]
Эта наивная вера была настолько сильной и широко
распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно увлечен гипотезой «
царского» происхождения Пугачева. Некоторые реальные исторические сведения о
Пугачеве (он рано был произведен в хорунжие, имел почетную саблю, называл себя
«крестником Петра Великого») давали повод писателю считать Пугачева одним из
многочисленных побочных детей Петра I. В семье Короленко сохранилось
воспоминание, о том, что писатель в одно время искал подтверждение этой
гипотезы: высчитывал возраст Пугачева, время пребывания Петра I на Дону в 1722
году, проездом, при возвращении из персидского похода. Он «с большим интересом
вглядывался в различные портреты Пугачева, отыскивая в его лице черты сходства
с Петром I». Однако в набросках романа эта версия не получила дальнейшего
развития. «Живое лицо» Пугачева наиболее полно раскрывалось на обширном фоне
казачьей вольницы. И в облике предводителя восстания, ив характере яицкого
казака Короленко находил много общих, родственных черт. Возможно поэтому
писатель столь тщательно и всесторонне исследует казачий характер, общий уклад
жизни уральцев, их мировоззрение. архива. Короленко, касающиеся отдельных
казаков-мятежников, отличаются особой скрупулезностью и полнотой изложения.
Большая их часть, как уже писалось выше, еще не привлекалась исследователями.
Ценность их бесспорна: они помогают понять некоторые особенности творческой
манеры писателя, цели и формы использования исторических источников и устного
народного творчества в художественной ткани произведений, да и сами по себе эти
материалы важны как документы эпохи Пугачевского восстания. Короленко полностью
копировал «Статейный список содержащимся под арестом казакам и разного звания
людям, кто именно по какому делу посажен под караул, когда из оного освобождены
и куда отправлены». Всего в этом списке значилось 150 человек, среди них вторая
жена Пугачева Устинья, и многие известные приверженцы его из Яицких казаков. Из
некоторых “дел” мы узнаем и о самом Пугачеве.
Емельян
Пугачев Устинья Кузнецова
Интересно сообщение
казака Алексея Сивогривого и его матери о первом появлении Пугачева в Яицком
городке в конце ноября 1772года. «Под видом купца» Пугачев прожил в доме
яицкого казака Дениса Пьянова целую неделю. Особый интерес представляют записи
Короленко из произведений и фольклорных материалов И.И.Железнова,
М.Л.Михайлова, В.Н.Витевского и др, предназначенные для романа. Фольклорные
сюжеты наталкивали его на создание картин, фрагментов, ситуаций, а иногда и
целых глав. Легенда “Видение” ,согласно которой приход царя-избавителя
былнеизбежен. Старец Алексе – митрополит предсказывает: ”Городу Вашему
придется испытать коловратности: будут и труси, и мятежи, и кровопролитные
брани, и неурядицы. Станут вас нудить насчет креста и бороды, станут заводить
солдатские очереди, богопротивные легионы и неполезные штаты. А в единое время
появится между вас такой набеглый царь…Вот из-за него вы пострадаете много
крови прольете, много примети горечи”.[24]Эта
легенда стала своеобразным ключом к пониманию загадочной для Короленко личности
Пугачева, а также сложной обстановки в Яицком воске накануне восстания. Не
случайно и название романа “Набеглый царь” взято именно из этой легенды.
Бунт Пугачева
Из казачьих преданий для будущего
романа писатель черпал колоритные описания одежды “царя”,его встреч с казаками,
многочисленные доказательства истинности “царского” происхождения Пугачева.
Много подобных мотивов было также в повествованиях, записанных самим Короленко
на Урале. Подбирал Короленко и материалы, повествующие о женитьбе Пугачева. Как
известно, сам факт женитьбы на Устинье произвел неблагоприятное впечатление на
сторонников Пугачева: по их мнению, царь не мог жениться на простой казачке.
Короленко обратил внимание на то, что в казачьих преданиях женитьба объясняется
противоречиво. В одном предании говорится, что Пугачев сам убеждал своих
сподвижников в необходимости женитьбы, в другом совершенно обратное ,в третьем
— будто царица Екатерина провокационно старалась подвести его к такой женитьбе
и скомпрометировать его «царское» происхождение. Зато все предания согласны в
том, что именно из-за женитьбы пошли у Пугачева неудачи. Царь — странник
намеренно нарушает «веленья судьбы» и женится на простой казачке, чтобы тем
самым положить конец кровопролитию. Он руководствуется высшими интересами
государства: «Вот идут из Питера ко мне войска и генералы; если ко мне
пристанут, -тогда вся Россия загорится, дым станет столбом по всему свету. А
когда женюсь на казачке, — войска ко мне пристанут, судьба моя кончится, и
Россия успокоится». Главной, решающей причиной сватовства Пугачева
именно к Устинье были ее обаяние и необыкновенная красота. Здесь воочию
осуществила народный идеал о прекрасной царевне. Устинья сделалась «царицей» в
силу личных достоинств.
Литературовед Николай
Щербанов в очерке о Короленко пишет, что «эта наивная вера была настолько
сильной и широко распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно
увлечен гипотезой «царского» происхождения Пугачева.
Короленко, пожалуй,
первый обратил внимание на трагическую историю любви вождя восстания и простой
яицкой казачки, грозные события, которые начали разыгрываться на Яике осенью
1773 года, захватили в свой водоворот и юную красавицу Устинью Кузнецову.
Пугачев очень любил молодую жену, относился к ней с доверием и уважением и
уважением. Об этом свидетельствуют многие его распоряжения. О его заботе
говорят приказания Михаилу Толкачеву «наблюдать здоровье Устиньи», Петру
Кузнецову-«чтоб он чаще к дочери своей ходил». Полюбив Пугачева со всей
страстью юного сердца, Устинья так же переживала за его судьбу. Их любовь,
встречи, расставания были опалены огнем невиданных жестоких сражений, они
встают сейчас перед нами в обрамлении многочисленных боев и пожаров.
Писатель придавал
поэтическим «показаниям» уральских казаков первостепенное значение, отдавая им
во многих случаях предпочтение перед печатными источниками. В Уральске писателя
интересовали прежде всего исторические места, сохранившиеся от пугачевского
времени.
Дом казака Кузнецова,
отца «Яицкой императрицы»
Устиньи – ныне музей Пугачева в Уральске.
Работа над романом
«Набеглый царь», так увлекшая писателя, оборвалась на стадии замыслов и
первоначальных набросков. Причина того, что роман все же не написан, в
литературе о Короленко объясняются по-разному.
Большинство
исследователей считают, что работа над романом оборвалась в связи с замыслом
нового большого автобиографического произведения «История моего современника».
Другая точка зрения выражена Н.К.Пиксановым, который утверждал: «Романа
Короленко не написал, да и не мог, очевидно, написать по особенностям своего
дарования». В мемуарной литературе утверждается, что современная Короленко
действительность, насыщенная бурными событиями, также отвлекала писателя от
исторического повествования, требовала от него непосредственного отклика.
Известно, что Короленко горячо и действенно вмешивался в жизнь своей
публицистикой. Не раз бросал работу над рассказом или повестью, чтобы вовремя
быть там, где нужны были его воля, его совесть, его энергия, его сердце и перо
писателя — гуманиста. О стремлении писателя расширить свои представления о
крестьянско-казацкой войне свидетельствуют и многочисленные вырезки, печати.
Писатель, по-видимому, намеревался начать повествование с военных событий,
участником которых был Пугачев. Сохранился отрывок романа, названный «Пролог».
В его основе действительный факт: однажды ночью во время стычки с пруссаками
Пугачев в поднявшейся суматохе упустил одну из лошадей майора Денисова, за что
был жестоко избит плетьми. Желание и надежда вплотную приняться за создание
романа «Набеглый царь» не покидала писателя почти до последних дней его жизни.
В своих письмах, разговорах он неоднократно обращался к излюбленной теме.
Обширный исторический материал, извлеченный из различных «дел» войскового
архива, замечательный запас бытовых и этнографических наблюдений из жизни
современного казачества легли в основу очерков Короленко «У казаков»,
«Пугачевская легенда на Урале» очерки были задуманы писателем еще во время
поездок по казачьим станицам.
Короленко творчески
осмысливает историю уральского казачества, выражает свой взгляд на его роль в
освоении края. Писатель охватывает своим взглядом значительный временной
отрезок- от первых поселенцев на Яике до начала XX
века. Нельзя не указать в связи с этим и на очень важный источник информации об
уральских казаках, который использовал Короленко во время его работы над
очерками: это произведения И.И.Железнова. Короленко писал П.Ф.Анненскому 26
октября 1900 года, что очерк «Пугачевская легенда на Урале» «составляет лучшую
и самую интересную главу из написанного до сих пор. Материалом для нее
послужили отчасти печатные работы казака Железнова, отчасти же собранные мною
от старых казаков предания и частично- войсковой архив».
В записных книжках и
тетрадях Короленко сохранились многочисленные записи уральских песен, преданий,
легенд, этнографических заметок, взятых из сочинений Железнова, а также из его
архива, тогда хранившегося в Войсковом хозяйственном правлении. На основе
биографических данных, отдельных воспоминаний, глубокого проникновения в
творчество Железнова Короленко удалось запечатлеть его живой портрет как
«выдающегося уральского исследователя и знатока старины».
Уральские произведения
Короленко свидетельствуют о том, что писателя интересовали те же вопросы, которые
когда — то волновали и Железнова. В связи с этим писатель обращается к
фольклорному архиву Железнова и выписывает из его материалов предания, в
которых отразились, многочисленные выступления и бунты казачества против
царского правительства и его ставленников: «Туча каменная», «Кочкин пир», «Об
уходцах», «Начало волнения» и др.
Для воссоздания далекого
прошлого и правдивого изображения современной жизни Урала, казачьих типов
Короленко широко использует народные песни.
Очерк «У казаков» как отражение жизни
уральского казачества.
В произведении «У
казаков» отдавая должное героическому прошлому войска, мужеству и вольнолюбию
казаков, Короленко не идеализирует казачью общину. Он понимает, что многое ушло
в прошлое и никогда не возродится, ибо жизнь диктует свои новые законы и
требования, они становятся жизненной реальностью, с которой необходимо
считаться казакам. Проследив судьбу казачества на Урале, Короленко пришел к
выводу об исторически неизбежном отмирании общинного казачьего строя жизни. На
это в газете «Уралец» ему дают резкую отповедь, что, мол,
нечего судить о таком мудреном деле, как община «с легкомысленностью заезжего
туриста».
Оригинальная композиция
очерков. Первая глава — своеобразная увертюра к истории казачьего войска.
Широкая уральская степь, могучая и загадочная, манит спутников в свои дали:
«Тут на вас надвигается, охватывает, баюкает вас широкое степное раздолье,
ровное, молчаливое, дремотное…»; «Полная луна выкатывается над темным
горизонтом и точно старается рассмотреть в степи что-то и что-то обдумать…[5]»
Вторая глава очерков
названа «На учуге». «Учуг» на реке Урал — это главная достопримечательность
жизни Пугачевского бунта. Короленко начинает с описания традиций, бытового
уклада, связанного с исконным занятием казаков — рыболовством. Писатель
подчеркивает: «Здесь, на месте столкновения свободной реки с железной
решеткой — центральное место Урала, настоящая душа его, один из главных ключей
к его жизни».
Рыбная ловля казаков.
Следующие главы знакомят
читателей с историей пугачевского бунта, с легендами о Пугачеве, рисуют картины
бунта уральского казачества против центральной власти, воссоздают путешествия
казаков в поисках Беловодского царства, показывают отдельные казачьи характеры.
С каждой главой
углубляется представление читателя о неповторимой, оригинальной жизни
казачества с его особым общественным укладом, создавшим своеобразный социально-
психологический тип казака с его вольнолюбием, приверженностью «старой вере»,
ненавистью к дисциплине- «регулярству», смекалкой, мужеством.
В очерках ярко проявились
неповторимые индивидуальные черты Короленко-художника: резкая очередность
характеров, удивительно мягкий лиризм, мастерство пейзажиста, точный, гибкий,
музыкальный язык, задушевность интонаций, сердечное доверие к читателю. Все это
делает очерки «У казаков» одним из замечательных произведений Короленко в этом
жанре.
Над очерком «У казаков»
Короленко работал около года, можно предположить, что к сентябрю 1901 года они
в основном были написаны. Однако над некоторыми работа продолжалась вплоть до
декабря. Чехов назвал очерки «У казаков» «чудесной
вещью».
Что касается «Пугачевской
легенды на Урале», то она была написана еще осенью 1900 года и по
первоначальному плану должна была идти четвертой главой очерков «У казаков».
Позднее этот план был изменен, и, когда очерки были уже сданы в печать, набраны
и даже сверстаны, Короленко изъял из них «Легенду», вероятно предполагая
использовать содержание ее в романе «Набеглый царь». При всей самостоятельности
очерков совершенно очевидна их связь с романом о Пугачеве. Очерки — это как бы
эскиз к будущему историческому повествованию. Не потому ли в них чуть ли не на
каждой странице незримо присутствует «тень Пугачева». Многие страницы очерков
перекликаются с написанными фрагментами романа «Набеглый царь».
Описание природы нашего края
Короленко не только
работает, но и бывает на Утюжном затоне среди казаков, прогуливается по Ханской
роще, посещает станицы и везде обращает внимание на природу. Он восхищается то
могучим и бурным Уралом, то подчеркивает умиротворенность и тишину природы.
Все это находит отражение в его произведениях.
Великолепны описания
Короленко степных просторов, курганов, извилистых тихих речушек, закатов. Речку
Ембулатовку он называет «хорошенькой», а Урал – символом казачьей вольницы
«Дикий Яик, девственный и
вольный, пока свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и
баюкает залегающие в омутах «ятови». Казаки уверены, что это навсегда…»
Река Урал
«Река, вспененная крепкой
волной, мчалась в крутых берегах, шумя и прыгая, как дикий степной скакун.
Перед нами с одного берега до другого лежал неширокий дощатый помост на сваях.
Вдоль этой настилки с левой стороны виднелась частая щетина тонких железных
шестов. Эти шесты, проходя через два горизонтальных бревна, образуют вместе с
ними частую решетку, доходящую до дна. Это «кошак», через который может
проходить лишь мелкая рыба. На обоих концах помоста возвышаются деревянные
решетчатые сооружения с дверьми. Над дверьми надпись: «Вход на учуг посторонним
строго воспрещается». … Яик, дикий, красивый, несся на просторе, срывая
глинистые яры, и, шипя и клокоча, кидался на неожиданную преграду. Во всей
картине чувствовалась дикая прелесть, своеобразная и значительная. Здесь, на
месте столкновения свободной реки с железной решеткой – центральное место
Урала, настоящая душа его, один из главных ключей к его жизни…»[15]
Ханская роща
Уральское лето 1900 года
— яркая страница биографии в творчестве Короленко. «Каждый раз, как
приходит лето, — писал он в 1908 году М.Е.Верушкину, — мне
вспоминается Уральск, сады, фермы и хочется перемолвиться с вами, вспомнить
наше путешествие по степям и станицам. Хорошее было лето». [3]
«На Урале знаменитые
люди бессмертны, – писал Владимир Короленко в
своем очерке «У казаков» после путешествия в наши края. – Не умер в свое
время Петр III, не казнили Пугачева и Чику, Елизавета Петровна после своей
смерти очутилась неведомыми судьбами в пещере на Уральском сырту, император
Николай I тоже «ходил» и являлся казакам…»
Мы тоже
считаем, что Пушкин остался у нас навсегда, как и Даль, Жуковский, Толстой, а
также и сам Короленко. И, возможно, там, где жил он в «маленьком домике на
берегу тихой речки Деркул», до сих пор витает дух писателя, восторгавшегося
местными красотами и удивлявшегося местным порядкам.
Андрей
Щербанов (сын), Людмила Ивановна Щербанова
рассказывают
о писателе.
Выражаем особую
благодарность семье известного краеведа Щербанова Н.М., которые предоставили
материалы архива ученого для работы по теме.
Литература
1.
Материалы архива Евстратова Н.Г. «В.Г.Короленко
в Приуралье».
Евстратов Н.Г. Русские писатели в Казахстане. – Алма – Ата. 1979. – с
137.
2.
Материалы архива Н.М. Щербанова.
3.
Верушин М.Е. В.Г.Короленко на Урале// «Уралец». –
Уральск. 1903, №77
4.
Горнфельд А.А В.Г.Короленко в его записных
книжках. – В.Г.Короленко. Записные книжки (1880-1900). – М., 1935. – с. 16;
5.
Короленко В. Г. Полное собрание сочинений.
Посмертное издание. Т. XX. Очерки и рассказы. Госиздат Украины, 1923, стр.
39-43
6.
Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Под ред. Б. Л.
Модзалевского. Пб., «Время», 1922, стр. 145.
7.
Письмо Ф. Д. Батюшкову от 7
сентября 1900 г. — B кн.: Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Пб.. 1922. стр.
152-163
8.
Короленко В. Г. Полное собрание сочинений.
Посмертное издание. Т. XX. Очерки и рассказы. Госиздат Украины, 1923, стр.
39-43
9.
Короленко В.Г Пугачевская легенда на Урале. –
В.Г.Короленко. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. – Т. 8, с. 432
10. Короленко В.Г. Записные книжки (1880 – 1900), — с. 479-480
11. Короленко В.Г. Пугачевская легенда на Урале, с. 432
12.
Короленко В.Г. Пугачевская легенда на Урале, с.433.
13.
Короленко В.Г. Избранные письма в 3-х томах. – М.,
1932. – Т. 1. –с. 165.
14.
Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. —
Т. 10. –с. 319.
15.
Короленко В.Г. Избранные письма в 3-х томах. – М.,
1932. –Т. 1. –с. 178.
16.
Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. –
Т. 10. –с. 303, 305.
17.
Короленко В.Г. Письма (1888 — 1921). –Пг, 1922. –с.
185, с.196.
18.
Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах . – М., 1955.
— Т. 8. –с. 440-441
19.
Короленко В.Г. Письма (1888 — 1921). –Пг, 1922. –с.
185.
20.
Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. –
Т. 10. – с. 303.
21.
Короленко В.Г. Записные книжки (1880 – 1900). –М.,
1935, с. 485, с553.
22. Короленко С.В. Книга об отце /Под редакцией доктора филологии
А.В.Западова http://www.uhlib.ru/istorija/kniga_ob_otce/p1.php
23.
http://ibirzha.kz/mnogo-zdes-takogo-chego-net-nigde-bolee/
Уральские страницы в творчестве Короленко
С уральской землей и с уральскими казаками связано множество имен русских писателей и поэтов XX века. Как и в XIX столетии картины уральской жизни занимают в русской литературе очень заметное место. Немало известных писателей, этнографов, путешественников посвятили страницы своих книг описанию жизни уральцев, но так проникновенно, ярко, поэтично, с глубоким осмыслением всего увиденного и услышанного здесь, на берегах Урала и степных просторах, не писал никто. Устное народное творчество, бытовые реалии, подмеченные наблюдательным взглядом писателя, шутливая ирония, а порой трагический лиризм авторских отступлений — все это придает очеркам Короленко особую историческую масштабность и неповторимое художественное своеобразие, по своему содержанию выходящим далеко за рамки очерковых, чисто этнографических зарисовок.
В этом году исполняется 119 лет со времени приезда в Уральск известного русского писателя В.Г.Короленко. Его поездка в Приуралье была непосредственно связана с конкретной творческой задачей: найти новые материалы для задуманного исторического романа о Пугачеве, условно названного им «Набеглый царь». Почти три месяца провел он в нашем крае, и хотя роман о Пугачеве так и не был им написан, но творческим результатом его пребывания здесь явились замечательные очерки «У казаков», одно из лучших произведений русской литературы, посвященных истории, культуре и быту народа Приуралья.
Пролистаем страницы произведений Короленко, прикоснемся к истории, вспомним как это было… И помогут нам в этом произведения великого автора.
Свое пребывание в Уральске, путешествия по казачьим станицам, впечатления, легенды о Пугачеве Короленко описал в очерках «У казаков».
«Ранним июньским утром 1900 года, с билетом прямого сообщения Петербург — Уральск я приехал в Саратов […] Дует теплый ветер, плещется на отмели речная струя от проехавшего парохода […] Наконец — звонок, и наш поезд ползет по низкой насыпи с узкой колеёй, на этот раз с очевидным намерением пуститься в путь. Степь тихо развертывает перед нами свои дремотные красоты. Спокойная нега, тихое раздумье, лень… Я с любопытством вглядывался в эту однообразную ширь, стараясь уловить особенности «вольной степи» […] Нигде, быть может, проблема богатства и бедности не ставилась так резко и так остро, как в этих степях, где бедность и богатство не раз подымались друг на друга «вооруженной рукой». И нигде она не сохранилась в таких застывших, неизменных формах. Но степь темна и молчалива. Поезд несется среди однообразного, заснувшего простора…» [1]
А пока В.Г.Короленко едет по бескрайним степям, давайте поговорим о писателе.
В.Г.Короленко родился 15 июля 1853 года в Житомире. Русский писатель, журналист, публицист, общественный деятель заслуживший признание своей правозащитной деятельностью, как в годы царской власти, так и в период Гражданской войны и советской власти. Короленко был связан с революционным движением, за что неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Значительная часть литературных произведений писателя навеяна впечатлениями о проведённом на юге России, детстве и ссылкой в Сибирь.
В.Г.Короленко.
«Около двух часов дня вправо от железной дороги замелькали здания Уральска, и, проехав мимо казачьего лагеря, поезд тихо подполз к уральскому вокзалу, конечному пункту этой степной дороги»[1]
Вокзал Рязано – Уральской железной дороги.
Эта поездка была связана с давним увлечением писателя историей России. Прошлое России нашло отражение во многих публицистических и художественных произведения писателя:
«У казаков»
«К истории отживших учреждений»
«Божий городок»,
«Художник Алымов»,
«Пугачевская легенда на Урале»,
материалы к роману «Набеглый царь»,
«История моего современника» и др.
Газета «Уралец» сообщала: «В настоящее время в Уральске (в саду Шелудякова) гостит В.Г. Короленко с семьей. В.Г. Короленко избрал окрестности Уральска для летнего отдыха». В Уральске он жил на даче художника Каменского в том самом маленьком домике, о котором писал, и отсюда совершал поездки по хуторам и станицам. [5]
«Мы поселились близ Уральска на даче М. Ф. Каменского. 21 мая 1900 года отец писал Ф. Д. Батюшкову: {49} «Здесь — мы в садах. В трех саженях от балкона нашей хибарки — река Деркул, в которой я уже купался раза три. За речкой (чудесная речонка, в плоских зеленых берегах, с белесым ивняком, склоняющимся к воде!) -тоже луга и сады, с колесами водокачек и желобами для орошения. Тепло, даже, вернее, жарко, тихо, уютно. На всех нас первый день нашего пребывания произвел отличное впечатление. А для меня вдобавок среди тишины этих садов и лугов бродит еще загадочная тень, в которую хочется вглядеться. Удастся ли,- не знаю…»[7]
Дача Каменских, где останавливался Каменских со своей семьей.
Чтобы работать в войсковом архиве, куда отец получил доступ, он уезжал с утра на велосипеде в Уральск, находившийся в семи верстах от нашего дома, и к обеду возвращался оттуда с четвертью кумыса за спиной. Эти поездки в сорокаградусную жару его не утомляли: он купался, обедал, а вечером с увлечением играл с детьми, и молодежью в гандбол на площадке близ дома Каменских.
Войсковой архив 1900 г Библиотека Х.Есенжанова 2019 г
Короленко работал в архивах, разговаривал со старыми казаками, ездил по станицам. В одном из писем он писал: «Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг справился дня в два-три. Второй том оказался содержательнее. Выписок приходится делать очень много. Зато картина встает довольно полная… Некоторые детали уже теперь просятся на бумагу почти в готовом виде… Знаю, что в историческом отношении теперь не навру, колорит времени, места передам, а в некоторых подробностях, быть может, будет кое-что новое и для историков». [7] Со страниц архивных материалов перед ним проходили образы сторонников и противников Пугачева, и он настолько погрузился в атмосферу того времени, что ему казалось, он живет «со всеми этими людьми».
|
«Прочитал и сделал выписки из 8 огромных архивных дел (по 500-600 страниц) и побывал в нескольких «пугачевских местах», в том числе совершил одну поездку по верхней линии до Илека, шатался по хуторам, был в киргизской степи; недавно еще, не без некоторого, признаться, волнения, стоял на той самой пяди земли, где был знаменитый «умет» (на Таловой). Как вся русская история, — умет был сделан из весьма непрочных материалов. Впрочем, в начале еще этого столетия его развалины одиноко стояли, размываемые дождями, на самом берегу речки. Теперь там — целый поселок, и я снял его строения (не то что пугачевского, а прямо скифского стиля), снял умет в степи, снял внутренность {50} такого умета (посмотреть, так и не разберешь, что это такое. Так и в натуре!). Одним словом, оглядываясь назад, вижу, что и архивного и натурального материала набрал немало. Лето для моей задачи не потеряно; узнал казаков (порой тоже скифского периода!) и, главное, все мелочи, все сколько-ниб[удь] выдающиеся «происшествия» за неск[олько] лет до Пугачева, во время и после — теперь у меня как на ладонке. (Письмо Ф. Д. Батюшкову от 7 сентября 1900 г. — B кн.: Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Пб.. 1922. стр. 152-163).). [3] |
И уж тем более, он «жил» с живыми, с теми, с кем встречался и расспрашивал, собирая предания и легенды о том событии и человеке. И чем больше Короленко узнавал о Пугачеве, тем более живым представлялось ему его «лицо».
Встречи В.Г.Короленко с уральцами.
Позже он писал: «Интересно, что в то время, как «печатный», исторический Пугачев до сих пор остается человеком «без лица», Пугачев легенды – лицо живое, с чертами необыкновенно яркими и прямо-таки реальными, образ цельный, наделенный и недостатками человека, и полумифическим величием царя. Меня самого поразило это, когда я собрал воедино все эти рассказы». Короленко писал: «Сила Пугачева была в наивной и глубокой народной вере, в обаянии измечтанного страдальца-царя, познавшего на себе гонение, несущего волю страдальцу-народу». [2]
Для воссоздания «живого лица» вождя восстания, возникла настоятельная необходимость в поездке на Урал (Яик), в те места, которые были колыбелью и ареной Пугачевского движения. Короленко хотелось воочию «поглядеть на всю эту местность, где Пугачев действовал». Он, как и А.С.Пушкин в свое время ,придавал поэтическим «показаниям» уральских казаков первостепенное значение, отдавая им во многих случаях предпочтение перед печатными источниками. В Уральске писателя интересовали прежде всего исторические места, сохранившиеся от пугачевского времени.
Особое внимание привлекала старая часть города-Курени, Михайло-Архангельский и Петропавловский соборы.
Петропавловская церковь Михайло –Архангельский собор
Собирая материал для романа, Короленко встречается со стариками — хранителями пугачевского фольклора, много работает в войсковом архиве, полагая необходимым обратиться и к народной памяти — преданиям, легендам, песням. Поездка в Уральск дала Короленко конкретные представления о Пугачевском движении в области Яицкого войска и явилась стимулом для дальнейшего сбора материала к задуманному произведению: «Одним словом, — оглядываясь назад, — подчеркивал писатель, — вижу, что и архивного и натурального материала набрал немало, лето для моей задачи не потеряно: узнал много казаков (порой тоже скифского периода), и, главное, все мелочи, все сколько – нибудь выдающиеся «происшествия» за несколько лет до Пугачева, во время и после, — теперь у меня как на ладонке». [7]
Однако роман о Пугачеве остался ненаписанным. Перед нами лишь его отрывки, планы, мотивы, сцены, характеристики. И все же эти материалы дают представление о сути и широте авторского замысла. На первый план выдвигалась извечная проблема русского бунта, его причин и последствий. Уральские впечатления позволили писателю прийти к выводу: «Картины человеческой неправды и подлости, с одной стороны, неясные инстинкты дикой воли, картины разгула и разнузданности этой дико воли, с другой стороны, и среди темных разбушевавшихся сил– мечта о какой – то будущей правде, как звезда среди туч, — вот как мне рисуется основная нота моей повести». [8] Произведение первоначально, по-видимому, представлялось писателю большим историческим полотном, посвященном Крестьянской войне 1773 – 1775 годов с двумя центральными героями вождем восстания Емельяном Пугачевым и молодым офицером Василием Скаловским, воспитанным на свободолюбивых идеях Просвещения XVIII века. По замыслу писателя Скаловский должен был примкнуть к Пугачевскому восстанию. В романе, кроме событий в Яицком казачьем войска, предполагалось изобразить борьбу крестьян Поволжья, работных людей с заводов Урала, а также Петербург, двор Екатерины и ее фаворитов. Особенное место занимала фигура Григория Орлова, человека сильных, необузданных страстей, непомерного честолюбия. Причем картина столичной жизни органически связывалась с тем, что творилось на дальнем Яике. Далеко не последнее место в романе должна была занимать и любовная коллизия: Пугачев – Устинья Кузнецова. «Главный интерес, — вспоминал И.Н.Розанов о своем разговоре с Короленко, повесть («Набеглый царь» — Н.Щ.) должна была возбудить трагической участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой. Ей было семнадцать или шестнадцать лет, когда Пугачев взял ее «за красоту» себе в жены взял насильно: она его не любила; а вскоре потом Пугачев был пойман, а ее как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то очень долго морили в тюрьме».
История создания произведения «Набеглый царь»
Сопоставление произведений А.С.Пушкина и В.Г.Короленко.
«Набеглый царь» создавался с ориентацией на пушкинский роман «Капитанская дочь». Оба писателя отправлялись от исторического от исторического лица Шванвича, но«художественно переосмысливали его и трактовали различно» . Как известно, исторический Шванвич стал прототипом двух противоположных персонажей «Капитанской дочки» Гринева и Швабрина. Каждому из них приданы разные черты и свойства прототипа: в Швабрине сконцентрировалось все дурное, отрицательно, в Гриневе воплощены положительные качества. О пристальном интересе Короленко к Шванвичу свидетельствует и специальный запрос писателя в Оренбургскую ученую архивную комиссию в 1903 году: «Было бы большой услугой истории, -писал он, — если бы удалось разыскать подробности о некоторых сподвижников Пугачева. Меня лично интересует предыдущая служба Швановича, который потом предался Пугачеву, а также: зачто, собственно, был сослан содержится в Оренбурге известный Хлопушка, как его звали ранее? В Уральском войсковом архиве я нашел указание, что Шванвич служил в самом Оренбурге, года два до Пугачевщины». [16] Шванвич, по-видимому, должен был войти в роман сугубо отрицательным персонажем, то есть таким каким он представлялся писателю в известных исторических источниках и архивных документах. Его характерными чертами, по мнению Короленко, были «беспорядочность, тщеславие, самолюбие и снедающий эгоизм».Скаловский мыслился Короленко в качестве антитезы обоим героям «Капитанской дочки» — Гриневу и Швабрину. Он не корыстный предатель, как Швабрин, и не жертва исторических катаклизмов, как Гринев. Скаловский — «личность благородная и патриотическая». В сущности Скаловский с самого начала своей военной карьеры противостоит всем окружающим его офицерам, которые чужды ему своим аморализмом, в конце концов становятся врагами. В дальнейшем развитии фабулы романа расширялись связи частной судьбы героя с историческими событиями XVIII века, усложнялся его психологический облик. Вместе с тем образ Скаловского остался невоплощенным. Он не дорисован и только намечен. Но одно ясно, что он наряду с «набеглым» казачьим царем должен был оказаться в центре сюжетно-фабульных коллизий исторического повествования. Художественное воплощение личности Пугачева представляло для писателя, пожалуй, главную трудность в работе над историческим романом. «Фактически история бунта, — писал он, — с внешней стороны разработана обстоятельно и подробно, но главный его герой остается загадкой». [2] Особенно волновало Короленко тайна необыкновенных способностей Пугачева влиять на людей, удивляла «страстная любовь», которую «питал Яик к образу своего «набеглого царя», стоившего ему столько слез, горя и крови». Объяснение этому он находил в искренней вере казачества в истинность «царского» происхождения Пугачева. На основе преданий и легенд Короленко выстраивает довольно стройную, несколько романтическую, концепцию своего понимания загадочной личности Пугачева. Он приходит к твердому убеждению: «Сила Пугачева была в наивной и глубокой народной вере, в обаянии из мечтанного страдальца-царя, познавшего на себе гонение, несущего волю страдальцу-народу».[2] Эта наивная вера была настолько сильной и широко распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно увлечен гипотезой « царского» происхождения Пугачева. Некоторые реальные исторические сведения о Пугачеве (он рано был произведен в хорунжие, имел почетную саблю, называл себя «крестником Петра Великого») давали повод писателю считать Пугачева одним из многочисленных побочных детей Петра I. В семье Короленко сохранилось воспоминание, о том, что писатель в одно время искал подтверждение этой гипотезы: высчитывал возраст Пугачева, время пребывания Петра I на Дону в 1722 году, проездом, при возвращении из персидского похода. Он «с большим интересом вглядывался в различные портреты Пугачева, отыскивая в его лице черты сходства с Петром I». Однако в набросках романа эта версия не получила дальнейшего развития. «Живое лицо» Пугачева наиболее полно раскрывалось на обширном фоне казачьей вольницы. И в облике предводителя восстания, ив характере яицкого казака Короленко находил много общих, родственных черт. Возможно поэтому писатель столь тщательно и всесторонне исследует казачий характер, общий уклад жизни уральцев, их мировоззрение. архива. Короленко, касающиеся отдельных казаков-мятежников, отличаются особой скрупулезностью и полнотой изложения. Большая их часть, как уже писалось выше, еще не привлекалась исследователями. Ценность их бесспорна: они помогают понять некоторые особенности творческой манеры писателя, цели и формы использования исторических источников и устного народного творчества в художественной ткани произведений, да и сами по себе эти материалы важны как документы эпохи Пугачевского восстания. Короленко полностью копировал «Статейный список содержащимся под арестом казакам и разного звания людям, кто именно по какому делу посажен под караул, когда из оного освобождены и куда отправлены». Всего в этом списке значилось 150 человек, среди них вторая жена Пугачева Устинья, и многие известные приверженцы его из Яицких казаков. Из некоторых “дел” мы узнаем и о самом Пугачеве.
Емельян Пугачев Устинья Кузнецова
Интересно сообщение казака Алексея Сивогривого и его матери о первом появлении Пугачева в Яицком городке в конце ноября 1772года. «Под видом купца» Пугачев прожил в доме яицкого казака Дениса Пьянова целую неделю. Особый интерес представляют записи Короленко из произведений и фольклорных материалов И.И.Железнова, М.Л.Михайлова, В.Н.Витевского и др, предназначенные для романа. Фольклорные сюжеты наталкивали его на создание картин, фрагментов, ситуаций, а иногда и целых глав. Легенда “Видение” ,согласно которой приход царя-избавителя былнеизбежен. Старец Алексе – митрополит предсказывает: ”Городу Вашему придется испытать коловратности: будут и труси, и мятежи, и кровопролитные брани, и неурядицы. Станут вас нудить насчет креста и бороды, станут заводить солдатские очереди, богопротивные легионы и неполезные штаты. А в единое время появится между вас такой набеглый царь…Вот из-за него вы пострадаете много крови прольете, много примети горечи”.[24]Эта легенда стала своеобразным ключом к пониманию загадочной для Короленко личности Пугачева, а также сложной обстановки в Яицком воске накануне восстания. Не случайно и название романа “Набеглый царь” взято именно из этой легенды.
Бунт Пугачева
Из казачьих преданий для будущего романа писатель черпал колоритные описания одежды “царя”,его встреч с казаками, многочисленные доказательства истинности “царского” происхождения Пугачева. Много подобных мотивов было также в повествованиях, записанных самим Короленко на Урале. Подбирал Короленко и материалы, повествующие о женитьбе Пугачева. Как известно, сам факт женитьбы на Устинье произвел неблагоприятное впечатление на сторонников Пугачева: по их мнению, царь не мог жениться на простой казачке. Короленко обратил внимание на то, что в казачьих преданиях женитьба объясняется противоречиво. В одном предании говорится, что Пугачев сам убеждал своих сподвижников в необходимости женитьбы, в другом совершенно обратное ,в третьем — будто царица Екатерина провокационно старалась подвести его к такой женитьбе и скомпрометировать его «царское» происхождение. Зато все предания согласны в том, что именно из-за женитьбы пошли у Пугачева неудачи. Царь — странник намеренно нарушает «веленья судьбы» и женится на простой казачке, чтобы тем самым положить конец кровопролитию. Он руководствуется высшими интересами государства: «Вот идут из Питера ко мне войска и генералы; если ко мне пристанут, -тогда вся Россия загорится, дым станет столбом по всему свету. А когда женюсь на казачке, — войска ко мне пристанут, судьба моя кончится, и Россия успокоится». Главной, решающей причиной сватовства Пугачева именно к Устинье были ее обаяние и необыкновенная красота. Здесь воочию осуществила народный идеал о прекрасной царевне. Устинья сделалась «царицей» в силу личных достоинств.
Литературовед Николай Щербанов в очерке о Короленко пишет, что «эта наивная вера была настолько сильной и широко распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно увлечен гипотезой «царского» происхождения Пугачева.
Короленко, пожалуй, первый обратил внимание на трагическую историю любви вождя восстания и простой яицкой казачки, грозные события, которые начали разыгрываться на Яике осенью 1773 года, захватили в свой водоворот и юную красавицу Устинью Кузнецову. Пугачев очень любил молодую жену, относился к ней с доверием и уважением и уважением. Об этом свидетельствуют многие его распоряжения. О его заботе говорят приказания Михаилу Толкачеву «наблюдать здоровье Устиньи», Петру Кузнецову-«чтоб он чаще к дочери своей ходил». Полюбив Пугачева со всей страстью юного сердца, Устинья так же переживала за его судьбу. Их любовь, встречи, расставания были опалены огнем невиданных жестоких сражений, они встают сейчас перед нами в обрамлении многочисленных боев и пожаров.
Писатель придавал поэтическим «показаниям» уральских казаков первостепенное значение, отдавая им во многих случаях предпочтение перед печатными источниками. В Уральске писателя интересовали прежде всего исторические места, сохранившиеся от пугачевского времени.
Дом казака Кузнецова,
отца «Яицкой императрицы» Устиньи – ныне музей Пугачева в Уральске.
Работа над романом «Набеглый царь», так увлекшая писателя, оборвалась на стадии замыслов и первоначальных набросков. Причина того, что роман все же не написан, в литературе о Короленко объясняются по-разному.
Большинство исследователей считают, что работа над романом оборвалась в связи с замыслом нового большого автобиографического произведения «История моего современника». Другая точка зрения выражена Н.К.Пиксановым, который утверждал: «Романа Короленко не написал, да и не мог, очевидно, написать по особенностям своего дарования». В мемуарной литературе утверждается, что современная Короленко действительность, насыщенная бурными событиями, также отвлекала писателя от исторического повествования, требовала от него непосредственного отклика. Известно, что Короленко горячо и действенно вмешивался в жизнь своей публицистикой. Не раз бросал работу над рассказом или повестью, чтобы вовремя быть там, где нужны были его воля, его совесть, его энергия, его сердце и перо писателя — гуманиста. О стремлении писателя расширить свои представления о крестьянско-казацкой войне свидетельствуют и многочисленные вырезки, печати. Писатель, по-видимому, намеревался начать повествование с военных событий, участником которых был Пугачев. Сохранился отрывок романа, названный «Пролог». В его основе действительный факт: однажды ночью во время стычки с пруссаками Пугачев в поднявшейся суматохе упустил одну из лошадей майора Денисова, за что был жестоко избит плетьми. Желание и надежда вплотную приняться за создание романа «Набеглый царь» не покидала писателя почти до последних дней его жизни. В своих письмах, разговорах он неоднократно обращался к излюбленной теме. Обширный исторический материал, извлеченный из различных «дел» войскового архива, замечательный запас бытовых и этнографических наблюдений из жизни современного казачества легли в основу очерков Короленко «У казаков», «Пугачевская легенда на Урале» очерки были задуманы писателем еще во время поездок по казачьим станицам.
Короленко творчески осмысливает историю уральского казачества, выражает свой взгляд на его роль в освоении края. Писатель охватывает своим взглядом значительный временной отрезок- от первых поселенцев на Яике до начала XX века. Нельзя не указать в связи с этим и на очень важный источник информации об уральских казаках, который использовал Короленко во время его работы над очерками: это произведения И.И.Железнова. Короленко писал П.Ф.Анненскому 26 октября 1900 года, что очерк «Пугачевская легенда на Урале» «составляет лучшую и самую интересную главу из написанного до сих пор. Материалом для нее послужили отчасти печатные работы казака Железнова, отчасти же собранные мною от старых казаков предания и частично- войсковой архив».
В записных книжках и тетрадях Короленко сохранились многочисленные записи уральских песен, преданий, легенд, этнографических заметок, взятых из сочинений Железнова, а также из его архива, тогда хранившегося в Войсковом хозяйственном правлении. На основе биографических данных, отдельных воспоминаний, глубокого проникновения в творчество Железнова Короленко удалось запечатлеть его живой портрет как «выдающегося уральского исследователя и знатока старины».
Уральские произведения Короленко свидетельствуют о том, что писателя интересовали те же вопросы, которые когда — то волновали и Железнова. В связи с этим писатель обращается к фольклорному архиву Железнова и выписывает из его материалов предания, в которых отразились, многочисленные выступления и бунты казачества против царского правительства и его ставленников: «Туча каменная», «Кочкин пир», «Об уходцах», «Начало волнения» и др.
Для воссоздания далекого прошлого и правдивого изображения современной жизни Урала, казачьих типов Короленко широко использует народные песни.
Очерк «У казаков» как отражение жизни уральского казачества.
В произведении «У казаков» отдавая должное героическому прошлому войска, мужеству и вольнолюбию казаков, Короленко не идеализирует казачью общину. Он понимает, что многое ушло в прошлое и никогда не возродится, ибо жизнь диктует свои новые законы и требования, они становятся жизненной реальностью, с которой необходимо считаться казакам. Проследив судьбу казачества на Урале, Короленко пришел к выводу об исторически неизбежном отмирании общинного казачьего строя жизни. На это в газете «Уралец» ему дают резкую отповедь, что, мол, нечего судить о таком мудреном деле, как община «с легкомысленностью заезжего туриста».
Оригинальная композиция очерков. Первая глава — своеобразная увертюра к истории казачьего войска. Широкая уральская степь, могучая и загадочная, манит спутников в свои дали: «Тут на вас надвигается, охватывает, баюкает вас широкое степное раздолье, ровное, молчаливое, дремотное…»; «Полная луна выкатывается над темным горизонтом и точно старается рассмотреть в степи что-то и что-то обдумать…[5]»
Вторая глава очерков названа «На учуге». «Учуг» на реке Урал — это главная достопримечательность жизни Пугачевского бунта. Короленко начинает с описания традиций, бытового уклада, связанного с исконным занятием казаков — рыболовством. Писатель подчеркивает: «Здесь, на месте столкновения свободной реки с железной решеткой — центральное место Урала, настоящая душа его, один из главных ключей к его жизни».
Рыбная ловля казаков.
Следующие главы знакомят читателей с историей пугачевского бунта, с легендами о Пугачеве, рисуют картины бунта уральского казачества против центральной власти, воссоздают путешествия казаков в поисках Беловодского царства, показывают отдельные казачьи характеры.
С каждой главой углубляется представление читателя о неповторимой, оригинальной жизни казачества с его особым общественным укладом, создавшим своеобразный социально- психологический тип казака с его вольнолюбием, приверженностью «старой вере», ненавистью к дисциплине- «регулярству», смекалкой, мужеством.
В очерках ярко проявились неповторимые индивидуальные черты Короленко-художника: резкая очередность характеров, удивительно мягкий лиризм, мастерство пейзажиста, точный, гибкий, музыкальный язык, задушевность интонаций, сердечное доверие к читателю. Все это делает очерки «У казаков» одним из замечательных произведений Короленко в этом жанре.
Над очерком «У казаков» Короленко работал около года, можно предположить, что к сентябрю 1901 года они в основном были написаны. Однако над некоторыми работа продолжалась вплоть до декабря. Чехов назвал очерки «У казаков» «чудесной вещью».
Что касается «Пугачевской легенды на Урале», то она была написана еще осенью 1900 года и по первоначальному плану должна была идти четвертой главой очерков «У казаков». Позднее этот план был изменен, и, когда очерки были уже сданы в печать, набраны и даже сверстаны, Короленко изъял из них «Легенду», вероятно предполагая использовать содержание ее в романе «Набеглый царь». При всей самостоятельности очерков совершенно очевидна их связь с романом о Пугачеве. Очерки — это как бы эскиз к будущему историческому повествованию. Не потому ли в них чуть ли не на каждой странице незримо присутствует «тень Пугачева». Многие страницы очерков перекликаются с написанными фрагментами романа «Набеглый царь».
Описание природы нашего края
Короленко не только работает, но и бывает на Утюжном затоне среди казаков, прогуливается по Ханской роще, посещает станицы и везде обращает внимание на природу. Он восхищается то могучим и бурным Уралом, то подчеркивает умиротворенность и тишину природы. Все это находит отражение в его произведениях.
Великолепны описания Короленко степных просторов, курганов, извилистых тихих речушек, закатов. Речку Ембулатовку он называет «хорошенькой», а Урал – символом казачьей вольницы
«Дикий Яик, девственный и вольный, пока свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и баюкает залегающие в омутах «ятови». Казаки уверены, что это навсегда…»
Река Урал
«Река, вспененная крепкой волной, мчалась в крутых берегах, шумя и прыгая, как дикий степной скакун. Перед нами с одного берега до другого лежал неширокий дощатый помост на сваях. Вдоль этой настилки с левой стороны виднелась частая щетина тонких железных шестов. Эти шесты, проходя через два горизонтальных бревна, образуют вместе с ними частую решетку, доходящую до дна. Это «кошак», через который может проходить лишь мелкая рыба. На обоих концах помоста возвышаются деревянные решетчатые сооружения с дверьми. Над дверьми надпись: «Вход на учуг посторонним строго воспрещается». … Яик, дикий, красивый, несся на просторе, срывая глинистые яры, и, шипя и клокоча, кидался на неожиданную преграду. Во всей картине чувствовалась дикая прелесть, своеобразная и значительная. Здесь, на месте столкновения свободной реки с железной решеткой – центральное место Урала, настоящая душа его, один из главных ключей к его жизни…»[15]
Ханская роща
Уральское лето 1900 года — яркая страница биографии в творчестве Короленко. «Каждый раз, как приходит лето, — писал он в 1908 году М.Е.Верушкину, — мне вспоминается Уральск, сады, фермы и хочется перемолвиться с вами, вспомнить наше путешествие по степям и станицам. Хорошее было лето». [3]
«На Урале знаменитые люди бессмертны, – писал Владимир Короленко в своем очерке «У казаков» после путешествия в наши края. – Не умер в свое время Петр III, не казнили Пугачева и Чику, Елизавета Петровна после своей смерти очутилась неведомыми судьбами в пещере на Уральском сырту, император Николай I тоже «ходил» и являлся казакам…»
Мы тоже считаем, что Пушкин остался у нас навсегда, как и Даль, Жуковский, Толстой, а также и сам Короленко. И, возможно, там, где жил он в «маленьком домике на берегу тихой речки Деркул», до сих пор витает дух писателя, восторгавшегося местными красотами и удивлявшегося местным порядкам.
Андрей Щербанов (сын), Людмила Ивановна Щербанова
рассказывают о писателе.
Выражаем особую благодарность семье известного краеведа Щербанова Н.М., которые предоставили материалы архива ученого для работы по теме.
Литература
-
Материалы архива Евстратова Н.Г. «В.Г.Короленко в Приуралье».
Евстратов Н.Г. Русские писатели в Казахстане. – Алма – Ата. 1979. – с 137.
-
Материалы архива Н.М. Щербанова.
-
Верушин М.Е. В.Г.Короленко на Урале// «Уралец». – Уральск. 1903, №77
-
Горнфельд А.А В.Г.Короленко в его записных книжках. – В.Г.Короленко. Записные книжки (1880-1900). – М., 1935. – с. 16;
-
Короленко В. Г. Полное собрание сочинений. Посмертное издание. Т. XX. Очерки и рассказы. Госиздат Украины, 1923, стр. 39-43
-
Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Под ред. Б. Л. Модзалевского. Пб., «Время», 1922, стр. 145.
-
Письмо Ф. Д. Батюшкову от 7 сентября 1900 г. — B кн.: Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Пб.. 1922. стр. 152-163
-
Короленко В. Г. Полное собрание сочинений. Посмертное издание. Т. XX. Очерки и рассказы. Госиздат Украины, 1923, стр. 39-43
-
Короленко В.Г Пугачевская легенда на Урале. – В.Г.Короленко. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. – Т. 8, с. 432
-
Короленко В.Г. Записные книжки (1880 – 1900), — с. 479-480
-
Короленко В.Г. Пугачевская легенда на Урале, с. 432
-
Короленко В.Г. Пугачевская легенда на Урале, с.433.
-
Короленко В.Г. Избранные письма в 3-х томах. – М., 1932. – Т. 1. –с. 165.
-
Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. — Т. 10. –с. 319.
-
Короленко В.Г. Избранные письма в 3-х томах. – М., 1932. –Т. 1. –с. 178.
-
Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. – Т. 10. –с. 303, 305.
-
Короленко В.Г. Письма (1888 — 1921). –Пг, 1922. –с. 185, с.196.
-
Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах . – М., 1955. — Т. 8. –с. 440-441
-
Короленко В.Г. Письма (1888 — 1921). –Пг, 1922. –с. 185.
-
Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. – Т. 10. – с. 303.
-
Короленко В.Г. Записные книжки (1880 – 1900). –М., 1935, с. 485, с553.
-
Короленко С.В. Книга об отце /Под редакцией доктора филологии А.В.Западова http://www.uhlib.ru/istorija/kniga_ob_otce/p1.php
-
http://ibirzha.kz/mnogo-zdes-takogo-chego-net-nigde-bolee/
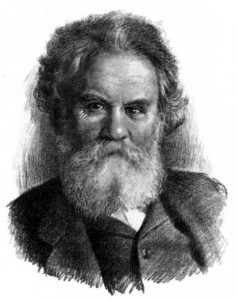
«На Урале знаменитые люди бессмертны, – писал Владимир Короленко в своем очерке «У казаков» после путешествия в наши края. – Не умер в свое время Петр III, не казнили Пугачева и Чику, Елизавета Петровна после своей смерти очутилась неведомыми судьбами в пещере на Уральском сырту, император Николай I тоже «ходил» и являлся казакам…»
Мы тоже считаем, что Пушкин остался у нас навсегда, как и Даль, Жуковский, Толстой, а также и сам Короленко. И, возможно, там, где жил он в «маленьком домике на берегу тихой речки Деркул», до сих пор витает дух писателя, восторгавшегося местными красотами и удивлявшегося местным порядкам.
Загадочная тень
Короленко приехал на Урал в 1900 году. Газета «Уралец» сообщала: «В настоящее время в Уральске (в саду Шелудякова) гостит В.Г. Короленко с семьей. В.Г. Короленко избрал окрестности Уральска для летнего отдыха». В Уральске он жил на даче художника Каменского в том самом маленьком домике, о котором писал, и отсюда совершал поездки по хуторам и станицам. Писатель вынашивал идею написать роман о Пугачеве и решил пойти тем же путем, что Пушкин. Но пробыл он здесь много дольше поэта, надеясь «собрать в одно целое еще не вполне угасшие старинные предания, найти живые черты, всколыхнувшие на Яике первую волну крупного народного движения… »
В одном из писем с дачи он писал: «Среди тишины этих садов и лугов бродит загадочная тень, в которую хочется вглядеться. Удастся ли – не знаю».
«Загадочная тень» – это личность Пугачева. Долгое время он представлялся писателю «человеком без лица». Он хотел создать его «живое» лицо. А где еще можно было сделать это, как не на Урале, где еще живы были воспоминания о нем и тех событиях, которые потрясли всю империю. Короленко так обозначил цель своей поездки: «Попытаться собрать еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может, найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на Яике первую волну крупного народного движения».
Короленко работал в архивах, разговаривал со старыми казаками, ездил по станицам. В одном из писем он писал: «Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг справился дня в два-три. Второй том оказался содержательнее. Выписок приходится делать очень много. Зато картина встает довольно полная… Некоторые детали уже теперь просятся на бумагу почти в готовом виде… Знаю, что в историческом отношении теперь не навру, колорит времени, места передам, а в некоторых подробностях, быть может, будет кое-что новое и для историков». Со страниц архивных материалов перед ним проходили образы сторонников и противников Пугачева, и он настолько погрузился в атмосферу того времени, что ему казалось, он живет «со всеми этими людьми».
И уж тем более, он «жил» с живыми, с теми, с кем встречался и расспрашивал, собирая предания и легенды о том событии и человеке. И чем больше Короленко узнавал о Пугачеве, тем более живым представлялось ему его «лицо».

Литературовед Николай Щербанов в очерке о Короленко пишет, что «эта наивная вера была настолько сильной и широко распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно увлечен гипотезой «царского» происхождения Пугачева.
«Некоторые реальные исторические сведения о Пугачеве (он рано был произведен в хорунжие, имел почетную саблю, называл себя «крестником Петра Великого») давали повод писателю считать Пугачева одним из многочисленных побочных детей Петра Первого. В семье Короленко сохранилось воспоминание о том, что писатель в одно время искал подтверждение этой гипотезы: высчитывал возраст Пугачева, время пребывания Петра I на Дону в 1722 году, проездом, при возвращении из персидского похода. Он «с большим интересом вглядывался в различные портреты Пугачева, отыскивая в его лице черты сходства с Петром I».
Но роман, озаглавленный Короленко «Набеглый царь», так и не будет написан, останутся лишь его наброски и серия очерков «У казаков».
Учуг – войсковая служба у рыбы
Очерки «У казаков» были опубликованы в журнале «Русское богатство» в 1901 году. Это был как бы набросок к будущему историческому повествованию.
«Много здесь очень своеобразного, самобытного, такого, чего нет нигде более. Народ очень интересный», – писал он в письме к матери.
Писатель называет казачий уклад жизни «величайшей земельной и рыбацкой общиной». Его многое поражает и восхищает. «Походы на рыбу всем войском содействуют в высшей степени сохранению на Урале казачьего быта и типа. Войско в это время чувствует свое единство». Вот как образно описывает он местную достопримечательность – учуг.
«Река, вспененная крепкой волной, мчалась в крутых берегах, шумя и прыгая, как дикий степной скакун. Перед нами с одного берега до другого лежал неширокий дощатый помост на сваях. Вдоль этой настилки с левой стороны виднелась частая щетина тонких железных шестов. Эти шесты, проходя через два горизонтальных бревна, образуют вместе с ними частую решетку, доходящую до дна. Это «кошак», через который может проходить лишь мелкая рыба. На обоих концах помоста возвышаются деревянные решетчатые сооружения с дверьми. Над дверьми надпись: «Вход на учуг посторонним строго воспрещается». … Яик, дикий, красивый, несся на просторе, срывая глинистые яры, и, шипя и клокоча, кидался на неожиданную преграду. Во всей картине чувствовалась дикая прелесть, своеобразная и значительная. Здесь, на месте столкновения свободной реки с железной решеткой – центральное место Урала, настоящая душа его, один из главных ключей к его жизни…»
Караульный казак делится с ним «новостями мутной глубины, в которой читает, как в открытой книге». «Это не мужик и не солдат, это именно казак. Рыбак, стоящий по-военному на карауле у реки, военный, справляющий войсковую службу у рыбы», – писатель в то же время отмечает непринужденность, с какой этот казак ведет беседу с ним, офицером.
Тут даже сазаны «жилые»
Его восхищает трепетное отношение казаков к реке: не просто, как к кормильцу, «золотому донышку», а как к живому существу, требующему покоя и уважения за свой труд. Ни за что не хотят казаки допустить пароходства на Урале, мол, распугают пароходы всю рыбу, а у них даже сазаны здесь свои, «жилые». Он приводит такой разговор с одним из казаков:
– Как это можно, – говорил мне с убеждением казак из одной приуральской верховой станицы. – Вон у меня под яром сазан держится. Вот какой сазан… агромадный! Так ведь он у меня жилой. Тут и зимует, тут и летом живет…
– Ну, так что же?
– Как что? Пароход его должен испугать. Он, значит, подастся в море. Конечно!
Казаки уверены, что жилой сазан во веки веков не пустит в реку парохода.., – с долей иронии говорит писатель.
В другой раз хотел Короленко искупаться (дело было в районе Меловых горок). Из сторожки вышел старый казак – караульный пикетчик. Такие пикеты были расставлены до самого моря, они следили за движением рыбы. Пикетчик знал речную глубину, и кто из речных обитателей изволил уже прибыть из моря, а кто еще только собирается. И тут Короленко допустил ошибку: он хотел искупаться в Урале.
«В глазах пикетчика мелькнуло выражение неподдельного испуга:
– Что вы это, Бог с вами… Как можно в реке купаться? Да тут след ваш на песке увидят, – я обязан объяснить, кто и для какой надобности подходил к берегу… А вы – купаться!
Он с искренним недоумением смотрел на человека, который мог сказать такую несообразность. Мой спутник, природный казак, объяснил, улыбаясь, что я приезжий и местных порядков не знаю».
Казачью общину Короленко называет «случайно сохранившимся обломком прошлого» и предвещает неизбежное отмирание общинного строя, что вызвало резкое неприятие его очерков у самих уральцев.
В газете «Уралец» ему дают резкую отповедь, что, мол, нечего судить о таком мудреном деле, как община «с легкомысленностью заезжего туриста».
Великолепны описания Короленко степных просторов, курганов, извилистых тихих речушек, закатов. Речку Ембулатовку (ту, которую недавно загадили) он называет «хорошенькой», а Урал – символом казачьей вольницы.
«Дикий Яик, девственный и вольный, пока свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и баюкает залегающие в омутах «ятови». Казаки уверены, что это навсегда…»
Чехов назвал очерки «У казаков» «чудесной вещью». А сам Короленко еще долго находился под впечатлением от своей поездки.
«Каждый раз, как приходит лето, мне вспоминается Уральск, сады, фермы и хочется… вспомнить наше путешествие по степям и станицам. Хорошее это было лето», – писал он своему уральскому другу Верушкину в 1908 году.
Фольклор уральских казаков в творчестве В.Г. Короленко тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.01.01, кандидат филологических наук Фолимонов, Сергей Станиславович
- Специальность ВАК РФ10.01.01
- Количество страниц 232
- Скачать автореферат
- Читать автореферат
Оглавление диссертации кандидат филологических наук Фолимонов, Сергей Станиславович
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Уральская тема в творчестве В.Г. Короленко рубежа XIX-XX вв.
ГЛАВА 2. Функции фольклорных жанров, образов и мотивов в уральских очерках писателя.
Уральская казачья песня.
Предания.
Социально-утопические легенды.
Слухи и толки.
Народное красноречие.
ГЛАВА 3. Изобразительно-выразительные средства и приемы народной поэзии Приуралья в поэтике очерков «У казаков».
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Русская литература», 10.01.01 шифр ВАК
-
Фольклорные традиции в творчестве В.И. Даля2003 год, кандидат филологических наук Опря, Оксана Викторовна
-
Фольклоризм «Уральских рассказов» Д.Н. Мамина-Сибиряка2005 год, кандидат филологических наук Коноплёва, Оксана Сергеевна
-
Инонациональное в русской литературе и публицистике XIX века: проблематика и поэтика2013 год, доктор филологических наук Сарбаш, Людмила Николаевна
-
Несказочная проза горнозаводского Башкортостана и Южного Урала1998 год, доктор филологических наук Ахметшин, Борис Гайсеевич
-
Константы фольклорного сознания в устной народной прозе Урала: ХХ-ХХI вв.2010 год, доктор филологических наук Голованов, Игорь Анатольевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Фольклор уральских казаков в творчестве В.Г. Короленко»
В последнее десятилетие одной из приоритетных задач российского литературоведения стало принципиально новое, глубокое и объективное прочтение классического литературного наследия, свободное от заидеологизированности и опирающееся на современные достижения филологической науки. В этой связи особый интерес представляет творчество В.Г. Короленко.
Среди крупнейших русских писателей-классиков последней трети XIX -начала XX века, внесших вклад в познание русского национального своеобразия, имя В.Г. Короленко выделяется особо, несмотря на соседство великих современников, стяжавших всемирную славу. Созданная им художественная вселенная огромна и уникальна, поскольку включает в себя бытие необъятной многонациональной страны, являясь по существу летописью духовной истории народа. Ответственная роль Летописца и Просветителя стала возможной для него в силу личной скромности и интеллигентности и в то же время неподкупной честности и непреклонности в борьбе с любой несправедливостью. Современники в один голос провозгласили Владимира Галактионовича «нравственным гением», «праведником», «без которого не стоит здание литературы и общественности».1 Образ Короленко примирял даже литературных соперников: Максим Горький назвал своего учителя и наставника «идеальным образом русского писателя»,2 а в отзыве резковатого и скептичного Ивана Бунина нашлись теплые, сердечные эпитеты в адрес собрата по перу.3
Интерес к творчеству прозаика со стороны отечественного литературоведения отчетливо обозначился еще при его жизни и, с периодами некоторого спада и усиления, продолжает существовать до сих пор. За эти годы появилась целая плеяда известных короленковедов: А.Б. Дерман, Ф.Д. Батюшков, Н.Д. Шаховская, Т.А. Богданович, Я.Е.Донской , Г.А. Бялый , Н.М. Фортунатов и др. Но при всем тематическом многообразии работ остается немало открытых вопросов и неисследованных аспектов. Внимательному и вдумчивому прочтению короленковского наследия препятствовали тенденциозные методологические предпосылки, прочно закрепившие в сознании литературоведов и фольклористов образ писателя-революционера, народника, ограниченного кругом насущных социальных проблем. Этим объясняется и тот факт, что в девяностые годы прошлого века творчество В.Г. Короленко выпало из ряда актуальнейших литературоведческих проблем как якобы широко и всесторонне изученное, что глубоко ошибочно.
Данное исследование посвящено одному из наименее освещенных периодов творчества писателя (его временные рамки охватывают конец XIX- начало XX века), когда в связи с поисками материалов о Крестьянской войне 1773-1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева, необходимых для задуманного исторического романа, он обращается к фольклору, истории и культуре уральских казаков.
Объектом изучения стала проблема использования идейных и изобразительно-выразительных богатств устного казачьего творчества Приуралья в художественной системе В.Г. Короленко.
Материалом исследования послужили очерки «У казаков» и «Пугачевская легенда на Урале», а также черновые наброски к незаконченному роману «Набеглый царь».
Предметом исследовательского интереса являются фольклорные жанры, околофольклорные явления, элементы духовной и бытовой казачьей культуры, нашедшие место в уральских очерках.
Актуальность нашего исследования определяется в первую очередь недостаточной изученностью проблемы «Короленко и фольклор уральских казаков». Работы, посвященные «уральскому» периоду, носят, как правило, краеведческий характер, либо содержат ряд общих замечаний, определяющих его место в литературном наследии прозаика. При этом учеными до сих пор не дана объективная оценка идейно-эстетических достоинств очерков о Приуралье, в то время как, по признанию выдающихся современников писателя, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, они являются лучшими страницами его очерковой прозы.4 Причину следует искать в негативном отношении советского государства к казачеству вообще и в особенности к уральскому, в котором резче других проявились оппозиционные настроения и упорное противостояние официальной власти.
К тому же произведения о быте, культуре и истории провинциального города стереотипно относились учеными к разряду литературы «местного значения», что в данном случае не соответствует истине.
В действительности уральская тема довольно мощно прозвучала в русской литературе благодаря обращению к ней выдающихся художников слова -А.С.Пушкина, В.И.Даля, Л.Н.Толстого, и на протяжении двух столетий приковывала к себе внимание поэтов и писателей. По установившейся традиции она освещалась в двух аспектах: «пугачевском» (историческом) и этнографическом. Однако для Короленко разыскания редких источников, проливающих свет на истоки пугачевщины, явились прологом к широкому художественному изучению культурных особенностей, социального устройства, яркой и самобытной народной поэзии приурального края.
Актуальность данного исследования и вместе с тем сложность стоящей перед нами задачи заключается еще и в том, что сам уральский фольклор почти не изучен, хотя он привлекал внимание известных этнографов, фольклористов, писателей и воспринимался как неотъемлемая часть общерусской народной культуры. Подтверждением тому служат публикации М.И. Иванина, М. Михайлова, П.И. Небольсина и др. Благодаря им произведения устного казачьего творчества с середины XIX столетия проникают на страницы таких авторитетных журналов, как «Маяк», «Морской сборник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Москвитянин».5 Широкий резонанс вызывали и сборники местных собирателей, выходившие в Петербурге и Москве. Так, в рецензии на книгу И.И. Железнова «Уральцы. Очерки быта уральских казаков», увидевшую свет в 1859 году, H.A. Добролюбов писал, что она имеет «двойной интерес: статистико-этнографический и исторический».6 Такой же подход прослеживается и у многих современных ученых. Б.Н. Путилов, к примеру, считает: «Проблемы истории казачьего фольклора было бы неверно и ограниченно трактовать в плане областническом». В самом деле, уральский фольклор вобрал в себя лучшее из созданного поэтическим гением народа и адаптировал в местных условиях полиэтничности, порожденных соседством Европы и Азии. Поэтому в фольклорной картине мира уральских казаков мы найдем удивительно органичное, а порой причудливое сочетание европейского и восточного менталитета. В.Г.Короленко обратил на это особое внимание при воссоздании «уральской версии» русского национального характера и отметил в качестве специфически местной черты атмосферу свободы духовных поисков, царившую на Урале и не утратившую своей силы, даже под натиском цивилизации. Восстанавливая сложный процесс эволюции общинного сознания и трансформации казачьего характера, происходивший под воздействием исторических событий, писатель исходил из собственных наблюдений над фольклором, возникшим на Урале в разные годы. Это делает необходимым использование в нашей работе устно-поэтических текстов, включенных в широко известные собрания уральского фольклора XIX века (И.И.Железнова8, Н.Г.Мякушина9, A.B. и В.Ф.Железновых10), а также в современные издания.11
Наконец, анализ фольклоризма очерков «У казаков» и «Пугачевская легенда на Урале» позволяет сделать обобщающие выводы об использовании писателем устной народной поэзии в целом, без чего невозможно сформулировать концепцию индивидуального творческого метода, увидеть за «типовой общностью» «яркую
19 самобытность в обращении . к фольклору» , определить вклад В.Г.Короленко в развитие русской реалистической прозы конца XIX — начала XX века.
Целью работы является определение роли и места фольклорных жанров и элементов народной культуры в структуре художественного повествования очерков В.Г. Короленко «У казаков» и «Пугачевская легенда на Урале».
В ходе научного исследования выдвинута следующая гипотеза: использование В.Г. Короленко фольклора уральских казаков несет на себе печать высочайшего мастерства и играет ведущую роль в формировании индивидуального авторского стиля очеркиста.
В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования:
— выявить причины обращения писателя к народной культуре Приуралья, специфику его собирательской деятельности и способы художественной обработки материала.
— Проследить историю создания очерков и их судьбу в русской критике и истории литературы, установить место данного произведения в творческом наследии В.Г. Короленко.
— Определить функции следующих фольклорных жанров, околофольклорных явлений и этнографических элементов в художественной системе очерков: исторические и лирические песни, предания и легенды, устные рассказы, слухи и толки, народное красноречие, а также особенности бытового и социального жизнеустройства уральских казаков, их обычаев и традиций, что является важным источником для понимания народного казачьего характера и менталитета.
-Рассмотреть идейную, композиционную и художественную роль пейзажа в очерках «У казаков», соотнести средства и приемы народной поэзии с его поэтикой.
Методологической базой решения поставленной проблемы явились труды по фольклористике и литературоведению П.С.Выходцева, Н.И.Савушкиной, Д.Н.Медриша, Т.М. Акимовой, В.К. Архангельской, С.ГЛазутина, А.А.Горелова, Л.И. Емельянова, В.Я. Проппа, Б.Н. Путилова, Г.А. Бялого и других ученых, а также сборники «Русская литература и фольклор», подготовленные Пушкинским домом.
Рассмотрим основные общетеоретические аспекты, определяющие современную методологию исследований фолыслоризма художественного произведения.
История культурных и творческих взаимодействий литературы и фольклора носит довольно сложный характер и до сих пор является далеко не полностью изученной сферой как фольклористики, так и литературоведения, «.подавляющее большинство исследований,- писал в связи с этим П.С. Выходцев,- ограничивается, как правило, изучением лишь отдельных фольклорных элементов в творчестве того или иного писателя., установлением фактов «перекличек» в произведениях народного творчества и того или иного художника-профессионала и т.п. Наиболее же сложные и важные вопросы в изучении роли устной народной поэзии оказались мало или вовсе неосвещенными».13 Хотя в дальнейшем и предпринимались попытки подобного рода исследований,14 они не дали целостного и исчерпывающего представления о данном предмете. Большинство ученых советского периода в качестве методологических предпосылок использовали работы В.И.Ленина, а также классиков революционно-демократической критической мысли России, что излишне «политизировало» теорию, ограничивало возможности «прочтения» художественного текста. Тем не менее, именно советские литературоведческая и фольклористическая школы разработали основные принципы в исследовании фольклорно-литературных и литературно-фольклорных взаимовлияний, пришли к осознанию значимости и масштабности данной проблемы. Н.И. Савушкина, например, справедливо выделяет ее в «целое исследовательское направление».15 Это обусловлено, по мнению Т.А. Новичковой, «общей тенденцией» «рассматривать любые проявления творческих возможностей человека в контексте его духовной культуры в целом».16 Статус направления требует особенно тщательной разработки методологического аспекта, что нашло свое отражение в многочисленных теоретических трудах, начавших появляться еще в 70-80-е гт. прошлого века. Однако в вопросах методологии среди фольклористов и литературоведов нет единства. Так, Д.Н.Медриш выдвигает в качестве основного метода сравнительно-типологический или системно-типологический, довольно уязвимый с точки зрения других исследователей.17 Нельзя, к примеру, не согласиться с С.Г.Лазутиным, что в некоторых конкретных случаях такая система дает сбой.18 Но, думается, не менее уязвим и предлагаемый ученым-оппонентом сравнительно-генетический метод, если оперировать им произвольно. Интересна, на наш взгляд, идея С.Г.Лазутина об отслеживании судьбы фольклорного произведения в новой художественной среде, «литературной иносистеме».19 Однако этот метод ближе фольклористическому анализу, так как концентрирует все внимание на фольклорном тексте.
Наиболее системно и исчерпывающе круг первоочередных вопросов, связанных с разрешением данной проблемы при исследовании творчества конкретного писателя или поэта, сформулировал Д.Н.Медриш.20 Поставленные ученым вопросы представляют собой этапы исследовательского процесса. Они охватывают как специфические моменты литературно-фольклорных связей (жанры, сюжетные элементы, мотивы, поэтический язык), так и аспекты внелитературного характера (биографический, исторический и др.).
Такой же широкий и многоаспектный взгляд на проблему «литература и фольклор» отмечается и в работах других ученых. Н.И.Савушкина в качестве первоочередной задачи выдвигает «.изучение конкретных, исторически и эстетически детерминированных форм обращения литературы к фольклору, изучение закономерностей и типов фольклоризма». А С.Г.Лазутин указывает как на положительную черту на синтез историко-литературного и фольклористического анализа,22 первым опытом которого стали сборники «Русская литература и фольклор», подготовленные Пушкинским домом.23 Расширяется и само понятие фольклоризма до «явления этнокультурного или социально-этнографического».24 В свете этого приобретает особенно важное значение идея Д.Н.Медриша, согласно которой литература и фольклор рассматриваются как словесное искусство в целом — «поэтическая метасистема». При таком подходе задействуется вся совокупность описанных выше проблем и аспектов в рамках системного анализа, подразумевающего рассмотрение жанрово-стжевого единства в целом. Это позволяет представить себе произведение как систему в ее динамике, ощутить «пульсацию взаимосвязей и взаимодействий, вне которой нельзя понять .природу каждого из слагаемых системы». Наконец, «природа самого таланта», определяющая «оригинальность метода художника», выявляется наиболее полно.27
Сложный комплексный подход к изучению фольклорно-литературных связей, принятый в современной науке, требует применения разнообразных методов научного исследования. В процессе анализа проблемы «Короленко и фольклор уральских казаков» мы использовали теоретический, исторический, биографический, сравнительно-типологический методы, что позволило рассмотреть ее всесторонне, установить связь фольклорных заимствований с авторским замыслом, проследить развитие важнейших образов и мотивов, трансформацию средств и приемов устной поэзии в повествовательной структуре путевого очерка.
Научная новизна диссертации состоит в том, что прослежены и охарактеризованы взаимосвязи фольклора уральских казаков с творчеством В.Г.Короленко, установлена их роль в определении художественных достоинств уральских произведений. Сделана попытка нового, более глубокого прочтения той части короленковского наследия, которая долгие годы оставалась в тени. В то же время анализ фольклоризма «У казаков» и «Пугачевской легенды на Урале» позволил дать оценку самому казачьему фольклору Приуралья, до сегодняшнего дня почти не изученному.
В связи с этим основные положения и выводы исследования могут быть использованы в монографиях и учебных пособиях по истории русской литературы рубежа XIX — XX веков, в лекционных курсах по фольклору, на спецкурсах и спецсеминарах, чем определяется его практическая значимость.
Поскольку своеобразие фольклоризма литературного произведения в значительной степени определялось временным контекстом, главнейшим методологическим принципом стал историзм?* Именно он позволил определить
29 объем фольклорных заимствований, их направление и характер. Поэтому возникает необходимость обрисовать в общих чертах эпоху, когда сложился и достиг расцвета талант В.Г.Короленко-очеркиста.
Вторая половина Х1Х-го столетия не случайно виделась ученым «особой эпохой развития»30 в литературе. И дело не только в активной подготовке к революции, как принято было считать в советском литературоведении. Исторический и литературный процессы всегда многомерны и не могут быть исчерпаны каким-либо одним явлением или ведущей закономерностью. Безусловно, революционно-демократическое движение в России в этот период занимало важное место как в общественной жизни, так и в сознании современников, однако всецело заполнить собой эпоху оно не могло. «Русь народная была воистину многоликой», — пишет А.А.Горелов, что объясняется, по его мнению, «неравномерностью развития разметнувшейся на огромные пространства державы, где уживались различные экономические уклады, житейски-бытовые, культурные традиции, создававшие нетождественность человеческих судеб и специфичность конфликтов. <.> Но углубление в характеристику данного уклада’ жизни означало постижение своеобычных проявлений национального характера».31 Для решения столь масштабных задач больше подходили жанры нравоописательного и социального романа, повести, этнографического очерка. Отсюда столь бурный расцвет реалистической прозы. Важной тенденцией в развитии всей западноевропейской и русской литературы было распространение идей философии позитивизма. Правда, в отличие от западноевропейской, русская литература восприняла позитивизм больше формально, как один из необходимых принципов художественного отображения действительности, не подменяя творческого акта механическим копированием. За фактом и явлением старались увидеть, раскрыть важную закономерность. Отсюда «масштабность проблематики», «стремление постичь характер всемирно-исторического развития».33 Русский художник-реалист привык мыслить широко, воспринимая своего героя, свой культурный космос лишь как важное звено в историко-культурном движении человечества. Эта специфически русская особенность мышления коренилась в осознании «.бесконечных возможностей национальной жизни, открытости исторического процесса, заставляла находить живую душу под прозой быта с ее враждебностью человеку».34 Под ее влиянием исподволь складывалась идея евразийства, наметившаяся еще в исторической пушкинской прозе и получившая дальнейшее развитие у Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко. Русская культура и, в частности, литература взяла на себя миссию проводника культур малых (особенно бесписьменных) народов, населявших империю, следовательно, должна была решать проблему народного характера, менталитета с учетом мельчайших аспектов многонационального целого.
Влияние позитивизма выразилось в буйном расцвете очерковой литературы. Характеризуя жанр этнографического романа 60-х годов, Л.М.Лотман по этому поводу замечает: «.освещение всех сторон современной социальной жизни пронизывалось в это время публицистической мыслью, а нередко и научным обобщением фактов. Именно эта позиция писателя-исследователя общественного быта, наблюдателя, для которого изучение действительности и борьба за улучшение ее неразделимы, предопределяла слияние очерков 60-х годов в циклы, превращение их в детали огромного эпического полотна».35 Художественной целью таких циклов был, по мнению М.С. Горячкиной, «широкий охват действительности в ее движении».36 Для нас важны два замечания Л.М.Лотман: о позиции писателя-исследователя и писателя-гражданина, так как они восходят к идее об особой общественной миссии русской литературы второй половины XIX века.
Интерес к народной культуре со стороны интеллигенции, начиная с 60-х годов, приобретает во многом чисто практический, утилитарный характер, связанный с движением народничества, выдвинувшим в качестве главной задачи просвещение народных масс. Сложность решения такой задачи объяснялась «закрытостью» мира русского крестьянства и тем более казачества, чужеродностью дворянской и народной культур. Теоретики народничества выработали программу, некоторые элементы которой надолго закрепились в творческой практике русских писателей. Это в первую очередь тщательное изучение жизнеустройства, образа мыслей, духовных потребностей народа и создание специальной просветительской литературы, оказавшейся для многих первым шагом в большую литературу. Этнографизм и бытописательство при этом уступали место подлинной художественности, а практика взаимодействия с народной культурой становилась важнейшим действенным элементом творческой лаборатории.
Вера в народные силы, нравственный критерий народного блага составляли неизменный пафос русской литературы XIX века, ее неиссякаемый оптимизм, воспринимаемый как смысл писательства вообще. Для литераторов «фольклор был преимущественно хранилищем национально-народного отношения к политической истории, ее этической оценки и одновременно хранилищем идеала человеческой личности, противостоящей деспотизму».37 Вместе с тем «глубинные национальные традиции» создавали «внутреннее единство.национальной литературы, единство разнообразных ее стилей.»
Весь этот комплекс проблем эпохи должен учитываться при анализе фольклорно-литературных взаимодействий в творчестве любого писателя данного исторического периода.
Рассмотрим подробнее степень изученности литературно-фольклорных взаимовлияний в прозе В.Г. Короленко.
Проблеме использования В.Г. Короленко художественных арсеналов народной поэзии ученые уделяли достаточно пристальное внимание, особенно в первой половине ХХ-го века. Обзор основных работ позволяет утверждать, что в советском короленковедении сложилось устойчивое исследуемое пространство, круг тщательно освещаемых тем, так или иначе связанных с увлечением писателя идеями революционного народничества. Социальный и революционно-демократический аспекты делались (зачастую искусственно) краеугольным камнем анализа, заслоняя собственно литературоведческие и фольклористические. Фольклоризм короленковской прозы изучался чаще всего локально, внутри отдельных творческих периодов: «Короленко и якутская ссылка» (Н.К. Пиксанов, З.И. Власова),39 «Короленко и Якутия» (Б.М. Белявская),40 фольклор в сибирских (И.Г. Парилов, A.C. Малютина)41 и волжских (В.К. Архангельская)42 рассказах. Были попытки охватить и более широкий круг вопросов, представить проблему в целом.43
Одной из главных первоочередных задач при исследовании влияния устного народного творчества на отдельное произведение или творчество писателя является выяснение вопроса, «сводится ли это влияние к более или менее отчетливо выраженному фольклоризму, то есть прямому или косвенному (но в любом случае осознанному и целенаправленному) использованию в литературе отдельных фольклорных образов, сюжетов, поэтических средств и т.д.»44 Для этого необходимо определить жизненные источники воздействия фольклора на мировоззрение автора произведения, установить причины включения его в творческую систему. В своей работе о фольклоризме творчества В.Г. Короленко З.И. Власова выделяет несколько этапов такого влияния, прослеживает эволюцию во взаимоотношениях писателя с фольклором на протяжении всей его сознательной жизни.45
Интерес В.Г. Короленко к миру народной поэзии уходит корнями в детские годы прозаика. Народная культура была одним из элементов его домашнего воспитания. И хотя знакомство с ней носило до определенного времени стихийный характер, первые впечатления от фольклора оказались столь сильны, что даже спустя многие годы в творчестве зрелого Короленко неожиданно проявляли себя, становясь сюжетной основой рассказов и очерков, отражаясь в тех или иных образах, взглядах на мир, природу, тайны бытия. Весьма показательна в этом смысле запись из дневника В.Г. Короленко, где писатель рисует цепочку собственных ассоциаций, толчком к возникновению которой послужил лягушачий концерт. В памяти сразу всплывает «старая нянина сказка» и «голос несчастной царевны, прекрасной, как сияние майского дня, превращенной злым колдуном в самое отвратительное из животных с холодной кожей, с зелеными глазами навыкате.»46 Для нас важно, что поток авторского сознания «выбирает» из массы потенциальных ассоциативных образов именно «фольклорные». О том, что эта особенность мировосприятия писателя не простая случайность, не частный факт, говорят многочисленные примеры из его произведений. Приведем некоторые из них. В очерке «Ночью», передавая особенности детского воображения, Короленко показывает тайну рождения поэтического образа в фантазии мальчика Васи. Звуки ночного мира, доносящиеся из-за окна спальни, преображаются в привычные и хорошо знакомые ему шелест листов бумаги, шорох сыплющегося в бочку зерна. Только воображение усиливает их при помощи гиперболизации. Ярким примером может служить и образное мышление слепого Петра Попельского («Слепой музыкант»). И в том и в другом случае В.Г. Короленко использует личный опыт ассоциативного мышления, опирается на близкие и понятные ему связи. В качестве своеобразной стилевой черты сохраняется эта особенность мировосприятия и в поздний период творчества, в частности, в очерках «У казаков»: олицетворение отдельных природных образов (реки Урал, степи, дороги), параллелизм стихийных и социальных процессов, включение пейзажа в авторские размышления, построенные по ассоциативному принципу. Именно благодаря раннему «неумственному» знакомству с поэтическим творчеством народа писателю до конца жизни удалось сохранить свежий и непосредственный взгляд на мир, сберечь себя от разочарований и уныния, овладевших многими из его собратьев по перу (Гаршиным, Успенским, Михайловским). Рассуждая о назначении литературы, В.Г. Короленко подчеркивает, что писатель должен сберечь в себе «восприимчивость к свету солнца и дня»,47 показать «свет наряду с тенью», так как «это соседство отнимет у тени ее мрак и угнетающий душу характер».48 Раннее знакомство с миром народной поэзии — верная тому гарантия. Кроме того, глубинная, подсознательная связь с фольклором отвечала и еще одной важной потребности писателя-исследователя, первооткрывателя малоизвестных сторон бытовой, общественной и духовной жизни людей. Речь идет о неослабевающем интересе В.Г. Короленко к тайнам бытия и духа, к труднообъяснимым явлениям действительности. Здесь также многовековые художественно обобщенные наблюдения нередко подсказывают то или иное решение. На эту особенность фольклора обращал внимание и ВЛ. Пропп: «Мы понемногу начинаем сознавать, что разгадка многих и очень разнообразных явлений духовной культуры кроется в фольклоре».49
Началом осознанного отношения к «мистической поэзии ужаса» В.Г. Короленко обязан отцу, Галактиону Афанасьевичу, сумевшему сберечь в сыне красоту поэтического мировосприятия и оградить от воздействия народных предрассудков и суеверий. Вообще отец сыграл большую роль в формировании мировоззрения будущего писателя. Картина мира, сформировавшаяся у мальчика под его влиянием, была до некоторой степени идеалистичной, но заложенная в ней удивительная гармония со всем сущим, поразительная нравственная чистота и высота наложили на личность В.Г. Короленко неизгладимый’ отпечаток. «Устойчивое равновесие совести, когда все в мире и общественных отношениях кажется раз и навсегда данным и неподвижным, — писал Б.Аверин,- это основное чувство, которое окрашивало раннее детство писателя».50 Равновесие это поддерживалось гармонией личных отношений родителей, социальных -родственницы-помещицы с крестьянами, религиозным фатализмом отца.
Увлечение устным народным творчеством нашло свое продолжение в гимназические годы. Большую роль в этом сыграл учитель словесности В.В. Авдиев, влюбленный в украинский фольклор и устраивавший у себя на дому вечера пения, в которых участвовал и Короленко. Из пассивного слушателя, «созерцателя» он превращается в активного и вдумчивого исполнителя, старающегося постичь глубину и пластичность народно-поэтических образов, передать оттенки мысли и чувства. Этот момент очень важен, так как он — первый шаг к »внутреннему» творчеству, к анализу формы и содержания исполняемого произведения. В «Истории моего современника» писатель вспомнит о впечатлениях этого времени. Но они нашли отражение и в других произведениях.
Например, в «Слепом музыканте», описывая образы, возникающие в воображении слепого Петра Попельского, В.Г. Короленко приводит подобный ассоциативный ряд. ‘ Тогда же начинает действовать и еще один фактор, формирующий взгляды будущего писателя на фольклор. Это художественная литература (преимущественно поэзия), отражающая демократические взгляды передовых современников и, конечно, социально заостренная. Отсюда предпочтение тех народных песен, где рисуется тяжелая доля бедняка.
Поворотным моментом в духовной биографии писателя стали 70-е годы, когда он всерьез увлекся идеями революционного народничества. «Революционные настроения студенчества начиная с 1860-х годов усиливаются и охватывают все более широкие круги молодежи, — писала З.И. Власова. — Необходимость революционной пропаганды среди крестьянства и связанная с этой задачей подготовка «хождения в народ» представлялись достойной жизненной целью».*’ Практика просветительской работы в народной среде потребовала специальной подготовки. Народник должен был тщательно изучить законы жизни деревенского мира, образ его мыслей, самою «русскую душу», в противном случае интеллигент-горожанин не мог даже и мечтать об активной преобразовательной деятельности. Все это стало мощным толчком к увеличению числа фольклористов и этнографов из народнической среды. На связь истории русской фольклористики с народничеством и политической ссылкой указывает А.П. Разумова.»и По словам З.И. Власовой, «.занятия фольклором и этнографией политические ссыльные рассматривали как единственно возможную форму участия в общественно-политической борьбе. <.> Они связывали свою деятельность с передовыми общественными проблемами эпохи».55 Политические ссылки оказались весьма благоприятны для формирования творческой лаборатории будущего писателя. Высланный летом 1879 года в город Глазов, В.Г. Короленко тщательно фиксирует разнообразные впечатления и наблюдения в записной книжке. Глубокая приверженность идее и упорство в достижении цели способствовали накоплению яркого и богатого жизненного материала. «В ссылку Короленко ехал с сознанием необходимости сближения с народом, — писал А.К. Котов, — отвлеченные представления о котором должны были быть проверены — как это ему казалось действительностью, трезвой и истинной. Полный энергии и молодой силы, он даже ссылку готов был рассматривать под углом зрения практического изучения жизни народа».5^1 Целый ряд интересных наблюдений над заметками этой поры находим мы у ученых, исследовавших записные книжки писателя. Все они характеризуют В.Г. Короленко как талантливого и вдумчивого художника и исследователя. Нельзя не согласиться с выводом З.И. Власовой о том, что записные книжки 1879 года «.открывают серию социально-бытовых очерков в его творчестве, насыщенных той «социальной этнографией», которую одобрял Чернышевский в статьях «Современника».5^ Ценно и замечание короленковеда о «стихийности», спонтанности творческого процесса у автора заметок: жизненные обстоятельства побуждают ссыльного студента пропускать увиденное и услышанное через себя. Стараясь удержать в памяти ценный материал, Короленко невольно создавал в воображении условный художественный мир. Ссылка, таким образом, стала для него первой литературной школой.
Интерес к фольклору, как и к народной культуре в целом, у начинающего литератора исчерпывался социальным аспектом, что объяснялось зависимостью от народнической идеологии. Красота и богатство устной поэзии оставались еще вне поля его зрения. Однако «проблески народной даровитости» побудили В.Г. Короленко взяться за перо. Первые литературные опыты ссыльного народника носили скорее практический, нежели художественный характер и открыто ориентировались на традиции Успенского и Златовратского. Это были очерки «Ненастоящий город» (о городе Глазове, где он отбывал ссылку), «В Березовских Починках» и повесть «Полоса».
Народная культура становится объектом серьезного изучения в период якутской ссылки. В.Г. Короленко уже четко намечает пути использования собранного материала: научное описание края и включение элементов фольклора в художественные произведения. О последнем можно судить по рассказам и очеркам сибирского цикла («Ат-Даван», «Песня», «Артисты» и др.). Сибирский период переломный в мировоззрении писателя. Собственный опыт и богатство жизненных впечатлений, по большей части трагичных, привели его к отказу от идей народничества, расширив творческие горизонты прозаика. Это позволило З.И.
Власовой утверждать, что «Короленко вернулся из Сибири вполне сложившимся и зрелым писателем».56
Дальнейшие творческие взаимодействия Короленко с устным народным творчеством не претерпевали принципиальных изменений, но шли по пути углубления внутренних связей, превращения в единое гармоничное целое. Подтверждение тому — произведения нижегородского периода, метко названного Максимом Горьким «эпохой Короленко»/* а также рассказы и особенно очерковые циклы, написанные на рубеже XIX — XX веков, в атмосфере общекультурного кризиса, охватившего всю Россию.4* Пожалуй, именно народные начала в духовности писателя спасли его тогда от серьезных заблуждений, придали творениям мастера художественную силу и ту нравственную высоту, что делает произведения искусства по-настоящему правдивыми и ценными.
Фолыслоризм короленковской прозы, по единодушному мнению исследователей, явление сложное, многофункциональное. Писатель активно вводит в тексты рассказов и очерков практически все известные фольклорные жанры как поэтические, так и прозаические. Но способ их включения и особенности функционирования в повествовательной структуре — вопрос непростой. В.Г.Короленко избегает «вульгарного» использования устного народного творчества, подходя к народной культуре как к неиссякаемому источнику мудрости, красоты, нравственного идеала. Оттого связи его с фольклором тонки, порой едва уловимы и требуют непременно тщательного всестороннего анализа, знакомства с записными книжками и дневниками, метко названными C.B. Короленко «общественной летописью»^, с обширным эпистолярным наследием. А.К. Котов по этому поводу писал: «Вслед за чеховскими записными книжками записные книжки Короленко становятся в ряд учебных книг молодого писателя. Они знакомят с творчеством писателя с внутренней стороны, что не менее интересно и поучительно, чем знакомство с отдельным законченным произведением».60
Затронем и еще один важный для нашего исследования общетеоретический аспект — жанровую и композиционную специфику «У казаков» и «Пугачевской легенды на Урале».
Уральские произведения В.Г. Короленко неоднородны по жанровому составу: «У казаков» — путевые очерки, «Пугачевская легенда на Урале» — очерк исторический. В силу сложившихся обстоятельств они были опубликованы в разное время, и воспринимаются теперь самостоятельно. Несмотря на это смысловая связь между ними не утратилась. Многие сюжетные линии, мотивы и образы в них пересекаются, что объясняется первоначальным авторским замыслом, согласно которому «Пугачевская легенда на Урале» должна была стать главой «У казаков». Поэтому мы в процессе анализа рассматривали их как единое целое (метаструктуру).
Цикл «У казаков» в композиционном плане сложнее и богаче «Пугачевской легенды на Урале». Он состоит из тринадцати очерков, объединенных общей идеей, системой сквозных тем, образом автора, художественным временем и пространством, а также характером самого фолыслоризма. Мощным объединяющим началом является и установка В.Г. Короленко на «эскизность» очерков — предтечи большого исторического романа из времен Е.И. Пугачева. Образ казачьего атамана — центр притяжения разнообразнейшего материала о Приуралье, так что в метаструктуру органично входят и наброски из «Набеглого царя», разбросанные по записным книжкам и письмам.
Особо оговорим источники цитирования текстов. Все использованные в работе произведения В.Г. Короленко, за исключением «У казаков», приводятся по изданию: В.Г. Короленко. Собр. соч.: В 10т.-М.:ГИХЛ, 1953-56.
Очерки «У казаков» цитируются по прижизненному изданию автора: В.Г. Короленко. Полн. собр. соч.: В 9т.-Т.6.-С.-Пг.: Изд-во А.Ф. Маркса,1914.
Это вызвано тем, что цикл в десятитомное собрание не вошел, а очерк «Пугачевская легенда на Урале», опубликованный лишь после смерти автора, отсутствует в издании 1914 года.
Для удобства цитирования названных источников мы в дальнейшем будем указывать в тексте диссертации том и страницу десятитомника, а цитаты по изданию 1914 года сопровождать аббревиатурой УК.
Рассмотренный выше круг общетеоретических, историко-литературных и узкоспециальных вопросов и проблем, связанных с изучением фолыслоризма коро-ленковской прозы, позволяет сформулировать основные положения, выносимые на защиту:
1 .Монографическое исследование проблемы использования В.Г. Короленко фольклора уральских казаков позволяет сделать обобщающие выводы о специфике фольклоризма его произведений в целом, о влиянии фольклора на формирование индивидуального авторского стиля.
2.Использование комплексной методики в процессе изучения уральских очерков В.Г. Короленко, включающей в себя теоретический, исторический, биографический, сравнительно-типологический и другие методы, дает возможность получить достоверные результаты, объективно и всесторонне проанализировать и оценить художественное явление.
3.Детальное рассмотрение функций отдельных фольклорных жанров, образов и мотивов казачьего фольклора, а также элементов бытовой и духовной культуры общинников откроет пути к более глубокому пониманию самого уральского фольклора, на сегодняшний день довольно слабо изученного.
4.0черки «У казаков» и «Пугачевская легенда на Урале» являются новым словом в процессе осмысления и воссоздания русской литературой рубежа веков национального характера россиянина, его исторических и культурных истоков, его судьбы в эпоху социальных катаклизмов.
5.Уральские очерки В.Г. Короленко — итог в развитии русской очеркистики XIX столетия, заметная веха в истории русской реалистической литературы.
В связи с необходимостью рассмотрения многочисленных теоретических, историко-литературных, биографических и фольклористических аспектов в диссертации выделяется три главы:
1 глава «УРАЛЬСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ В.Г. КОРОЛЕНКО
РУБЕЖА XIX-XX ВВ.».
2 глава «ФУНКЦИИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ, ОБРАЗОВ И МОТИВОВ
В УРАЛЬСКИХ ОЧЕРКАХ ПИСАТЕЛЯ»
3 глава «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ
НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ ПРИУРАЛЬЯ В ПОЭТИКЕ ОЧЕРКОВ «У КАЗАКОВ», а также ВВЕДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Похожие диссертационные работы по специальности «Русская литература», 10.01.01 шифр ВАК
-
Фольклоризм прозы Н. М. Карамзина0 год, кандидат филологических наук Позднякова, Елена Геннадьевна
-
Фольклор семиреченских казаков1983 год, доктор филологических наук Багизбаева, Мая Михайловна
-
Фольклорная парадигма русской прозы последней трети XX века2004 год, доктор филологических наук Скаковская, Людмила Николаевна
-
Дагестанский фольклор в иноэтническом восприятии: Историко-функциональные аспекты в русской художественной, публицистической и научной литературе XIX века2002 год, кандидат филологических наук Хидирова, Эльмира Сиражудиновна
-
Башкирский фольклор в литературе XIII-XIX веков: творческое освоение его мотивов, сюжетов, образов, традиций в башкирской литературе и произведениях русских писателей XIX в.2013 год, доктор филологических наук Хуббитдинова, Нэркэс Ахметовна
Заключение диссертации по теме «Русская литература», Фолимонов, Сергей Станиславович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование очерков В.Г. Короленко о Приуралье позволяет с особенной полнотой выявить своеобразие творческих взаимосвязей литературы и фольклора в художественном мире писателя. К разработке уральской темы он подошел, имея за плечами богатейший опыт по использованию народнопоэтического материала во всем его многообразии. Этим определяется сложность и богатство фольклоризма уральских произведений.
Определяющую роль в осмыслении этого вопроса играет предпосылка литературной работы В.Г.Короленко над очерками «У казаков» и «Пугачевская легенда на Урале». Она заключается в идее написания исторического романа о Крестьянской войне 1773 — 75 годов под предводительством Е.И. Пугачева. Именно стремление собрать сохранившиеся в казачьем фольклоре воспоминания о самих событиях бунта и особенно о его предводителе привели Короленко на Урал. Очерки о «казачьей стране» — своеобразная предтеча романа, открытая творческая лаборатория, в которой формировались отдельные стороны замысла, складывались концептуальные черты некоторых ключевых образов, строились гипотезы, эскизно воссоздавалась эпоха. Все это накладывало неизгладимый отпечаток на стиль очерков.
Важнейшей категорией в свете нашего исследования стал образ автора, специфика которого в жанре путевого очерка определяется легализацией и демократизацией авторского начала. Очеркист вводит читателя в созданный им художественный мир, делая своим собеседником, приглашая к сотворчеству. Автор выступает в различных ипостасях в зависимости от контекста: ученый-исследователь, открытый для всего нового, впечатлительный путешественник, талантливый пейзажист, патриот, влюбленный в свою землю и в свой народ, философ. Перечисленные черты в ходе повествования меняются с калейдоскопической быстротой, придавая ему динамизм, богатство интонаций, давая возможность писателю охватить действительность во всей ее полноте. Образ автора позволяет определить способы отбора фольклорного материала, особенности его художественной обработки. Подход здесь целиком определяется той или иной «ипостасью»: в качестве ученого-исследователя Короленко приводит устно-поэтический материал цельно, в условиях его естественного бытования, как правило, рисует портрет информанта, отмечает оригинальность исполнения, размышляет над судьбой произведения. Особое внимание уделяется при этом классификации материала, который осуществляется автором по тематическому принципу. Конечно, научный подход писателя к изучению фольклора во многом условен (например, он произвольно оперирует таким важным понятием в фольклористике, как жанр, его наблюдения над поэтикой носят отрывочный характер и строго подчинены художественным задачам, которые диктует контекст), однако собирательская и исследовательская функции его фольклоризма вполне очевидны. Они особенно зримо выступают в историческом очерке «Пугачевская легенда на Урале». Фольклорная биография Е.И. Пугачева, созданная им на материале уральских преданий, впечатляет. Это своеобразный опыт художественного исследования, явление довольно уникальное в своем роде. Во-первых, очерк вводит в научный и культурный оборот неизвестные до этого историкам сведения. Во-вторых, цельная и логически стройная система,; созданная Короленко, позволяла увидеть возникновение, развитие и угасание тех или иных мотивов. В-третьих, интересные и оригинальные комментарии автора придавали исследованию вид хорошо продуманной гипотезы. Все это подтверждается фактами обращения современных ученых к «Пугачевской легенде на Урале» как к научному или полунаучному, но серьезному и достоверному источнику (например, К.В.Чистов ссылается на Короленко, анализируя процесс фольклоризации легенды об «избавителе» на Урале). Писатель обращается не только к фольклору прошлого. Предметом осмысления и изображения становится также и фольклор современности: перед читателем открывается тайна рождения новой легенды, рассказа или предания. Однако серьезный исследовательский подход к жизненному материалу не превращает произведение в сухую научную работу, поскольку рядом с автором-исследователем всегда соседствуют впечатлительный путешественник, талантливый пейзажист, патриот. У данных «ипостасей» авторского образа доминирует эмоциональная сторона, так что создается строгий баланс между разумом и чувствами.
Непосредственную связь с этой особенностью имеет и такая ключевая черта очеркового стиля, как органическое соединение документа и устно-поэтического произведения, а также собственных жизненных наблюдений. Столь разнородный и стилистически пестрый материал под пером очеркиста обретал «новое художественное качество», наполняя фактуру текста активной живой энергией, способствуя единству исторической и художественной правды. Характерно при этом, что В. Г. Короленко, придирчиво относившийся к фактической стороне своего романа, в отдельных спорных случаях склоняется к правде художественной, отдавая приоритет фольклорной версии с ее эмоционально-эмпирическим началом. Художественная интуиция писателя и народа сливаются воедино.
Философский аспект авторского «я» ярче всего проявляется в многочисленных отступлениях, развернутых комментариях, приостанавливающих темп повествования, приглашающих читателя к взаимоосмыслению описанных событий. Здесь особенно искренни суждения писателя, глубокие мысли о жизни, сокровенные движения души. Через отступления становится понятной и позиция Короленко, влюбленного в свою необъятную Родину, его установка на изображение всего позитивного, способствующего неостановимому движению жизни. Постепенное угасание казачьего склада, его бессилие перед наступающей цивилизацией вызывают у очеркиста невольное ностальгическое чувство, которое он и не пытается скрыть. Прогресс несет вместе с положительными немало отрицательных элементов, один из них — разрушение веками сложившихся культурных связей, формировавших духовно здоровую личность, крепко вросшую в свою историю, в свой быт. Уничтожение такого духовного микрокосма, по убеждению Короленко, влекло за собой и процесс необратимого распада народного самобытного начала, постепенного превращения народа в безликую массу.
Следует отметить и романтическую черту авторского «я», тем более что она гармонирует с мироощущением самих казаков, бросающим романтический отблеск на уральский фольклор. Такое сложное сплетение В.Г. Короленко использует не только в качестве колоритной стилевой детали. Романтизация современности и прошлого родного края — ключ к казачьему бунтарству и, глубже, — к самой идее казачества. Кроме того, разграничивая особенности уральского романтизма, писатель открывает путь к более тонкой, детальной прорисовке народного характера, типичного и своеобразного в нем.
Изображение народного характера — одна из ведущих художественных задач очерков о Приуралье. Однако без разрешения ее было бы невозможно серьезное осмысление феномена пугачевщины. Художественная разработка казачьего «типа» как регионального варианта общерусского национального характера, осуществлялась писателем комплексно, на фоне самого широкого знакомства с различными сторонами жизни уральцев, поэтому он вырастает из всего повествования и лишь при этом условии обретает абсолютную законченность. Важнейшим моментом разрешения столь сложной творческой задачи в очерках становится коллективный и индивидуальный портрет.
Портрет как прием комплексной характеристики героя является неотъемлемой частью очеркового жанра. Он естественно вытекает из потребности живописать многочисленные путевые встречи и в этом смысле не может быть причислен к изобретению Короленко. Однако портрет в цикле «У казаков» далеко не исчерпывается общежанровой функцией. Подчиненный специфическому заданию, он превращается в центр притяжения многочисленных наблюдений очеркиста над отдельными проявлениями казачьей натуры. При этом портрет у Короленко всегда фольклорен и этнографичен. Такая тесная соотнесенность с местной народной культурой позволяет опереться на авторитет устной традиции.
Создавая галерею казачьих типов, писатель не просто обращается к фольклору как к живому источнику, зафиксировавшему типичное во внутреннем облике народа, он соединяет емкое и образное слово с его творцом, показывает казаков в момент поэтического вдохновения, когда сокровенная, выстраданная истина предстает перед слушателем во всей своей красоте и силе.
Индивидуальные портреты часто проецируются в авторском сознании на знаменитые образы из народных песен, сказок, былин, что в общей атмосфере «естественной фольклорности» воспринимается очень органично. Что же касается создания коллективных портретов, то здесь В.Г.Короленко не только соотносит героев с устной традицией, но и напрямую заимствует из фольклора, подтверждение чему — исторические предания, использованные в очерках. Полное доверие к художественному опыту бесчисленных поколений, помноженное на собственную интуицию и обширные познания, привело к впечатляющим результатам: загадочная казачья натура стала более понятной и предсказуемой.
Особое место мы уделили рассмотрению фольклорных жанров, использованных В.Г. Короленко в уральских очерках. Опираясь на опыт известных короленковедов (З.И. Власовой, В.К. Архангельской и др.), мы определили характерные особенности такого использования. Обращаясь ко всем без исключения жанрам устного народного творчества, писатель никогда не прибегает к банальному цитированию с целью изукрасить текст выразительными находками. Фольклорные произведения в его творческой лаборатории подвергаются значительной трансформации, обретают вторую художественную жизнь. Все фольклорные элементы очерков полифункциональны и участвуют в формировании художественных уровней произведения от харакгерообразующего до языкового. Ведущая роль отведена излюбленным короленковским жанрам: песне и преданию. Однако такое явное предпочтение объясняется отнюдь не только причинами субъективного плана. Определяющее значение сыграла и специфика самого казачьего фольклора, выдвинувшего на первый план именно эти жанры. В.Г. Короленко столкнулся с тем, что казачья песня параллельно с историческим преданием бережно и психологически достоверно шаг за шагом отобразили уральскую историю, сохранили дух вольницы, ее идеалы. Особенно сложны и многообразны функции народной песни. Вследствие необычайной пластичности, сюжетной условности, обилию символов, она открывает перед писателем богатейшие возможности для стилизации, не сковывая при этом творческое воображение строгими формами. Примером виртуозного использования В.Г.Короленко песенных мотивов, образов и символов может служить очерк десятый, построенный на обыгрывании широко распространенной и любимой на Урале песни «Яик ты наш, Яикушка». Исходя из народной поэтико-философской аксиомы, автор постепенно расширяет круг размышлений, включая в него все составляющие элементы казачьего микрокосма. Отступление, которое делает писатель в своем повествовании, в конечном счете, сводится к поиску и логическому построению системы неопровержимых доказательств народной мудрости. Афоризм под пером Короленко разворачивается до масштабов самой жизни, а затем так же легко возвращается в исходное положение. Результатом такого композиционного приема становится «открытый» писателем закон любви, питающий поразительный казачий патриотизм.
Отдельные песенные мотивы позволяют В.Г. Короленко более детально изучить черты мировоззрения уральцев, скрытые от посторонних глаз. Используя элементы известных песен, он показывает параллельно особенности их употребления в речи казаков. Именно в результате такого подхода раскрывается специфика романтического мировосприятия короленковских героев. Многократно употребленные песенные мотивы переходят в разряд устойчивых, взаимно перекликаются друг с другом, прочно скрепляя повествовательную структуру произведения.
Богатства художественных потенциалов казачьей песни наиболее полно Короленко раскрыл в сцене поединка «отцов» и «детей» (пение песен в трактире «Плевна»). Песня здесь предстает лучшим выразителем сложной и противоречивой казачьей натуры. Это кульминация не только в развитии целого ряда сквозных тем, но и в использовании самого песенного жанра.
Наряду с народной песней важнейшее место в структуре очерков занимают топонимические и исторические предания. К данному жанру устной несказочной прозы В.Г.Короленко ни в одном из своих произведений не обращался так серьезно. Всестороннее изучение его даже было выдвинуто писателем в качестве главной цели поездки на Урал.
В произведениях используются топонимические и исторические предания. Использование первых — неожиданная находка автора, обнаружившего живую связь местных жителей с историей края через красноречивые топонимы, не утратившие своей предыстории. В. Г. Короленко почувствовал себя в своего рода «музее под открытым небом». Топонимические предания вместе с мемориалами используются им как стимуляторы творческого воображения. Но не только. Они позволяют организовать художественное пространство произведения и реальное, и воображаемое, «историческое». Кроме того, топонимическое предание — яркая деталь местного колорита, отправная точка в философствованиях автора.
Шире использовал В. Г. Короленко предания исторические, включая их в очерки тематическими циклами. Такие циклы являются сюжетной основой многих очерков. Композиционно они — источники возникновения и развития сети главных сквозных тем, через которые раскрываются различные стороны жизни казачьей общины. В результате органичного соединения разновременных преданий тематика не только не выглядит искусственной, но как бы «прорастает через время», обнаруживает свои глубокие корни.
Циклы исторических преданий имеют своеобразное смысловое и эмоциональное ядро. Причем все остальные рассматриваются как его производные. Таким образом, от «Кочкина пира» протягиваются ассоциативные нити к «Туче каменной» и к более поздним рассказам о «наказных атаманах». Используемые произведения Короленко тщательно обрабатывает, придавая им более литературную форму. Иной подход наблюдается при включении преданий в исторический очерк «Пугачевская легенда на Урале», где обработка достаточно условна и народные произведения предстают в первозданной художественной силе и красоте.
Наряду с преданиями В.Г.Короленко широко использует социально-утопические легенды. Интерес к этому специфическому жанру устного, народного творчества не исчезает у писателя на протяжении всего творческого пути, поскольку социально-утопические идеи являются для него ярким доказательством неиссякаемой энергии народного духа. Отсюда явная соотнесенность многих мыслей и образов легенды о невидимом граде Китеже с Беловодьем. В.Г. Короленко в очерках «У казаков» как бы продолжает некогда прерванный разговор. Однако отношение очеркиста к Беловодской истории принципиально иное. Если китежский обман удручает и разочаровывает Короленко, то путешествие казаков в поисках града взыскуемого скорее восхищает беспрецедентной дерзостью и размахом.
Легенда о Беловодье увлекла писателя и в другом плане. Она оказалась весьма удобным материалом для углубления композиционного приема исторических аналогий, принятого Короленко за основу. Таким образом, легенда включилась в два ассоциативных ряда. Это позволило максимально раскрыть ее идейно-художественные потенциалы. Идея В.Г. Короленко тем более интересна, что органично соединила два вполне самостоятельных явления: легенду о земле обетованной и легенду о царе — «избавителе». При внимательном их прочтении писателю удалось выявить их общие корни, а также наметить перспективы их творческого использования в художественном произведении. Конечно, находки и открытия Короленко носили интуитивный характер и не могли получить терминологического и строго научного концептуального оформления, но многие его догадки просто поразительны.
Социально-утопические легенды в контексте уральских очерков раскрываются через целую систему жанров и средств: притча, рассказы, библейские реминисценции, путевые заметки, слухи и толки, прения и др. Осознавая всю важность народных утопий, Короленко выделяет их в качестве самостоятельных произведений (Беловодье — вставная новелла, легенда о Петре Третьем — «избавителе» — отдельный очерк).
В своем исследовании исторической и современной жизни казачьей общины В.Г.Короленко неизменно опирается на такие малоисследованные околофольклорные явления, как слухи, толки, народное красноречие. В них фиксируются духовная, бытовая и политическая атмосфера эпохи, они выразители духа времени. Писатель в очерках прибегает к различным тематическим группам слухов от бытовых до эсхатологических, показывая особенности народного мировосприятия и специфику трансформации получаемых народом сведений о жизни страны и всего мира. Слухи и толки в художественной системе Короленко — живая, неумолкающая сеть, своего рода кровеносная система повествовательной структуры, без чего произведение потеряло бы свою цельность. Слухи и толки рассматриваются писателем и как основа для формирования новых легенд и преданий.
Своеобразным первопроходцем был Короленко и в изучении казачьего красноречия. Безусловно, что ораторское искусство народа и до этого становилось неоднократно предметом пристального художественного внимания русских писателей и поэтов, в том числе и самого Короленко. Однако красноречие в условиях казачьей общины приобретало особое значение и было неизвестно широкому кругу читателей. Автор уральских очерков открывает нам истоки «высокой культуры слова» уральцев. Давая яркие образцы народной риторики, он всякий раз подчеркивает бережное, любовное отношение общинников к оратору, поскольку дар Слова соотносится в сознании казаков со способностью отстаивать свои права, хранить память о славном прошлом уральского войска. Обращаясь к народному красноречию, В.Г. Короленко отталкивается от традиций, заложенных народниками, от беллетризированного очерка 60-х годов, но при этом избегает нарочитого этнографизма, поднимается до высот подлинного реалистического искусства.
Отдельную главу нашего исследования мы посвятили изучению изобразительно-выразительных средств и приемов народной поэзии в художественной системе очерков «У казаков». Жанровая специфика путевого очерка неизбежно накладывает отпечаток на характер включения таковых в художественный текст. Возможности очеркиста в этом плане заметно ограничены по сравнению с возможностями романиста или поэта. Наиболее подходящей сферой очерка, где фольклорные приемы и средства могут найти применение, является пейзаж.
Пейзаж — неотъемлемый структурный элемент путевого очерка,, однако его место в художественной системе произведения определяется возможностями и пристрастиями автора. Нереализованный талант живописца В.Г. Короленко с максимальной полнотой использовал в своей прозе. Пожалуй, именно изображая природу средствами яркого и образного слова, писатель сумел полностью выразить себя, свое сокровенное лирическое начало. Очерки «У казаков» в этом смысле особенно интересны, поскольку в них отразился художественный опыт автора, накопленный на протяжении всего творческого пути.
Пейзаж в цикле — явление сложное, синтетическое, сотканное из многочисленных элементов, включая собственные наблюдения писателя и устное народное творчество уральских казаков. Рисуя живописные пейзажные картины, В.Г. Короленко неизменно соотносит их с приуральцами, с их жизнью и характерами. «Географический фактор» в системе его размышлений — одно из определяющих звеньев. Рассматривая взаимоотношения двух культур (казачьей и природной) очеркист обнаруживает во всех действиях местных жителей «экологическую целесообразность», покоящуюся на незыблемых «нравственных основаниях», закрепленных в фольклорном сознании. Таким образом, многие поэтические средства и приемы народной поэзии входят в арсенал писателя в связи с изображением экологического сознания казаков, а не только как элемент местной эстетики. Отсюда использование В.Г. Короленко олицетворения и параллелизма становится в большей степени не следствием литературной традиции, а попыткой увидеть «казачью страну» глазами самих уральцев. Природные ритмы писатель пытается уловить и в песенном фольклоре, «вписывая» отдельные строчки в реальный пейзаж. Природа одухотворена и сопричастна человеку, его мыслям и чувствам. Исходя из этой посылки создана и общая пейзажная композиция произведения: отдельные зарисовки и развернутые картины связаны логически и психологически и представляют собой параллельное авторскому повествование, которое, при всей своей условности, усиливает общий художественный эффект. В.Г. Короленко не ограничивается созданием цельных картин, он мастерски оперирует и отдельными пейзажными образами, главными среди которых являются Урал (Яик) и степь. Исходя из их фольклорной трактовки, он варьирует значения образов в зависимости от контекста, обогащает их новыми смысловыми оттенками. Так, в целом ряде эпизодов природные явления включаются в параллель с социальными.
Важнейшие в жизни уральцев природные реалии неизбежно символизировались, поэтому степь и Урал в определенных ситуациях именно символы. Реалистическое типизирование действительности делало для Короленко необходимым использование символики. При этом вся символическая система уральских очерков глубоко фольклорна. Большинство символов писатель непосредственно заимствует из речевой стихии уральцев и варьирует лишь их смысловые оттенки (Петербург, орда, фрунтовый строй, сурьезное войско). Однако есть в очерках и собственно авторские символы, необыкновенно яркие и выразительные. К таковым следует в первую очередь отнести старые осокори и степной песок, олицетворяющие соответственно «сурьезное» войско и неумолимое время. Несмотря на очевидную литературную природу и того и другого, они органично сливаются с уральской символикой. Кроме того, «литературность» символов обеспечивает некую преемственность в развитии сквозных образов в русской литературе XIX века. Некоторые исконно фольклорные символы подвергаются в контексте очерков дополнительной метафоризации, образно выражая субъективные ощущения автора. Например, туман, дождь и мгла символизируют у Короленко то «туманные дали» далекого прошлого, то загадочные явления жизни в «казачьей стране», то саму «непроницаемую» натуру казаков.
Являясь своеобразным итогом в творчестве В.Г.Короленко-очеркиста, произведения уральской очерковой прозы позволяют сделать обобщающие выводы об использовании писателем устной народной поэзии в целом, сформулировать концепцию его творческого метода. Она заключалась в идее синтеза многочисленных находок, накопленных в течение XIX века в русской литературе. Фольклоризм короленковской прозы в свете этого не только оригинальнейшая стилевая черта индивидуального творчества, но и закономерный итог национального литературного процесса за целое столетие. Свидетельствуя о внутренней преемственности отдельных тем, образов и мотивов в творчестве писателя, уральские очерки дают возможность проследить эволюцию мировоззрения и одновременно отражают важнейшие процессы духовной жизни эпохи, неопределенность путей дальнейшего развития.
Таким образом, «У казаков» и «Пугачевская легенда на Урале» могут по праву считаться одним из выдающихся явлений в прозе В.Г. Короленко, заметной вехой в развитии русской реалистической литературы конца XIX — начала XX века.
Список литературы диссертационного исследования кандидат филологических наук Фолимонов, Сергей Станиславович, 2004 год
1. Аверин Б.В. Личность и творчество В.Г. Короленко // Короленко В.Г. Собр. соч.: В 5т.- Т.1.- Л.: Худ. лит., Ленингр. отд.,1989.- С.5-22.
2. Аверин Б.В. Личность и эпоха в «Истории моего современника» Короленко // Русская литература.-1974.- № 2.- С.175-186.
3. Азадовский М.К. История русской фольклористики: В 2т.- Т.1.- М.,1958.- 479с.
4. Акимова Т.М. О поэтической природе народной лирической песни.- Изд-во Саратовского ун-та, 1966.- 172с.
5. Акимова Т.М. О фольклоризме русских писателей: Сб. ст. / Сост. и отв. ред. Ю.Н. Борисов.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001.- 204с.: ил.
6. Алексеев В.А. Очерк.- Изд-во Ленинградского ун-та, 1973.- 84с.
7. Аникин В.П., Круглое Ю.Г. Русское народное поэтическое творчество.- 2-е изд-е, дораб.- Л.: Просвещение, Ленингр. отд., 1987.- 479с.
8. Аникин В.П. Русский фольклор.- М.: Высш. школа, 1987.- 288 с.
9. Аникин В.П. Художественное творчество в жанрах несказочной прозы (к общей постановке проблемы) // Русский фольклор.- Русская народная проза.- Материалы и исследования.- АН СССР. ИР ЛИ (Пушкинский дом).- Т. 13.- Л.: Наука, Ленингр. отд., 1972.-С.6-19.
10. Ю.Архангельская В.К. Очерки народнической фольклористики / Под ред. проф. Т.М. Акимовой.-Изд-во Сарат. ун-та, 1976.- 176с.
11. П.Архангельская В.К. Фольклор в волжских рассказах В.Г. Короленко // Русский фольклор.- Материалы и исследования.- Т.7.- АН СССР. ИР ЛИ (Пушкинский дом).- М.;Л., 1962.-С. 115-128.
12. Афанасьев А.Н. Народные русские легенды.- Т.1.- Легенды, собр. А.Н. Афанасьевым / Под ред. И.П. Кочергина, с прилож. портр. и восп. Афанасьева и двух статей Пыпина.- Изд-во «Молодые силы», 1914.- 232с.
13. Базанов В.В. Поэзия и фольклористика. По материалам литературного архива Александра Прокофьева // Из истории русской советской фольклористики.- Л.: Наука, Ленингр. отд., 1981.- С.22-65.
14. Базанов В.Г. От фольклора к народной книге.- Л., 1983.- 344с.
15. Базанов В.Г. Русские революционные демократы и народознание,- Л.,1974.-558с.
16. Балабанович Е. В.Г. Короленко. 1853-1921 / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича.-М.: Гос. лит. музей, 1947,- 168с.
17. Батороева М.К. Экологическая культура и фольклор // Изв. Сиб. отд. РАН.-История, филология и философия.- 1993.- Вып.1.- С. 19-23.
18. Батюшков Ф.Д. Две встречи с А.П.Чеховым // Литературная Россия.-1974.-№44.
19. Батюшков Ф.Д. Короленко как человек и писатель.- М.: Задруга, 1922.- 124с.
20. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет.- М.: Худ. лит., 1975.- 520с.
21. Белоус P.M. Композиция портретных очерков В.Г. Короленко и русская литературная традиция // Проблема традиций и новаторства в русской литературе XIX начала XX вв.- Межвуз. сб. науч. тр.- Горький, 1981.- С.69-74.
22. Белый А. «Поехал я в Уральск.».- Уральск, 1999.- 276с.
23. Белявская Б.М. В.Г. Короленко и Якутия: Автореф. канд. дисс.- М.,1957.- 32с.
24. Блок А. О романтизме // Блок А. Собр. соч.: В 6т.- Т.4.- Л., 1982.- С. 352-363.
25. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства.- М., 1971.- 543 с.
26. Богданова В.А. Проблема очеркового жанра: Дисс. канд. фил. наук.- МГУ, 1967.- 200с.
27. Бонецкая Н.К. Проблемы методологии анализа образа автора // Методология анализа литературного произведения.- М.: Наука, 1988.- С.60-85.
28. Булушева Е.И. Фольклорные жанры в художественном повествовании романа А.К. Толстого «Князь Серебряный»: Дисс. канд. фил. наук.- Саратов, 1998.- 216с.
29. Буня М.И. В.Г. Короленко в Удмуртии.- Ижевск: Удмуртия, 1982.- 272с.
30. Бялый Г.А. В.Г. Короленко.- 2-е изд-е, пер. и доп.- Л.: Худ. лит., Ленингр. отд., 1983.- 352 с.
31. Бялый Г.А. В.Г. Короленко провинциальный публицист // Уч. зап. Ленинградского ун-та, 1948.- Т. 10.- Вып.З.- С.232-251.
32. Бялый Г.А. Русский реализм конца XIX века.- Изд-во Ленинградского ун-та, 1973.- 168 с.
33. Бялый Г.А. Русский реализм от Тургенева к Чехову.- Л.: Сов. писатель, 1990.-640с.
34. В.Г. Короленко. Жизнь и творчество: Сб. статей / Под ред. А.Б. Петрищева.-П-г.: Мысль, 1922.- 191с.
35. В.Г. Короленко // Русские писатели, XIX век.- Биобибл. словарь: В 2ч.- 4.1: АЛ / Под ред. П.А. Николаева.- 2-е изд-е, дораб,- М.: Просвещение, 1996.- С.368-373.
36. Веревкин М. Точь-в-точь.- Комедия в 3-х действиях.- СПб, 1785.- 49с.
37. Виноградов В.В. О языке художественной литературы.- М., 1959.- 654с.
38. Власова З.И. В.Г. Короленко // Русская литература и фольклор. (Конец XIX века).- Л.: Наука, 1987.- С.305-334.
39. Власова З.И. Рассказы В.Г.Короленко о бродягах и фольклор // Русский фольклор.- Материалы и исследования.- АН СССР. ИР ЛИ. (Пушкинский дом).-Вып.4.- Л., 1959.- С.240-267.
40. Власова З.И. Фольклорно-этнографические интересы В.Г.Короленко 1880-90-х годов: Автореф. дисс. канд. фил. наук.- Л., 1963.- 17с.
41. Власова З.И. Фольклорные записи В.Г. Короленко // Русский фольклор.-Материалы и исследования.- АН СССР. ИРЛИ (Пушкинский дом).- Вып.2.- М.;Л., 1959.- С. 186-219.
42. Волгин В.Г. Очерки по истории социализма.- М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1935.-408с.
43. Восстание Емельяна Пугачева: Сб. документов / Подг. к печати проф. М. Мартынова.- Гос. соц.-экон. изд-во, Ленингр. отд., 1935.- 216с.
44. Выходцев П.С. Советская литература и устное народно-поэтическое творчество. (Методология вопроса) // Русский фольклор.- Материалы и исследования.- Т.7.- АН СССР. ИРЛИ (Пушкинский дом).- М.; Л.,1962.- С.3-25.
45. Гамзатов Г.Г. Писатель и устнопоэтическая традиция (проблемы и суждения) // Фольклор в современном мире: Аспекты и пути исследования.- М.:1. Наука, 1991.- C.l 13-130.
46. Ганина М.А. А.Н. Зырянов (из истории уральской фольклористики и народознания) // Фольклор и литература Урала.- Вып.З.- Пермь, 1976.- С.83-84.
47. Гвоздикова И.М. Казачье население Уральска в начале XIX века // Уральску 375 лет.- Материалы региональной научно-краеведческой конференции.- Уральск, 1988.- С.28-31.
48. Глазов в жизни и творчестве В.Г. Короленко / А.Г. Татаринцев, С.И. Софронова, СЛ. Пашкова и др. Ижевск: Удмуртия, 1988.- 127с.
49. Горелов A.A. Введение // Русская литература и фольклор. (Вторая половина XIX в.).- Л.: Наука, Ленингр. отд., 1982.- С.3-11.
50. Горнфельд А.Г. В.Г.Короленко в его записных книжках // В.Г.Короленко. Записные книжки (1880-1900).- М.: ГИХЛ, 1935.- С.5 53.
51. Горький М. О литературе.- М.:ГИХЛ,1953.- 868 с.
52. Горький М. Собр. соч.: В 30 т.- Т.25.- М.,1953.- 539с.
53. Горячкина М.С. Художественная проза народничества.- М.: Наука, 1970.-216 с.
54. Григорьев Р. В.Г. Короленко.- М.: Госиздат, 1925.- 142 с.
55. Грихин В. Примечания // Короленко В.Г. Собр. соч.: В 6т.- Т.5.- М.: Правда, 1971.- С.509 525.
56. Гусев В.А. Романтическая мечта в творчестве А.П. Чехова // Проблемы художественного мастерства в русской литературе XIX XX вв.- Сб. науч. работ.-Днепропетровск, 1978.- С. 66 — 74.
57. Гусев В.А. Романтические тенденции в русской реалистической литературе конца XIX века (В.М.Гаршин, В.Г.Короленко, А.П.Чехов): Автореф. дисс. канд. фил. наук.- Днепропетровск, 1974.- 27 с.
58. Далгат У.Б. О фольклорно-этнографическом контексте литературного произведения // Роль фольклора в развитии литератур народов СССР.- М.: Наука, 1975.- С.233-247.
59. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4т.- Госуд. изд-во иностр. и нац. словарей.- М.,1955.- Т.1 4.
60. Дерман А. Жизнь В.Г. Короленко.- М.;Л.,1946.- 144 с.
61. Дерман А. Работа В.Г. Короленко над «Историей моего современника» //
62. Звенья.- Сб. материалов и документов по истории лит-ры, ис-ва и общ. мысли XIX века. / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича, A.B. Луначарского.- Т.3-4.- М.;Л.: Академия, 1934.- С.825 852.
63. Днепров В. Идеи времени и формы времени.- Изд-во «Сов. пис.», Ленингр. отд., 1980.- 600 с.
64. Добролюбов; H.A. О степени участия народности в развитии русской литературы // Добролюбов H.A. Собр. соч.: В 6т.- Т.1.- М.;Л., 1934.- С.203-245.
65. Добролюбов H.A. «Слухи»: Газета литературная, анекдотическая и только отчасти политическая. №1. 1 сентября 1855г. // Добролюбов H.A. Избранное.-М.,1984,- С.55-56.
66. Донской Я.Е. В.Г. Короленко. Очерк полтавского периода жизни и деятельности писателя: 1900 — 1921гг.- Харьковское книжное изд-во, 1963.- 216 с.
67. Драгомирецкая Н.В. Автор и герой в русской литературе XIX XX вв.- М.: Наука, 1991.-382 с.
68. Дьяченко И.Ф. К вопросу об эстетических воззрениях В.Г. Короленко // К вопросам русской и национальной филологии.- Вып.7,- Ставрополь, 1973.- С.21-30.
69. Евстратов А.Н. Исторический документ и легенда в художественной системе В.Г.Короленко // В.Г. Короленко и русская литература.- Тез. докл. зон. науч. конф. 28 30 октября 1991г.- Глазов, 1991.- С.30-31.
70. Евстратов А.Н. История и современность в путевых очерках Короленко // Вестник ЗКГУ.- 2001.- №4.- С.25-30.
71. Евстратов А.Н. Путевые очерки В.Г. Короленко: Дисс. канд фил. наук.-М.,1977.- 175 с.
72. Евстратов Н.Г. Русские писатели в Казахстане: Страницы творческих биографий.- Алма-Ата: Жазушы,1979.- 164 с.
73. Емельянова Л.А. Героическая тема в произведениях В.Г.Короленко и русских писателей XVIII века // В.Г. Короленко и русская литература.- Тез. докл. зон. науч. конф. 28-30 октября 1991г.- Глазов, 1991.- С.5-7.
74. Емельянов Л.И. Литературоведение и фольклористика // Взаимодействие наук при изучении литературы.- Л.: Наука, Ленингр. отд.,1981.- С.102-103.
75. Емельянов Л.И. Методологические вопросы фольклористики.- Л., 1978.- 208 с.
76. Еремина В.И. К вопросу о жанровой дифференциации народной символики // Вестник Ленингр. ун-та.- История. Язык. Литература.- Вып. 1.- Л, 1967.- С.34-54.
77. Железнова A.B., Железное В.Ф. Песни уральских казаков.- Пг.,1899.- 179 с.
78. Железнов И.И. Уральцы. Очерки быта уральских казаков: В Зт.- Т.1-3.-СПб,1888.
79. Зобов Ю.С. Крепостные люди в Уральске в первой половине XIX века // Уральску 375 лет.- Материалы per. науч.-краевед. конф.- Уральск, 1988.- С.40-42.
80. Иванова T.B. А.К. Толстой // Русская литература и фольклор. (Вторая половина XIX в.).- Л.: Наука, Ленингр. отд., 1982.- С.286-321.
81. Ивлен Н.П., Щербанов Н.М. Судьба уральского войскового архива // Уральск литературный: Сб. науч. тр. Уральск, 1990.- С.79-87.
82. Изергина Н.П. «Порог» И.С. Тургенева и «Чудная» В.Г. Короленко (к проблеме эстетического идеала и художественного метода) // В.Г. Короленко и русская литература: Межвуз сб. науч. тр.- Пермь: ПГПИ,1987.- С.3-13.
83. Исторические песни XVIII века / Сост. О.Б. Алексеева и Л.И. Емельянов.- Л.: Наука, Ленингр. отд.,1971.- 356с.
84. История всемирной литературы: В 9т.- Т.7.- М.: Наука,1990.- С.7-17.
85. Исупова Г.А. В.Г. Короленко // Русский романтизм.- Уч. пос. / Под ред. проф. H.A. Гуляева.- М.: Высш. школа,1974.- С.311-320.
86. Казаки России. (Прошлое. Настоящее. Будущее) / РАН.- Ин-т этнологии и антропологии им. H.H. Миклухо-Маклая.- Координ.-методол. центр приклад, этнографии.- М.,1992.- 133 с.
87. Казачий словарь-справочник: В Зт.- Т.З.: РАА Ятовь / Сост. Г.В. Губарев. Ред.-изд. А.И. Скрылов.- Репринт, воспроизв. изд. 1969г.- М.: ТО «Созидание», 1992,- 344 с.
88. Каминский В.И. Романтика поисков в творчестве В.Г.Короленко (к вопросу о своеобразии реализма «переходного времени»)// Русская литература.- 1967.- № 4.-С.75-91.
89. Канашкин В.А. И в помыслах, и в чувствах: Пути и перепутья народной мысли.- М.: Сов. Россия,1992.- 512 е.: ил.
90. Карпов А.Б. Памятник казачьей старины. Краткие очерки из истории Уральского войска.- Уральск, 1992.- 108 с.
91. Келдыш В.А. Русский реализм начала XX века.- М.: Наука, 1975.- 280 с.
92. Ким Г.П. Социально-промысловые и этнографические мотивы в фольклоре уральских казаков // Вестник ЗКГУ.- 2000.-№3.- С.56-63.
93. Книппович Е.Ф. Художник и история: Статьи.- М.: Сов. пис.,1968.- 432 с.
94. Колесницкая И.М. Русские предания и легенды в публикациях 1860 -1870-х годов // Русская народная проза.- Русский фольклор.- Материалы и исследования.-Т.13.- РАН. ИР ЛИ. (Пушкинский дом).- Л.: Наука, Ленингр., отд., 1972.- С.20-39.
95. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе XIX-XX вв.- М.: Изд-во МГУ,1990.- 336 с.
96. Колосов Г.В. Проблема сюжета и композиции в очерке // Филологич. сб. Мин. образ. Каз. ССР.- Вып.З.- Алма-Ата, 1964.- С.47-54.
97. Корниенко Н.Г. Черты романтического метода в «Сибирских рассказах» В.Г. Короленко // В.Г. Короленко и русская литература: Межвуз. сб, науч. тр.- Пермь: ПГПИ, 1987.-С.З 8-48.
98. Короленко В.Г. в воспоминаниях современников.- ГИХЛ, 1962.-656 с. Ю1.Короленко В.Г. Дневник.- Т. 1.- Харьков, 1925.- 304 с.
99. Короленко В.Г. Записные книжки (1880 1900).- М.: ГИХЛ,1935.- 524 с.
100. Короленко В.Г. Земли! Земли! Мысли, воспоминания, картины // Новый мир.-1990.- №1.- С.168-200.
101. Короленко В.Г. О литературе.- М.:ГИХЛ, 1957.- 716 с.
102. Ю5.Короленко В.Г. Полн. собр. соч.: В 9т.- Т.6.- С.-П.: Изд-во Тов-ва А.Ф. Маркса, 1914.- 458 с.
103. Юб.Короленко В.Г. Собр. соч.: В Ют.- М.: ГИХЛ,1953-1956.- Т.1-10.
104. Короленко C.B. Десять лет в провинции. О В.Г. Короленко. Предисл. Г.А. Вялого .- Ижевск: Удмуртия, 1966.- 220 с.
105. Ю8.Короленко С.В. Книга об отце. В.Г. Короленко. Предисл. А. Западова.-Ижевск: Удмуртия, 1968.- 382 с.
106. Ш.Коротин Е.И. Тема «уходцев» в фольклоре и литературе яицких (уральских) казаков // Вестник ЗКГУ.- 1998.-№1.- С.25-32.
107. Коротин Е.И., Щуров В.М. Не один казак гулял. (Фольклорный ансамбль уральских казаков).- Уральск: Диалог, 1991.- 128 с.
108. Коротин O.E. Исторические реалии в песенном фольклоре уральских казаков // Фольклор Приуралья: Сб. науч. тр. ЗКГУ.- Уральск, 1997.- С.201-204.
109. Котов А.К. Статьи о русских писателях.-2-е изд.- М.: Худ. лит., 1986.- 206 с.
110. Кочетов В.Н. Шишков и устное народное поэтическое творчество.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.- 65 с.
111. Кравцов Н.И. Русская проза 2-ой половины XIX века и народное творчество.-Изд-во МГУ, 1972.- 142с.
112. Криничная H.A. Персонажи преданий: Становление и эволюция образа.-Л.,1988.- 192 с.
113. Криничная H.A. Русская народная историческая проза. Вопросы генезиса и структуры / Отв. ред. В.К. Соколов.- Л.: Наука, Ленингр. отд., 1987.- 232 с.
114. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учеб. пособие.- М.: Высш. школа, 1982.- 272 с.
115. Кругляшова В.П. Социально-утопические предания и легенды на горнозаводском Урале // Фольклор народов РСФСР.- Вып.1.- Уфа, 1974.- С.98-107.
116. Кулик Л.С. Сибирские рассказы В.Г. Короленко.- Киев: Изд-во АН УССР, 1961.- 60 с.
117. Лазутин С.Г. Взаимодействие литературы и фольклора: аспекты и методы изучения // Фольклор в современном мире: Аспекты и пути исследования. М.: Наука, 1991.- С. 103-112.
118. Лазутин С.Г. Поэтика русского фольклора.- М.: Высш. школа, 1981.-221 с.
119. Латухина H.A. Народно-героическая эпопея В.Я.Шишкова «Емельян Пугачев»: Дисс. канд. фил. наук.- Саратов, 1954.- 210 с.
120. Ленодль Г. Писатель и его работа. Вопросы психологии творчества и художественного мастерства.- М.: Сов. пис., 1966.- 396 с.
121. Лимонов Ю.А. Пугачев и пугачевцы.- Л.,1974.- 188 с.
122. Лихачев Д.С. Земля родная.- М.: Просвещение, 1983.- 256 с.
123. Малеча Н.М. Говоры Приурального района Западно-Казахстанской области Каз.ССР // Уч. зап. Уральского Каз. ПИ им. А.С.Пушкина. -Вып.1.- Уральск, 1947.1. C.l-14.
124. Манн Ю. Динамика русского романтизма.- М.,1995.- 384 с.
125. М. Горький и В. Короленко: Сборник материалов.- М.: ГИХЛД957.- 288 с.
126. Меднис Н.Е. Сибирские рассказы В.Г. Короленко в контексте русской литературы и культуры XIX века // Сибирские страницы жизни и творчества В.Г. Короленко.- Новосибирск: Наука,1987.- С.54-63.
127. Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. / Под ред. Б.Ф.Егорова.- Саратов, 1980.- 296 с.
128. Миксон Е.К. Короленко и народное творчество: Автореф. дисс. канд. фил. наук.- Харьков, 1954.- 24 с.
129. Миронов Г.М. Короленко.- М.: Мол. гвардия, 1962.- 367 с.
130. Могилянский А.П. Романисты 1880-1890-х годов // История русского романа: В 2-х т.- Т.2.- М.;Л.,1964.- С.390-415.
131. НЗ.Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора: Хрестоматия.- М.: Высш. шк., 1977.-296 с.
132. Мякушин Н.Г. Сборник уральских казачьих песен / Собрал и издал Н.Г.Мякушин.- СПб, 1890.- 289 с.
133. Негретов П.И. В.Г. Короленко. Летопись жизни и творчества: 1917-1921 / Под ред. A.B. Храбровицкого.- М.: Книга, 1990.- 287 с.
134. Нб.Неизвестные письма В.Г.Короленко М.Е. Верушкину. (Публикация Н.Г.Евстратова) // Русская литература.- 1963.- № 2.- С. 168-174.
135. Некрылова А.Ф. Очеркисты-шестидесятники // Русская литература и фольклор. (Вторая половина XIX века).- Л.: Наука, Ленингр. отд., 1982. С.131-177.
136. Никонов В.А. Введение в топонимику.- М.: Наука, 1965. 180 с.
137. Новикова А.М. Фольклор и литература (проблемы их исторических взаимоотношений в русской фольклористике)// Фольклор и литература. Проблемы их творческих взаимоотношений: Сб. науч. тр.- М., 1982.- С.3-42.
138. Новиков JI.A. Художественный текст и его анализ.- М.: Русский язык, 1988.-304 с.
139. Описание писем В.Г. Короленко / Сост. В.М. Федорова.- М.,1961.- 659 с. 154.Описание рукописей В.Г. Короленко: Худ. произв., лит.-критич. статьи, историч. и этнографич. работы, зап. книжки, материалы к произв. /Сост. Р.П. Маторина.- М.,1950.- 224 с.
140. Панневиц И.Г. Полифункциональность фольклорных элементов в исторических романах С.П.Злобина «Остров Буян» и «Степан Разин» (статья вторая)// Фольклор народов РСФСР: Межвуз. научный сборник.- Уфа: Изд-во Башкирского гос.ун-та, 1983.- С.134-140.
141. Петров С.М. Исторический роман в русской литературе.- М.,1961.- 223 с.
142. Пигарев К.В. Русская литература и изобразительное искусство. Очерки о русском национальном пейзаже середины XIX в.- М.: Наука, 1972.-124 е.: ил.
143. Пиксанов Н.К. В.Г. Короленко. Идеология творчество // В.Г.Короленко. М., 1928.- С.17-56.
144. Пинаев М.Т., Гущин Ю.Г. Записные книжки и тетради В.Г.Короленко как источник изучения творческой индивидуальности писателя // В.Г.Короленко и русская литература.- Тез. докл. зон. науч. конф. 28-30 октября 1991 г.- Глазов, 1991. С.26-28.
145. Померанцева Э.В. Писатели и сказочники.- М.: Сов.пис.,1988.- 360 с.
146. Померанцева Э.В. Русская устная проза: Учеб. пособие по спецкурсу / Сост.
147. B.Г. Смолицкий.- М.: Просвещение, 1985.- 272 с.
148. Потявина Н.В. Символика в солдатских песнях // Художественные средства русского народного поэтического творчества.- Изд-во Моск. ун-та.- М., 1981.1. C.43-52.
149. Пропп В.Я. Поэтика (фольклора): Собрание трудов.- М.: Лабиринт, 1998.-352с.
150. Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избр. статьи.- М.,1976.- 326 с.
151. Пугачевщина.- М.;Л., 1926-1931.- Т.2.- 496 с.
152. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура.- СПб, 1994,- 240 с.
153. Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 16т.-М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1949.
154. Розанов В.В. В темных религиозных лучах: Русская церковь и другие статьи.-М.,1994.- 476 с.
155. Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. / Гл.ред. «
156. ПЛ.Николаев. М.: Большая Российская энциклопедия. — (Русские писатели XI-XX вв.).- Т.З : К-М. — 1994. — 592с.: ил.
157. Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И. Клибанов.- М.: Политиздат, 1989.- 719 с.
158. Савушкина Н.И. Постижение глубин фолыслоризма // Фольклор в современном мире: Аспекты и пути исследования.- М: Наука,1991.- С.93-103.
159. Селиванова C.B. Народная русская легенда: истоки и трансформации // Русский фольклор.- Материалы и исследования.- Т 30.- РАН. ИРЛИ (Пушкинский дом).- С.-П.:Наука, 1999.- С.164-175.
160. Соколова В.К. Русские исторические предания.- М.: Наука,1970.- 320 с.
161. Соколов Н.И. Русская литература и народничество. Литературное движение 70-х годов XIX века.- Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968.- 254 с.
162. Софронова С.И. Русская история в произведениях В.Г.Короленко // В.Г.Короленко и русская литература.- Тез. докл. зон. науч. конф. 28-30 октября 1991 г.- Глазов, 1991.- С.28-30.
163. Суперанская А.В. Что такое топонимика? / Отв. ред. акад. Г.В. Степанов.- М.: Наука, 1985.- 182 с.
164. Трофимов В.М. Историко-философское и социально-эстетическое значение казачьей песни в эпопее «Тихий Дон» М. Шолохова // Фольклорная традиция в русской литературе: Сб. науч. тр.- Волгоград, 1986.- С.108-115.
165. Фетисов М.И. Литературные связи России и Казахстана в 30-е 50-е годы XIX века.- М., 1956.- С.35-62.
166. Фокии Н.И. К истории создания «Капитанской дочки» А.С.Пушкина.1. Уральск, 1957.- 124 с.
167. Фокин Н.И. Уральск православный. Эпизоды местной духовной и социальной истории.- Ульяновск: Ул.ГТУ,2002.- 280 с.
168. Фольклор крестьянской войны 1773-1775 годов. К 200-летию пугачевского восстания: Сб. науч. статей.- JI.,1973.- 104 с.
169. Фортунатов Н.М. В.Г. Короленко в Нижнем Новгороде: 1885 1896.-Горысий: Волго-Вятское книж. изд-во,1986.- 159 е.: ил.
170. Хализев В.Е. Художественный мир писателя и бытовая культура (на материале произведений Н.С. Лескова) // Контекст-1981: Литературно-теоретические исследования.- М.: Наука, 1982.- С.110-145.
171. Хохлов Г.Т. Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство» / Предисл. В.Г.Короленко // Записки РГО по Отделению этнографии.- Т.28.- Вып.1.-СПб, 1903.- 112 с.
172. Цилевич Л.М. Принципы анализа литературного произведения // Филологические науки.- 1988.- №1.- С.9-13.
173. Цой Е.П. О ритме авторской речи в повести В.Г.Короленко «Слепой музыкант» // Русская литература: Сб. науч. тр. Алма-Ата, 1972.- С.48-52.
174. Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII- XIX вв.- М.: Наука,1967.- 344 с.
175. Чичерин A.B. Очерки по истории русского литературного стиля. Повествовательная проза и лирика.- 2-е изд., доп.- М.: Худ. лит.,1985.- 447 с. 192.Чичерин A.B. Ритм образа. Стилистические проблемы.- 2-е изд., расшир.- М.: Сов. пис.,1980.- 336 с.
176. Шептаев Л.С. Топонимический фольклор // Проблемы изучения русского народного поэтического творчества (фольклорно-литературные влияния).-Республиканский сборник.- Вып.5.- М.,1978.- С.136-155.
177. Щербанов Н.М. В.Г.Короленко и фольклорно-этнографическое наследие
178. И.И.Железнова // Фольклор Урала.- Литература и фольклор.- Свердловск, 1976.-С.48-61.
179. Щербанов Н.М. И.И. Железное фольклорист и этнограф: Автореф. дисс. канд. фил. наук.- Изд-во Моск. ун-та, 1976.- 18 с.
180. Щербанов Н.М. Неосуществленный замысел В.Г.Короленко. Роман «Набеглый царь» // В.Г.Короленко и русская литература.- Тез. докл. зон. науч. конф. 28-30 октября 1991 г.- Глазов, 1991 г.- С.31-33.
181. Щербанов Н.М. Пушкин в Уральске.- Уральск, 1999.- 78 с.
182. Щербанов Н.М. Уральские страницы русской литературы // Вестник ЗКГУ.- 1998.- №3.- С.89-94.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.






















